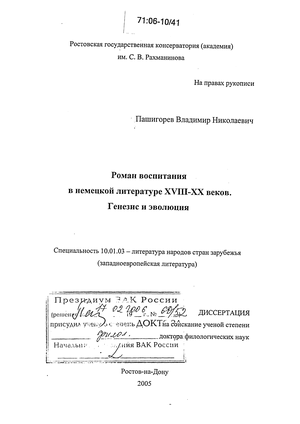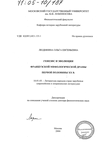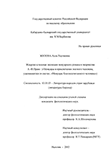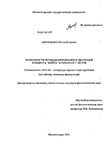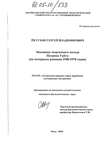Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Философские и литературные предпосылки и традиции немецкого романа воспитания стр. 30
Глава II. Развитие романа воспитания в эпоху Просвещения: стр. 74
а) «История Агатона» К. М. Виланда;
б) Эстетическая иллюзия и продуктивное существование («Годы учения Вильгельма Мейстера» Гете).
Глава III. Роман воспитания в эпоху романтизма: стр. 109
а) Романтическая полемика с Гете в произведении Ф. Шлегеля «Люцинда»;
б) Проблема свободы и внутренней гармонии личности в романе Фридриха Гельдерлина «Гиперион»;
в) Фигурализм как элемент поэтики в романе воспитания Жан-Поля (Рихтера) «Титан»;
г) Искусство и жизнь в романе воспитания Людвига Тика «Странствования Франца Штернбальда»;
д) Мистификация реальности и контрапункт идей у Новалиса (Фридриха фон Гарденберга) в романе воспитания «Генрих фон Офтердинген»;
е) Дуализм Э. Т. А. Гофмана. Фантастическое единение идеального и реального. Гротескно-пародийный роман воспитания «Житейские воззрения кота Мурра».
Глава IV. Проблема дуализма личности гражданина и демократа как выражение распада идеалистического сознания у Готфрида Келлера («Зеленый Генрих») стр. 166
Глава V. Антитоталитарный роман воспитания в немецкой литературе 20-х-40-хгодов: стр. 195
а) Томас Манн. Концепция «нового гуманизма» как средство обновления романа воспитания («Волшебная гора», «Иосиф и его братья»);
б) «Жизнь активная» и «жизнь созерцательная» в романе Германа Гессе «Игра в бисер».
Глава VI. Роман воспитания в литературе послевоенной Германии: стр. 277
а) Мифологизированный герой как инвариант мифа о «новой жизни» («Чудодей» Э. Штриттматтера, «Остановка в пути» Г. Канта);
б) Гротеск и пародия как средства сатирической дискредитации романа воспитания (Гюнтер Грасс: «Жестяной барабан»).
Заключение стр. 298
Библиография стр. 306
- Философские и литературные предпосылки и традиции немецкого романа воспитания
- «История Агатона» К. М. Виланда;
- Романтическая полемика с Гете в произведении Ф. Шлегеля «Люцинда»;
Введение к работе
Роман воспитания - традиционная разновидность жанра романа, в эволюции которой проступает одна из магистральных линий развития немецкой романистики на протяжении нескольких столетий. Уходя своими истоками в глубь времен, в рыцарские повествования средневековья и плутовской роман барокко XVII века, он получил законченную классическую форму в творчестве великих просветителей Германии К. М. Виланда и И. В. Гете. Традиция Bildungsroman нашла затем продолжение в произведениях немецких романтиков первой четверти XIX века, у реалистов прошлого и современности. Характерно, что уже с первых этапов своего существования роман воспитания активно выступил провозвестником нравственной свободы и гармонического развития личности, высоких гуманистических идеалов.
Bildungsroman - предмет пристального внимания отечественных и немецких ученых. Его проблематике посвящена обширная научная литература. Структура и специфика жанровой разновидности, ее философская и художественная природа, генезис и эволюция - основные теоретические аспекты многих работ.
Так, М. М. Бахтин в книге «Вопросы литературы и эстетики» рассматривает проблематику романа воспитания. Исследователь сопоставляет «роман испытания» и «роман воспитания», подчеркивая, что первый «исходит из готового человека и подвергает его испытанию с точки зрения также готового уже идеала», тогда как роман воспитания «противопоставляет ему становление человека... Жизнь с ее событиями служит уже не пробным камнем и средством испытания готового героя... Теперь жизнь с ее событиями, освещенная идеей становления, раскрывается как опыт героя, школа, среда, впервые формирующие характер героя и его мировоззрение»1 (выделено мною. - В. П.). Таким образом, по мысли М. М. Бахтина, роман воспитания - это художественная структура, основным органи зующим центром которой является идея становления. При этом автор правомерно отмечает зыбкость границ, отделяющих роман испытания от романа воспитания, поскольку основополагающие идеи обеих родственных разновидностей взаимосвязаны.
В монографии «Эстетика словесного творчества» М. М. Бахтин прослеживает эволюцию нескольких романных разновидностей: роман странствий, роман испытания героя, роман биографический и автобиографический, роман воспитания. Резюмируется, что в романе странствий, «временные категории разработаны крайне слабо», «становления, развития че-ловека роман не знает» , В романе испытания «герой дан всегда как готовый и неизменный. Все качества его даны с самого начала и на протяжении романа лишь проверяются и испытываются», однако в этом типе романа «дается развитый и сложный образ человека, имевший громадное влияние на последующую историю романа» . Важной особенностью романа испытания, по М. М. Бахтину, является разработка категории времени - «психологическое время», однако «между героем и миром нет подлинного взаимодействия; мир не способен изменить героя», «проблема взаимодействия субъекта и объекта, человека и мира в романе испытания не поставлена»4.
В «биографическом романе», подчеркивает ученый, отсутствует принцип становления, развития, «меняется, строится, становится жизнь героя, его судьба, но сам герой остается, по существу, неизменным», возникает понятие «биографического времени», но «события формируют не человека, а его судьбу (хотя бы и творческую)»5.
Наконец, роман воспитания дает «динамическое единство образа героя», но сам герой, его характер становятся переменной величиной в формуле этого романа. Изменение самого героя приобретает «сюжетное значение», «время вйосится вовнутрь человека, входит в самый образ его», «становление человека совершается в реальном историческом времени с его необходимостью, с его полнотой, с его будущим, с его глубокой хроно-топичностью»6.
М. М Бахтин показывает, что роман воспитания - роман синтетический, подготовленный развитием романа странствий, романа испытания, биографического романа. Этот роман дает образ становящегося человека7, в нем впервые появляется «подлинный хронотоп», времяпространстео . И, следовательно, динамический тип становящегося героя, формирование его личности, хронотоп - важнейшие открытия романа воспитания, имевшие большое значение для всего дальнейшего развития романа.
Своеобразно раскрывает специфику Bildungsroman Л. Пинский в монографии «Реализм эпохи Возрождения». В оценке жанрового своеобразия автор исходит из своей концепции сюжета-фабулы и сюжета-ситуации. Он связывает особенности романа воспитания с общей традицией сюжета-ситуации, заложенной «Дон Кихотом» Сервантеса. Исследователь развивает мысль, что в основе произведений «прометеевской темы» и других классических тем лежит сюжет-фабула. В основе произведений, соотносимых с «Дон Кихотом» «лежит сюжет-ситуация». Другими словами, в произведениях «прометеевской темы» (на сюжет Прометея», Дон-Жуана, Фауста) «каждый новый художник, отправляясь от одной и той же фабулы, но вводя новые сюжетные детали и мотивы, достигает нового - в соответствии со своим временем и своими идейными позициями освещения старой «истории». «Мысль здесь непосредственно переходит от единичного к общечеловеческому, от факта к проблеме», тогда как в романе, созданном на основе сюжета-ситуации, «уже нет тождества героя и фактов его истории, за которой стоит легенда. Фабула и герои - всецело создания художественного вымысла»9. Далее Л. Пинский упоминает «образовательный роман» как жанровую разновидность, построенную по принципу сюжета-ситуации.
В своей монографии «Романтизм в Германии» Н. Я. Берковский рассматривает проблему немецкого романа воспитания в свете концепции филогенеза и онтогенеза. По его мнению, европейский роман XVIII - начала XIX веков «занят был повествованием о том, как строятся быт, семья, общественное и личное благополучие», тогда как «роман воспитания рассказывал о главном: как строится человек, из чего и как возникает его личность». И далее: «Воспитательный роман дает через историю индивидуума историю рода»; «История рода очищается в воспитательном романе через историю индивидуума, обновляется, юнеет через нее»10.
Проблеме немецкого романа воспитания посвящена статья А. Н. Зуева. Автор ставит вопрос о его генезисе и особенностях, обращаясь к наиболее ярким образцам этой разновидности: «Истории Агатона» Виланда, «Годам учения Вильгельма Мейстера» Гете, «Зеленому Генриху» Г. Келлера и др.
Расценивая роман воспитания как немецкую разновидность просветительского романа, связанную с эпохой Просвещения, с его концепцией личности «естественного человека», автор вместе с тем отмечает специфически немецкие, национальные черты, обусловленные культурно-историческими особенностями развития Германии: возвышенный интеллектуализм, постановка темы воспитания бюргера и гражданина, критика феодальной отсталости и т. п.
А. Н. Зуев подчеркивает отличие Bildungsroman от педагогического романа Песталоцци и Руссо с его развернутой системой целенаправленного воспитания. Истоки этой жанровой разновидности исследователь усматривает в немецкой литературе средневековья (рыцарское повествование В. фон Эшенбаха «Парцифаль») и в романе XVII века «Симплицисси-мус» Гриммельсгаузена (психологическая тенденция, интеллектуализм, эволюция героя)11.
Диссертация С. Гинадеу «„Ученические годы Вильгельма Мейстера" Гете - образовательный роман Просвещения» - первая отечественная диссертация о немецком романе воспитания. В ней прослеживается влияние английской романистики XVIII века и - шире - просветительской идеологии в целом на его формирование. Вопреки традиции, С. Гиждеу употребляет термин «образовательный роман», особо не аргументируя его отличие от «романа воспитания». В центре исследования - анализ идейно-художественной структуры романа Гете12.
Большое место теоретическим вопросам немецкого романа воспитания отводится в кандидатской диссертации Р. Дарвиной. В работе анализируются романы «Жестяной барабан» Г. Грасса, «Чудодей» 3. Штрит-тматтера, «Приключения Вернера Хольта» Д. Нолля.
Автор отмечает, что проблема специфики у нас изучена слабо: «отсутствие точного определения жанровой специфики Bildungsroman влечет за собой весьма спорные утверждения о распространенности воспитательного романа в немецкой и других литературах». Не всегда обращается внимание на «коренное отличие воспитательного романа от биографического или автобиографического жизнеописания, от семейного романа. Далее Р. Дарвина предлагает определение: «роман одного героя, развитие которого показано на длительном отрезке времени и как результат взаимодействия различных факторов» . Диссертант указывает на отсутствие единого мнения о смысле трех параллельных терминов - роман развития, роман воспитания, роман образования, которые употребляются произвольно», без дифференциации. Прослеживается связь современного немецкого романа воспитания с традицией плутовского жанра, романа путешествий. «Путь от Тиля Эйленшпигеля до Вильгельма Мейстера - это путь становления классического немецкого воспитательного романа». Р.Дарвина высказывает и спорное суждение, будто «герой воспитательного романа - это средний герой..., который своим постепенным развитием как бы вырисовывает примерный путь развития, которому должен следовать и читатель». Известно, что в немецком романе воспитания главный герой нередко выступает как личность интеллектуальная, неординарная (Генрих Новалиса, Иозеф Кнехт Гессе, Иосиф Прекрасный Т. Манна).
Теоретические проблемы романа воспитания освещаются также в работе А. В. Диалектовой . В резюмирующей части автор дает определение данной жанровой разновидности: «Под термином воспитательный роман прежде всего подразумевается произведение, доминантой построения сюжета которого является процесс воспитания героя: жизнь для героя становится школой, а не ареной борьбы, как это было в приключенческом романе» .
Исследовательница выделяет систему признаков, характеризующих специфику романа воспитания: внутреннее развитие героя, раскрывающееся в столкновениях с внешним миром; уроки жизни, получаемые героем в результате эволюции; изображение становления характера главного героя с детства до физической и духовной зрелости; активная деятельность центрального персонажа, направленная на установление гармонии и справедливости; стремление к идеалу, гармонически сочетающему физическое и духовное совершенство; метод интроспективного изображения событий и допустимость ретроспекции; принцип моноцентрической композиции и ее стереотипность; движение героя от крайнего индивидуализма к обществу и др. При этом автор с самого начала оговаривает невозможность точного определения Bildungsroman, поскольку он, как и все виды и жанры, находится в процессе непрестанного изменения и развития16.
В кандидатской диссертации Н. Кудина «Роман воспитания в литературе ГДР» разрабатывается проблема «нового героя» романа воспитания, его формирования в ходе «социалистического» строительства. Автор исследует процесс рождения «нового сознания» в перспективе борьбы за социализм в Восточной Германии. Диссертация Н. Кудина - первое в нашей науке системное исследование основных тенденций в романе воспитания бывшей ГДР. Вместе с тем, автору не всегда удается дать обстоятельную классификацию произведений, относимых им к роману воспитания. Вопросу о качественно новой структуре так называемого «романа перевоспитания» (Т. Мотылева) в работе Н. Кудина, к сожалению, не уделяется должного внимания. А ведь «роман перевоспитания» - новая структурная разновидность романа воспитания. В ней речь уже идет не о воспитании героя от юных лет до зрелости, а о принципиальной перестройке сознания в ходе борьбы за «новый мир», об освобождении от идеологических стереотипов прошлого. Поэтому герой данного вида романа появляется уже с готовым (тоталитарным) мировоззрением, которое ему предстоит преодолеть в результате перевоспитания.
Интересные мысли в связи с мифологической структурой немецкого романа воспитания содержатся в недавно защищенной кандидатской диссертации Н. Осиновой, посвященной английскому роману воспитания Ч. Диккенса и У. Теккерея. Н. Осипова выделяет четыре мифологемы, к которым он восходит: инициации (мотив испытаний), «потерянного рая» (мотив утраты иллюзий), «блудного сына» и поисков чаши святого Грааля (мотив духовных исканий и сомнений) .В работе предпринимается попытка дефиниции этой разновидности романа: «...это такой роман, в котором воплощается динамический образ личности, входящей в социальный мир и обретающей в нем свое место»18. К сожалению, в этом исследовании, как и в трудах других ученых, не прояснен вопрос об отличии терминов «воспитательный» и «роман воспитания».
Проблеме романа воспитания посвящен рад исследований немецких ученых.
В монографии Мелиты Герхард прослеживается предыстория романа воспитания - вплоть до появления «Истории Агатона» Виланда. Уже в начале книги автор формулирует понимание жанровой разновидности, причем сразу же выявляется терминологическая нечеткость, так как роман воспитания фактически отождествляется с романом развития, рассмотрение которого находится в поле зрения. «Под романами развития будут подразумеваться, - заявляет М. Герхард, - такие повествовательные произведения, которые имеют своим предметом проблему разлада единичного с широко понятым миром, его постепенной зрелости и врастания в мир, что является конечной целью этого пути развития героя»19.
В специальных разделах выясняются истоки романа воспитания, начиная от традиции стихотворного эпоса («Песнь о Нибелунгах»), рыцарского повествования («Тристан», «Парцифаль»), до пикарескного жанра, «Дон Кихота» Сервантеса, «Симплициссимуса» Гриммельсгаузена. Особое место в монографии отводится «Агатону» Виланда -первому немецкому роману воспитания. С появлением «Вильгельма Мейстера» Гете началась новая эпоха в жизни романа воспитания, поскольку почти все романы ХГХ века варьируют тему, впервые поставленную романом Гете" .
Большой интерес представляет статья Фрица Мартини «Роман воспита-ния. К истории слова и теории»" . Автор выявляет историю термина, отмечая, что понятие «Bildungsroman» было введено в литературоведческий обиход известным философом Вильгельмом Дильтеем. Тем не менее, данный термин, по его словам, употреблялся в немецкой критике давно, начиная с 20-х годов ХГХ века. Ф. Мартини посвящает свою статью подробному рассмотрению теоретических взглядов немецкого ученого ХГХ века Карла фон Моргенштерна: его статей «О сущности романа воспитания» и «К истории романа воспитания». Ссылаясь на понимание К. Моргенштерном отличия эпоса от романа, Ф. Мартини заключает, что «генеральная дефиниция романа воспитания сводится к такому пониманию романа, который исследует развитие и образование характера личности и ведет ее от дисгармонического существования к незримой гармонии»22.
В работе польского ученого Губерта Орловского «Исследование фальшивого сознания в немецком романе развития»23 определяются основные фило-софско-эстетические особенности жанровой разновидности. При этом, как и в монографии М. Герхард, наблюдается терминологический разнобой, поскольку речь идет о романе развития, к которому отнесены многие произведения «воспитательного» цикла, Г. Орловский выделяет такие черты сознания героя в рассматриваемом романе развития, как функциональная полярность героя и мира; саморазвитие персонажа как способ формирования его личности; тенденция к гармоническому равновесию «я» и «не - я», субъективное развитие героя как следствие объективной необходимости. Книга отличается теоретической широтой и тонкостью суждений, несмотря на указанные недостатки.
Ценным вкладом в изучение проблемы является монография западногерманского литературоведа Юргена Якобса «Вильгельм Мейстер и его братья. Исследование немецкого романа воспитания» .
Книга Ю. Якобса - одна из первых попыток немецкого литературоведения дать целостное и обобщенное рассмотрение романа воспитания. Монографическое исследование Ю. Якобса отличается широтой историко-литературного и философско-эстетического фона, своеобразной теоретической основой. В работе освещается как предыстория романа воспитания, так и его традиции и развитие.
В разделе «История термина «Bildungsroman» указывается на заслугу В. Дильтея во внедрении термина в литературную науку, представлен интересный материал об его истории.
Так, немецкий литературовед Теодор Мундт выделил в особую разновидность роман воспитания Гете «Вильгельм Мейстер», расценивая его как «великий немецкий роман воспитания»25. Фридрих Теодор Фишер, используя понятие «гуманистический роман», имеет в виду роман Гете «Вильгельм Мейстер» , а Вильгельм Дильтей в своей поздней работе «Переживание и поэзия» уточняет понимание жанровой специфики романа воспитания: «Романы воспитания раскрывают индивидуализм культуры, ограниченной интересами частной жизни»27. Философ отмечает три основных фактора, определивших роман воспитания: а) новую психологию развития Лейбница; б) идею природосообразного воспитания в «Эмиле» Руссо; в) идею гуманности в трудах Лессинга и Гердера28.
Не отрицая, что роман воспитания органично связан с традициями немецкой национальной культуры, Ю. Якобе правомерно отвергает националистические тенденции в оценке его своеобразия29. Ссылаясь на статью Т. Манна «Автобиографический роман» (1916), автор монографии подчеркивает мысль о национальном своеобразии этого типа романа: «Между тем, имеется разновидность романа, которая, впрочем, является немецкой, типично немецкой, законно национальной, и это как раз исполненный автобиографического элемента Bildungsroman. Мне представляется, что господство этого типа романа в Германии, факт его особенной национальной законности теснейшим образом связаны с немецким понятием гуманности, порожденным эпохой, когда общество распалось на атомы, эпохой, которая делала из каждого бюргера человека, эпохой, когда почти совершенно отсутствовал политический элемент» .
Цитируя из диссертации Е. Л. Шталя, Ю. Якобе обращает внимание на то, как диссертант пытается решить вопрос об отличии «романа воспитания» от «романа развития». Если для последнего, по мнению Е. Л. Шталя, характерно отсутствие ориентации на идеальную цель, то в первом проявляется тенденция к осознанному осмыслению действительности31.
Наконец, в работе В. Кайзера, цитируемой Ю. Якобсом, акцентируется специфика жанра как промежуточного, стоящего между «романом фигуры» и «романом пространства» . При этом Ю. Якобе никак не конкретизирует эти понятия.
В разделе «Проблема образования как тема романа» раскрывается различная трактовка слова «Bildungsroman» в работах философов, ученых. По мнению Ю. Якобса, содержание термина «образование» означает цель, идеальное состояние зрелости индивида и протекающий в этом направлении процесс .
Автор монографии приводит также гегелевское толкование понятия: «Процесс развития, через который единичное непосредственно присоединяется ко всеобщему... простая единичность души возвышается через противоположение опосредованной единичности, которая сначала раз •зі вивается от абстрактной всеобщности к конкретной всеобщности» .
Отличительную черту теории романа Г. Лукача Ю. Якобе видит в первую очередь в том, что, вопреки Гегелю, Лукач отрицает «разумность отношений буржуазного строя, расценивая их как безнадежные и неизлечимые». Поэтому в центре романа - разочарование проблематичного персонажа, ведомого пережитым идеалом, в конкретной общественной действительности35. Вслед за Гегелем Лукач определяет цель романа воспитания как «обоюдное самошлифование, привыкание к внешнему миру ранее одинокой и своенравной, ограниченной в себе личности, результатом чего является достижение завоеванной и побежденной зрелости»36. Собственно, по Лукачу, в романе воспитания наблюдается либо идеализация действи тельности в завершающей стадии воспитательной истории, либо акцентируется необходимость приспосабливания, «отречения» и тем самым выступает момент разочарования37.
В резюмирующей части Ю. Якобе замечает, что роман воспитания показывает разногласие центрального героя с различными сферами мира. Господствующий интерес сосредоточен на процессе развития индивида, направленном на сближение с внешним миром, и самопознания. Определяющий критерий рассматриваемого типа романа - тенденция к выравниванию финала, преодоление пропасти между идеалом и противостоящей действительностью, утрата иллюзий, компромиссность финала, гибель или глубокое разочарование героя .
Несомненная значимость исследования Ю. Якобса не исключает, однако, ряда серьезных недочетов и упущений. Обширность изучаемого материала неизбежно приводит автора к обзорности, беглости и фрагментарности. В монографии по-прежнему сохраняется терминологическая неясность, так как к роману воспитания относятся все произведения, содержащие воспитательную тенденцию, педагогические вопросы. Абстрактна и эфемерна теоретическая база работы. Ю. Якобе, в основном, ограничивается обзором точек зрения и лишь в кратком резюме присоединяется к одной из них. Исторические судьбы романа воспитания, творчество немецких писателей, представителей освещаемой жанровой разновидности, рассматриваются с отвлеченных позиций. Так, в книге Ю. Якобса весьма редко можно встретить такие категории, как «гуманизм», «антифашистская тенденция», «прогрессивные взгляды» и т. п.
Одним из обстоятельных монографических исследований романа воспитания является книга западногерманского ученого Рольфа Зельб-манна «Немецкий роман воспитания». В ней ставятся вопросы генезиса понятия «образования» и термина «роман воспитания»39. Автор прослежи вает историю этих категорий от Бланкенбурга до Гегеля, рассматривает литературоведческие дискуссии. Р. Зельбмаин показывает, что понятие «образование» возникло еще во времена позднего средневековья и встречается в трактатах религиозно-мистического содержания, где оно обозначает преображение внутреннего мира человека, обремененного наследственным грехом, внедрение в человека божественного образа40. Симптоматична в этой связи этимология слов «образ» и «образование».
В пиетизме середины XVIII столетия это понятие во многом освобождается от сугубо теологического смысла и трактуется не только как результат воздействия Бога на человека, но и как совокупность имманентных сил, функционирующих в природе и в самом человеке и взаимовлияющих друг на друга. Со своей стороны, просветительская мысль под «образованием» понимает формирование рациональных способностей человека41.
Подтверждая факты, установленные предшественниками, Р. Зельбмаин напоминает, что впервые термин Bildungsroman стал употреблять в своих работах дерптский профессор эстетики Карл Моргенштерн в 20-е годы XIX века. Перу ученого принадлежат три реферата о сущности, истории и происхождении немецкого романа воспитания42. По мысли Морген-штерна, «романом воспитания можно называть эту разновидность, во-первых, вследствие конкретной организации ее материала, ибо этот роман изображает формирование героя от начала жизни до определенной ступени зрелости; во-вторых, благодаря тому, что это формирование способствует воспитанию читателя» .
Роман Гете «Годы учения...» рассматривается им как «парадигма жанра, как превосходнейший его вид, рожденный из нашего времени и для нашего времени»44.
Начало углубленного исследования романа воспитания, по мнению Зельбманна, связано с работами известного немецкого историка культуры и философа Вильгельма Дильтея (1833-1911). Романами воспитания он называет произведения «школы Вильгельма Мейстера», которые показывают «человеческое формирование на различных ступенях, образах, эпохах жизни»45. В. Дильтей выделяет три вида романа воспитания: романы «школы Вильгельма Мейстера», романы романтической группы (Фр. Шле-гель, Тик, Вакенродер, Новалис) и романы о художнике46. В основе концепции романа воспитания В. Дильтея лежат аналогии с теорией естественной эволюции. Вслед за Шлегелем, Моргенштерном и Гегелем, В. Дильтей сравнивает этапы развития органического мира и ступени «созревания» героя. Кроме того, философ обращает особое внимание на роль повествователя, доминирующую в этом жанре, вводит вспомогательное понятие «образовательная история», занимающее, по его мнению, промежуточное положение между мотивом образования и романом воспитания в его классической форме47. Основные тенденции романа воспитания трактуются им в религиозно-католическом духе. Так, процесс воспитания героя жизнью интерпретируется как этапы духовного преображения человека, проходящего путь от «недобровольного изгнания из райского пра-состояния через враждебный, полный искушений, мир к идеалу очищения и возрождения». Поэтому, замечает В. Дильтей, в подтексте романа постоянно присутствует тема «потерянного рая» и настойчивого стремления к его возвращению». Отсюда - резюмирует философ - и тема «блаженных сумерек души» чистого, неискушенного героя в начале романа и его сладкая мечта о вожделенной гармонии48.
Немецкий литературовед Г. Г. Борхерд, как бы уточняя и развивая мысль В. Дильтея, во втором издании своего «Реального лексикона» вычленяет «три фазы» романа воспитания: «юные годы», «годы странствий» и «очищение», «облагорожение». Анализируя «Годы учения...», исследователь разрабатывает, таким образом, своеобычную схему-триаду49.
В разделе «Опыт определения жанров» Р. Зельбманн пытается провести разграничение понятий «образовательная структура», «образовательная история» и «образовательный роман». Однако дать четкую классификацию и дифференциацию ему также, к сожалению, не удается.
Предшественниками немецкого романа воспитания Р. Зельбманн считает «Сентиментальное путешествие по Германии» Шуммеля, «Историю Петера Клаузенса» Книгге, «Комический роман» Хеграда и др.
В книге Р. Зельбманна представлена обширная библиография.
Как и для монографии Ю. Якобса, для работы Р. Зельбманна характерна терминилогическая сбивчивость, отсутствие классификации и необходимого в связи с этим теоретического аппарата. Вопросы немецкого антитоталитарного романа воспитания в монографии почти не освещаются. О романе воспитания ФРГ говорится вскользь. Исследование Р. Зельбманна дает широкую информацию по данной теме, но кардинальные теоретические проблемы, в целом, остаются нерешенными.
Таким образом, несмотря на наличие множества работ по данному вопросу, он до сих пор недостаточно изучен в литературной науке. Это проявляется, например, в отсутствии дифференцированного подхода к изучению жанровой специфики романа воспитания, в различной трактовке его философской и художественной природы, терминологической непоследовательности и противоречивости, в различной методологической ориентации.
Эволюция, исторические судьбы и философско-эстетическое своеобразие немецкого романа воспитания пока еще не получили обстоятельного монографического освещения. Цель настоящей работы выявить осо бенности этой романной разновидности как целостного явления, проследить этапы ее движения и развития, ракрыть ее социально-историческую детерминированность и идейно-тематическое богатство, определить ее роль и место в истории немецкой литературы.
Предлагаемое исследование не претендует на исчерпывающее раскрытие темы, представляя попытку разработки некоторых ее аспектов: художественного метода творцов немецкого романа воспитания, их фило-софско-эстетических концепций, их отношения к традициям немецкой и мировой культуры.
В ходе рассмотрения этих проблем автор руководствовался следующими соображениями. Во-первых, в поле зрения исследователя оказываются, прежде всего, романы, наиболее отчетливо выражающие философскую идею образования и формирования личности героя, интеллектуальную концепцию, И это не случайно: интеллектуальная структура глубоко раскрывает национальную специфику этого типа романа, его сущность и органическую связь с немецкой культурой в целом. Интеллектуально-философская разновидность романа воспитания расценивается как духовный феномен сугубо немецкого происхождения, не имеющий прямых аналогов в других европейских литературах, несмотря на то, что в английском литературоведении употребляется, как известно, термин «Bildungsroman» для обозначения английского варианта романа воспитания50.
Во-вторых, автор учитывает существование других модификаций романа воспитания в самой немецкой литературе и предлагает их классификацию в зависимости от структуры, сюжета и концепции героя: социально-политический («Прощание» И. Бехера, «Верноподданный» Г. Манна). Доминантой сюжета здесь выступает история воспитания революционера-борца (молодой Гастль). Особняком стоит «Верноподданный» Г. Манна как сатирический антитоталитарный роман, созданный под влия ниєм традиций французского «романа карьеры», изображающий «путь наверх» политического карьериста Дидериха Геслинга; роман об обществе, сюжетной основой которого является воспитание определенных гражданских и общественных чувств («Предчувствие и действительность» И. Эй-хендора, «Эпигоны» К. Иммермана); роман о художнике, дающий историю становления поэта, художника в духе той или иной эстетической программы («Игра в бисер» Г. Гессе, «Живописец Нольтен» Э. Мерике, «Доктор Фаустус» Т. Манна); романы-пародии, представляющие сатирическое обыгрывание и дискредитацию основных элементов романа воспитания («Житейские воззрения кота Мурра» Э. Т.А. Гофмана, «Жестяной барабан» Г. Грасса). По известному определению Б. Томашевского, «пародия достигается несоответствием стиля и тематического материала речи, ибо, являясь жанром литературно-художественной имитации, сохраняя форму оригинала, вкладывает в нее новое, контрастирующее содержание, что по-новому освещает пародируемое произведение и дискредитирует его»51. Эту разновидность романа точнее можно квалифицировать как роман антивоспитания; исторический роман, представляющий становление гуманистической личности как основную тенденцию движения истории (историческая дилогия Генриха Манна о Генрихе IV). И, наконец, интеллектуальный, являющийся объектом изучения настоящей работы.
Автор не склонен, далее, отождествлять термины «роман развития» и «роман образования», помня известное возражение Гете на этот счет. По мысли Гете, не всякое развитие увенчивается «образованием», ибо образование - этап сущностного, качественного, имманентного изменения всей структуры явления, знаменательный поворот в развитии мира и каждой со особи . Конечно, великий просветитель имел в виду, прежде всего, естественно-научные проблемы, однако, очевидно также семантическое и философское различие терминов . Хотя в исследуемых произведениях эволю ция главного героя соотносится с идеалом образования, т. е. формирования в широком философском смысле, данное исследование сохраняет традиционный и более употребительный термин «роман воспитания», принимая во внимание, что термин «роман образования» фактически не прижился в нашем литературоведении и звучит несколько тяжеловесно с точки зрения норм русского языка. Но под «воспитанием» в этом случае подразумевается сложный духовно-социально-нравственный процесс в соответствии с интеллектуальной программой романиста.
Метод дифференцированного объяснения жанрового своеобразия «романа развития», «романа воспитания» и «романа образования» является основополагающим в данной работе.
В основу этой дифференциации положена модифицированная гегелевская гносеологическая концепция трехступенчатое™ познавательного процесса54 и, соответственно, трех различных уровней и способов самораскрытия Свободной воли индивида. При этом под «Свободой» понимается максимальное саморазвертывание динамического духа, духовных и физических возможностей, изначально заложенных в человеке Богом -Природой, что является высшим предназначением и смыслом формирования личности, ее Идеальной Целью и Миссией. Не следует, разумеется, абсолютизировать, каждую из отдельных ступеней, так как и в действительности, и в произведении искусства наблюдается их определенная диффузия, взаимопроникновение. Речь может идти о доминировании (превалировании) той или иной частей «триады».
Так, для «романа развития» (der Entwicklungsroman) характерен интуитивно-сенсорный способ самореализации героя, т. е. Предвосхищение, предчувствие им Идеальной Цели (Гармонии Духа и Жизни). Таков, на пример, с некоторыми оговорками, «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенба-ха, где святой Грааль символизирует манящий героя Идеал Божества, Света, Добра, Милосердия, что составляет конечную цель всех его стремлений, является побудительным стимулом раскрытия всех его духовных потенций.
«Роман воспитания» (der Erziehungsroman) зиждется на более осложненном фундаменте этой самореализации. Он демонстрирует дискур-сивно-дидактический уровень саморазвития Свободной Воли героя, приближающий его, благодаря рассудочно-назидательному менталитету, к осознанию и осмыслению Идеальной Цели. Такова, к примеру, историческая дилогия Генриха Манна с ее настойчиво декларируемой Идеальной конечной Целью Генриха IV - идеей «народного короля», олицетворяющего союз Духа и Действия. Явственное морализирование, особенно в 1-й части дилогии, обилие пространных рассуждений-дискурсов раскрывает духовные искания персонажа, этапы познания и самопознания, воспитания в духе «нового гуманизма».
Наконец, «роман образования» (der Bildungsroman), являющийся объектом настоящего исследования, представляет синтетическую ступень динамического саморазвития духовной субстанции личности, на высшем, интеллектуально-мифопоэтическом уровне (иногда с отчетливой утопической тенденцией). Персонаж постигает Идеальную Цель в мифологическом времени-пространстве с их универсальной временной дискретностью и надвременностью. Эта ступень — не что иное, как апофеоз формирования, «образования» героя, постижения им искомого гармонического Идеала.
При этом следует иметь в виду, что перевод на русский язык немецкого термина «Bildungsroman» как «воспитательный роман» является неадекватным и должен быть заменен на «роман воспитания» («образования») с учетом семантических особенностей русского прилагательного «воспитательный». Например, «Словарь русского языка» (АН СССР, Институт русского языка. М., 1985. Т. 1) трактует прилагательное «воспита тельный» как относящееся к существительному «воспитание» только в 1-м значении: «вырастить, дать образование, привить какие-либо навыки, правила поведения» («воспитательное учреждение», «воспитательное мероприятие» и т. д.), с. 215. Речь идет, следовательно, преимущественно о педагогическом аспекте термина, тогда как термины «роман воспитания» и «роман образования» акцентируют идею воспитания во 2-м и 3-м значении - как формирование личности в широком философско-нравственном плане, что весьма важно для понимания сущности исследуемой разновидности немецкого романа.
Если структурные элементы «романа развития» присущи всякому роману, так как проистекают из закономерности самой действительности, то элементы структуры романа воспитания органично внедряются в структуру образования, составляя высший синтез и кульминацию формирования героя. Можно утверждать, что «роман образования» есть квинтэссенция структуры романа развития и романа воспитания, рождение качественно новой интеллектуальной структуры. Разумеется, это соединение ни в коей мере не умаляет самостоятельность и специфику каждой отдельно взятой разновидности.
Принципиальное значение для понимания жанровой природы романа воспитания имеет мысль М. М. Бахтина о том, что Bildungsroman является детищем и продуктом переходных и переломных эпох, когда человек «отражает в себе историческое становление самого мира... на рубеже двух эпох, в точке перехода от одной к другой, когда «меняются устои мира и человеку приходится меняться вместе с ним»55. Исходя из убеждения, что роман - непрестанно становящаяся и обновляющаяся свободная форма, автор квалифицирует роман воспитания как структурно-типологический феномен с присущими ему жанрообразующими признаками. Под романом воспитания понимается инвариант немецкого мифа о правдоискателе, взы скующем и вопрошающем персонаже56, разновидность, в основе сюжета которого лежит философски детерминированная идея формирования личности героя. При этом миф рассматривается не как «схема или аллегория, а как символ, в котором встречающиеся два плана бытия неразличимы и осуществляется не смысловое, а вещественное, реальное тождество идеи и вещи (подчеркнуто мною - В. 77.), как бытие личностное, личностная форма, самосознание, интеллигенция личности»57, как «в словах данная чудесная личностная история58, а сама личность как «осуществленный символ и осуществленная интеллигенция»59. Эта личность существует одновременно в конкретно-историческом и внеисторическом времени и пространстве, вступает в конфликты с внешним миром и с собственными чувствами и стремлениями, идет от инфантильно-индивидуального к гармоническому существованию.
Мифологизация, представляющая принципиальный интерес для данной работы, есть не что иное, как «создание наиболее семантически богатых, энергетичных и имеющих силу примера образов действительности»60, ибо «мифопоэтическое являет себя как творческое начало эктропической направленности, как противопоставление энтропического погружения в бессловесность, немоту, хаос» \ как «высшая форма духовного творчества»62. Другими словами, мифологизация - это подключение реального, конкретно-исторического потока жизни к универсально-вечному, надвре-менному и вневременному началу Бытия.
Вместе с тем, перефразируя Томаса Манна, можно заключить, что миф есть «„фундамент жизни", вневременной Символ, в который уклады-вается жизнь, воспроизводя из бессознательного свои черты» . И далее:
«Миф - это легитимация жизни: только через него и в нем находит она свое самоосознание, свое оправдание и святость» .
По глубокому наблюдению Е. Мелетинского, «пафос мифологизма... в выявлении неких неизменных, вечных начал... Мифологизм повлек за собой выход за социально-исторические и пространсвенно-временные рамки. Мировое Время истории превращается в безвременный мир мифа, что находит выражение в пространственной форме»65.
Весьма существенно и то обстоятельство, что «миф - это не жанр, а непосредственная форма познавательного процесса. Сам собой миф [...] представляет только мировосприятие»66.
И, следовательно, в рассматриваемом виде романа, в большей или меньшей степени, отсутствует временная и модальная дискретность, поскольку изображаемые события существуют в различных временных срезах и модальных планах, составляют единую художественную субстанцию, и налицо мифологическое время, когда совмещаются категории прошлого, настоящего и будущего.
Как инвариант мифа, роман воспитания представляет стереотипную художественную организацию с повторяющимися и эволюционирующими структурами воспитания и представления. Как показывает Н. Рымарь, «жанровая концепция фабулы в романе носит двойственно-противоречивый характер, она сочетает в себе, с одной стороны, привязанность к определенным «романическим» формам понимания и оценки человека и основных ситуаций его жизни, начиная от сказочно-мифологических... и кончая такими традиционными для романа сюжетами, как история любви, история молодого человека, пикарескный сюжет, сюжет романа воспитания, сюжет «романа карьеры». С другой стороны, эти схемы коллективного сознания не просто воспроизводятся, как в эпосе, а каждый раз как бы заново рождаются в ходе свободного развития, развертывания вымышленного героя, созданного фантазией автора»67.
Роман воспитания апеллирует ко всеобщим, тотальным, надвре-менным тенденциям бытия, не утрачивая, однако, связи со своим временем, своей эпохой. Изменяясь и эволюционируя, он не изменяется в своей сущности, сохраняет свою первичную основу, первичный принцип становления, пафос правдоискательства. Изменяются хронотоп романа и социальный статус героя, отдельные элементы фабулы и сюжета, но неизменным оказывается тип героя, сюжета, жанра. Говоря словами Гете, перед нами миф, который постоянно обновляется, так что дает возможность встретить давних знакомых в новом обличье, а с другой стороны, может быть принят за «старую сказку», между тем как она произошла в непосредственной близости от нас68.
Форма романа воспитания более стабильна и статична, содержание более динамично и подвижно.
Немецкий роман воспитания, классические образцы которого представляют «История Агатона» Виланда и «Годы учения Вильгельма Мей-стера» Гете, - это роман о формировании мировоззренческой позиции героя в результате уроков жизни, практического опыта, о многообразных и мучительных поисках смысла жизни, положительной программы. Поэтому метаморфозы и модуляции сознания персонажа, интеллектуальные контроверзы и дискуссии составляют неотъемлемую сторону его структуры. Вместе с тем, это - роман моноцентрического построения, в котором большой удельный вес занимает повествование биографическое, субъективно-лирическое, порой доминирующее над тенденцией эпической. К немецкому роману воспитания могут быть с полным основанием отнесены выводы Н. Лейтес о том, что роман есть художественная система, в которой разрабатывается диалог человека и мира и что этот диалог «дает рома ну жизнь, служит основой конфликта, источником энергии его сюжетного движения» . Другие персонажи романа группируются вокруг главного героя, сопутствуя ему, выступая в роли разнообразных катализаторов процесса его воспитания. При этом чрезвычайно важна роль менторов, наставников, учителей жизни, способствующих духовному прозрению и возрождению героя.
Немецкий роман воспитания показывает историю созидания личности изнутри, путь ее постепенного оформления и становления на протяжении сравнительно большого времени и пространства - от юных лет героя до наступления духовной и физической зрелости - и через это созидание дает историю формирования целого общества, человеческого рода - филогенез через онтогенез. Закономерно, что вся сложная и многогранная техника психологического анализа подчинена в нем принципу интроспективное™, раскрытию Innerlichkeit, внутренних, духовных потенций личности. Изображая конденсацию жизненного опыта героя, его правдоискательство, его тяжкий путь познания, роман воспитания особо акцентирует такие психологические структуры, как самоотречение и самопреодоление, рождение нового сознания в ходе напряженной борьбы со старым, конфронтация идей и взаимоисключающих состояний, - иными словами, диалектику формирования духовного мира героя.
В основе сюжетно-композиционной структуры данного вида рома-ма лежит фазообразность, ступенчатость, поэтапность как необходимые модусы интеллектуально-нравственного развития персонажа, проходящего, главным образом, три важнейших этапа, что соответствует, как уже отмечалось, гегелевскому учению о триаде и трехступенчатом процессе по знания: тезис - антитезис - синтез .
Ирония и юмор, комические и трагические ситуации, в которых оказывается главный герой, непосредственные комментарии и голос повествователя, несобственно прямая речь служат средством проявления автор ской позиции в тех эпизодах, где речь идет о заблуждениях и ошибках «вопрошающего» героя, стремящегося к достижению искомого идеала. Наоборот; в сценах относительного обретения героем этого идеала позиция автора и его резонера идентична. В острых идейных дискуссиях, в столкновениях взаимоисключающих концепций, выражаемых автором, главным героем и другими персонажами, складывается контрапункт, симфония идей как характерологические способы повествовательной системы романа воспитания. Принцип дифференцированной интерпретации его структуры позволяет четко отграничить эту романную разновидность от разновидностей, более или менее схожих с ней. Поскольку многие структурные элементы романа воспитания, такие, как, например, биографизм, психологизм, моноцентричность, правдоискательство и т. п., в общем, присущи разным видам романа (педагогическому, биографическому, авантюрно-плутовскому), то порой возникает искушение сблизить их с романом воспитания, что приводит к терминологической путанице. Однако, серьезных оснований для такого сближения нет. Ибо сердцевиной романа воспитания, как отмечалось, является процесс воспитания и формирования личности главного героя в духе положительной программы. Этот процесс выступает как лейтмотив, объединяющий всю структуру романа, все его компоненты, сообщающий этому виду романа целостность и единство.
Таким образом, если доминантой романа воспитания является становление личности героя, то доминантой педагогического романа (например, «Эмиля» Руссо) - воспитание, запрограммированное определенной теорией, что в известной степени сближает его с научным трактатом. В биографическом - документализм в освещении жизненного пути героя, в психологическом - исследование внутреннего «я», в плутовском - совокупность авантюр и т. п. Не являясь романами воспитания, эти разновидности включают в себя, однако, отдельные его структурные элементы. Кроме того, в них даны эволюция, развитие героя, но нет его высшей ступени - образования, (т. е. диалектики формирования), нет его преображе ния, внутренней борьбы героя и Мира, глобальных философских проблем бытия, нет необходимых философских дискуссий, противоборства идей как фона и условия его духовного и социального становления.
Для выявления художественной природы немецкого романа воспитания целесообразно сопоставление его с так называемым французским «романом карьеры» и английским романом воспитания. Как известно, французский «роман карьеры» по своей структуре («Красное и черное» Стендаля, романы Бальзака, «Милый друг» Мопассана и др.) есть движение героя по социальной лестнице вплоть до достижения им ее высшей ступени либо падения на подступах к ней. Как социально-психологический роман, французский «роман карьеры» показывает процесс адаптации героя к неблагоприятным ему условиям общественной жизни, процесс нравственной деградации его. В центре сюжета этого романа - поединок героя с обществом, «вгрызание» в него с целью достижения жизненной карьеры. И, следовательно, если немецкий роман воспитания дает историю формирования личности в положительном социальном ракурсе, то французский роман рассматриваемой разновидности, наоборот, изображает ее разрушение, ее моральную деструкцию71.
С другой стороны, английский роман воспитания, сохраняя основные моменты структуры этого вида романа, сосредоточивает свое внимание, как правило, на социально-нравственных и нравственно-психологических вопросах, или, говоря словами Диккенса, на том, как, «Добро побеждает Зло». Английскому роману воспитания свойственна сильная.морализаторская и дидактическая тенденция72.
Несмотря на то, что во французском «романе карьеры» и в английском романе воспитания нередко разрабатываются философские вопросы, приоритет в них все же отдается аспектам социальным и моральным. Герой этих произведений, как правило, не стремится, подобно гетевскому Фаусту, постичь «вселенной внутреннюю связь», а занят проблемами более конкретными, земными. Интеллектуализм, свойственный немецкому роману воспитания, имеет свои неповторимые национальные особенно Суммируем все изложенное о структуре и жанровой специфике немецкого романа воспитания, выделим его доминанты.
Тип романа. Роман о становлении личности и сознания героя в их многоплановости и сложности (Хализев В. Теория литературы. - М., 2000, с. 332)
Тип сюжета. Роман одного героя. Другие герои выполняют конструктивную либо деструктивную функцию в его воспитании и формировании.
Тип героя. Герой - правдоискатель.
Принцип композиции. Моноцентризм, ступенчатость, поэтапность, «триада».
Способ саморазвертывания духовной субстанции персонажа. Интеллекту ально-мифопоэтический.
Основной метод изображения. Мифологизация.
Основная идея романа. Рождение и становление динамической личности.
Биографизм повествования.
Конфронтация идей, интеллектуальные дискуссии.
Относительная статичность, стереотипность формы, динамизм содержания.
В свете вышеизложенного предметом анализа данной работы, выступают следующие романы немецких авторов: «История Агатона» К. М. Виланда и «Годы учения Вильгельма Мейстера» Гете (эпоха Просвещения); «Гиперион» Ф. Гельдерлина, «Титан» Жан-Поля (Рихтера), «Странствования Франца Штернбальда» Л. Тика, «Житейские воззрения кота Мурра» Э. Т. А. Гофмана, «Генрих фон Офтердинген» Новалиса (романтизм); «Волшебная гора», «Иосиф и его братья» Томаса Манна; «Игра в бисер» Г. Гессе (антифашистский период); «Чудодей» Э. Штриттматтера и «Остановка в пути» Г. Канта (Восточная Германия); «Жестяной барабан» Г. Грасса (Западная Германия).
Философские и литературные предпосылки и традиции немецкого романа воспитания
Век Просвещения, выступив продолжателем гуманистических традиций Ренессанса, со всей основательностью и широтой поставил в центр философской мысли и художественного творчества проблему человека. Учение просветителей, вобравшее в себя научные достижения предшествующих эпох, стало более высокой ступенью в осмыслении человеческой природы, своеобразным шагом и синтезом интенсивного развития естественных наук. Выдающиеся открытия XVI - XVIII вв. в области физики и астрономии, биологии и математики, в других сферах знания продемонстрировали мощь и величие человеческого разума, явились питательной почвой для формирования просветительского гуманизма.
Всеобщий интерес к человеку, его судьбе с новой силой охватил умы Европы, был закономерным результатом научного прогресса. В Англии -теория «естественного состояния» Гоббса, «Эссе о человеческом разуме» и «Мысли о воспитании» Локка, «Исследование о человеческом разуме» Юма, «Характеристики людей, нравов, мнений и эпох» Шефтсбери и его концепция гуманистического энтузиазма, «Басня о пчелах» Мандевиля с ее идеей изначальной эгоистической сущности человека; во Франции - философские повести Вольтера, «Об уме» и «О человеке» Гельвеция, «Система природы» Гольбаха, «Мысли об изучении природы», «Философские принципы о материи и движении», «Племянник Рамо», «Элементы физиологии» Дидро, «Человек - машина» Ламеттри, «Дух законов» Монтескье, «Эмиль, или О воспитании» Руссо; в Нидерландах - Спиноза и его система совершенствования человека; в Швейцарии - терия элементарного образования Песталоцци; в Германии - «Монадология» Лейбница, «Критика разума» Канта, исследования «естественных сил» Гердера, учение о метаморфозе Гете, «Письма об эстетическом воспитании» Шиллера, «Воспитание рода человеческого» Лессинга - таков далеко не полный перечень теорий и произведений, раскрывающих глубокую заинтересованность просветителей в разрешении проблемы гуманизма.
Немецкий роман воспитания, являясь духовным феноменом эпохи Просвещения, имеет вместе с тем вполне определенные предпосылки и традиции как в развитии романного жанра вообще (в европейской литературе), так и в специфических особенностях немецкой культуры и литературы на протяжении веков. Будучи автономной жанровой разновидностью, развиваясь в известной степени независимо и самостоятельно, роман воспитания в Германии был подготовлен, однако, в недрах ее словесного искусства, впитал и вобрал в себя достижения его повествовательной формы, многие его приемы, художественные средства, мотивы, структурные элементы.
Для выявления этих связей и влияний представляется необходимым рассмотреть следующие аспекты:
а) зарождение, формирование и развитие психологической традиции в европейской и немецкой литературе (ибо роман воспитания, как отмечалось, роман психологический, исполненный пристального интереса к душевной, внутренней стороне жизни индивида);
б) зарождение, формирование и развитие биографической традиции (органически связанной с психологической линией), ибо важнейшим структурным компонентом романа воспитания является изображение этапов жизненного пути героя, его эволюции от детства до физической и моральной зрелости1. С этим вопросом, разумеется, связана и постановка в романе больших философских и социальных проблем;
в) чрезвычайно важно также исследование роли «авантюры» в повествовательном жанре, ее метаморфоз, эволюции, идейной и художественной функции;
«История Агатона» К. М. Виланда
В 1762 году Виланд сообщал о замысле своего произведения: «Несколько месяцев тому назад я начал писать роман, который назову „Историей Агатона". В нем я описываю самого себя, каким воображаю себя в условиях, в которых жил Агатон, и делаю его в конце повествования счастливым в той степени, в какой я желал бы этого для себя»1.
Виланд акцентирует, таким образом, автобиографический характер романа, его духовную близость умонастроению автора. Но вместе с тем «История Агатона», разумеется, не автобиографическое повествование. Это широкое полотно, квинтэссенция творческого развития просветителя и всего немецкого романа данного периода. Гете не без основания заметил, что Виланд в «Агатоне» показал античность «жизненно и по-новому»2.
В предисловии Виланд говорит о влиянии Филдинга, его «Тома Джонса». Виланд стремится, по аналогии с сочинением Филдинга, создать свой, немецкий вариант романа воспитания. Но как всякий значительный художник, он не остается в рамках традиции, обогащая ее новаторскими принципами. Так, впервые в истории немецкой литературы XVIII века возникает классический тип романа воспитания.
«История Агатона» - качественно новая композиционно-художественная структура, неведомая словесному искусству. Исследователи раскрывают различные аспекты этого новаторства: показ духовной жизни героев сквозь призму современности3; эволюцию главного героя и «новый тип связи человека и среды»4; изображение человека как одновременно объекта и субъекта своего развития5; создание «романа души» и «романа-Я» . Существенной чертой романа Виланда является введение психологического времени и пространства. В этом замечательное открытие Виланда для немецкой литературы и всего немецкого романа воспитания. Впервые в немецком романе появляется хронотоп, если употребить известное понятие М. М. Бахтина. Хронотоп придает всему произведению необходимое композиционно-структурное единство и цельность. Ведь Агатон не просто эволюционирует и проходит этапы развития на глазах читателя. Он «образуется», формируется как личность, как продукт внешних и внутренних факторов и обстоятельств. Персонаж Виланда движется не в вакууме, а в конкретной социально-исторической обстановке своей эпохи, т.е. в исторически и социально детерминированном времени-пространстве. Но время-пространство не являются здесь каким-то общим отвлеченным фоном, они обусловлены психологически, «пропущены» через субъективное сознание Агатона, через его судьбу, его искания, его становление. Впервые в немецком романе феномен пространства-времени и феномен психологический выступают как нерасторжимое сращение, двигающее и определяющее и форму и содержание произведения Виланда. Духовные поиски Агатона как бы вбирают в себя стремления его века, равно как и века Виланда. В романе весьма сложно пересекаются тенденции античности и современности, что позволяет автору по-новому осмыслить свое время с позиций классической Эллады, являющейся для него незыблемым идеалом. Так, в искусстве Виланда постепенно рождалось понятие единства исторического процесса.
«История Агатона» - роман философско-исторический и одновременно программный, просветительский. В нем, как в фокусе, сосредоточены актуальные философские и социальные проблемы века: человек и внешний мир, разум и природа, добро и зло, свобода воли и мораль. «В нем поставлена новая не только для немецкой литературы проблема вое питания не наследника престола, а общественного деятеля, который стремится к общественной пользе»7.
Через весь роман Виланда проходят внутренние монологи и философские дискуссии, авторские отступления и комментарии. Психологическая интроспекция и ретроспекция становятся важнейшим средством художественной изобразительности. Все разнообразные коллизии сосредоточиваются вокруг судьбы главного героя, стимулируют его становление. «Авантюрный» элемент повествования подчиняется идее эволюции, перемещения в психологическом пространстве.
Роман Виланда был в основном завершен в 1767 году, хотя работа продолжалась еще длительное время. В центре книги фигура древнегреческого мыслителя Агатона (448 - 401 г. до н. э.), о котором с теплотой отзывались Аристотель и Платон. Виланд идеализирует персонажа, в переводе с греческого имя которого означает «Добро», «пропускает» его через бездны жизни, чтобы привести в конце произведения в Тарент - к идеалу добродетельной республики.
Писатель кладет в основу сюжета «трехтактную» схему: «Первая часть в хронологический схеме означает выход из юношеской идилии и ее мистики; вторая - встречу с миром, опыт в любви и политике; завершаю-щая - включает Агатона в идилию моральной республики» . Таким образом, можно говорить об истоках диалектического мышления в книге: тезис, антитезис, синтез. Как просветитель-рационалист Виланд демонстрирует примат Разума над чувствами героя - сначала в сфере интимной жизни героя, затем на более высоком уровне, в сфере общественной политической деятельности. Автор (и его резонер) понимают великое всемогущество человеческих страстей и инстинктов. Тем не менее, каждая ступень становления Агатона, являясь для него своеобразным испытанием и искушением, озарена возвышенным идеалом ведущего Разума.
Романтическая полемика с Гете в произведении Ф. Шлегеля «Люцинда»;
Философский дуализм как главенствующий принцип романтического мышления, возникший вследствие гибели рационалистических представлений, обусловил раздвоение сознания индивида.
Поскольку идеалы просветительства не осуществились, виновником этого объявлялся сам человек, носитель не только разумных наклонностей, но и хаотического, разрушительного начала, стихийных тенденций бытия. Поэтому философско-художественный объектив окончательно переместился с внешнего на внутреннее, на субъективное «я» личности, на исследование ее духовных потенций. Из объекта рационально-эстетической интерпретации человек превратился в субъект объяснения жизненных явлений. Субъективизм стал краеугольным камнем романтического метода: «Для Канта, для Фихте, для Шиллера, даже для романтиков в непосредственном смысле - для Шеллинга, Фридриха Шлегеля, Людвига Тика в ранний период их развития исходной точкой всех философских координат... был человек, взятый отдельно, сам по себе» .
Кантовская концепция дуализма импонировала умонастроениям романтиков. Его учение об антиномиях, деление человеческого разума на «чистый» и «практический», мир «природы» и мир «свободы» подкрепляли романтическое мировосприятие солидным философским арсеналом, сообщали романтизму углубленный интеллектуализм и психологизм. В человеке как «конечной цели творения»2 Кант прозревал не только «задатки человечности как существа разумного», но и «задатки животности» . Кант (1724 - 1804), а затем Фихте (1762 - 1814) и Шеллинг (1775 - 1854) освободили человеческий дух от рационалистической односторонности, раскрыли в нем сложную диалектическую противоречивость по Фихте, развив в своем «Наукоучении» идею творческой активности субъекта, усилил внимание к субъективистской концепции мироздания, наделил субъективное «я» абсолютным духовным содержанием. Выводя природу из духа, реальное из идеального, Фихте построил свою систему идеалистического монизма. «Как таковая, она (наука - В. П.) не есть что-то существующее независимо от нее и без нашего содействия, - заявляет философ; скорее она есть нечто, что должно быть впервые произведено свободой нашего духа, действующего по определенному направлению»4. По тонкому наблюдению Габитовой Р., Фихте, в конечном итоге, сомневался в возможности синтеза идеала и реальности, считая подобное соединение «нелепым»5, и «именно Шеллинг разработал философию тождества - тождества субъективного и объективного, идеализма (Фихте) и догматизма (Спиноза)»6.
Став на позицию объективного идеализма, Шеллинг высказал неудовлетворенность субъективизмом Фихте. Восприняв от Фихте идею созидательной активности субъективного «Я», творящего мир, Шеллинг вместе с тем констатировал, что субъект и объект, дух и материя, идеальное и реальное могут быть объединены в Абсолютном, ибо это Абсолютное, т. е. Божество, наделено характерными атрибутами противоборствующих тенденций.
Если в фихтевской системе объяснения мира романтиков особенно привлекала идея «Я», творящего мир, то в концепции Шеллинга им явственно импонировала мысль о двойственной сущности человека. «Материя, - заключает Шеллинг, - в самом деле не что иное, как дух, созерцаемый в равновесии своей деятельности»7, «материя рассматривается только как угасший дух, а дух, наоборот, как материя в становлении» .
Вместе с тем, по Шеллингу, «противоречие составляет основу раздвоения самосознания на внутреннее и внешнее, субъективное и объективное. В „Я" вобще происходит разделение на внутреннее и внешнее, и вместе с этим разделением полагается в „Я" противоборство...»9. Преодоление этого дуализма романтизм полагал на основе тщательно разработанного, философски аргументированного метода иронии.
«В немецком романтизме обнаруживается стремление к отказу от индивидуалистического оптимизма, к пересмотру первоначальных философских позиций: .действенная" философия Фихте сменяется сначала натурфилософией Шеллинга, а позднее его же „философией откровения". Этот процесс, сказавшийся в творчестве Новалиса, Шлейермахера и Тика уже в 90-е годы, особенно активизировался в начале XIX века и характеризовался религиозными и „соборными" тенденциями, стремлением к примирению с государством»10.