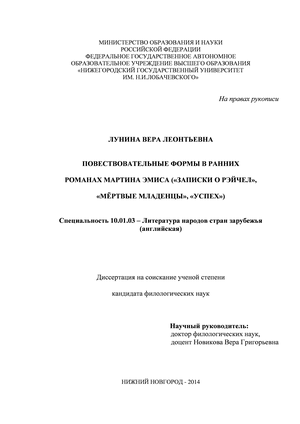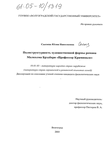Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Теория повествовательных форм . С. 17 - 49
1.1 Проблема «голосов повествования» в отечественном литературоведении С. 17 - 29
1.2 Нарратологические теории С. 29 - 40
1.3 Англо-американские исследования в области нарратологии в начале XXI века С. 40 - 49
Глава 2. Трансформация традиционных повествовательных форм в романах М. Эмиса С. 50 - 148
2.1 «Я-повествователь» в «Записках Рэйчел» С. 50 - 81
2.2 Повествователь и читатель в «Мертвых младенцах» С. 81 - 111
2.3 Диалог исповедей в «Успехе» С. 111 - 148
Глава 3. Средства организации повествования .
1.1 Поэтика заглавий ранних романов М.Эмиса
1.2 Временные континуумы
Заключение
Список литературы
- Нарратологические теории
- Англо-американские исследования в области нарратологии в начале XXI века
- Повествователь и читатель в «Мертвых младенцах»
- Временные континуумы
Нарратологические теории
Среди отечественных исследователей, занимающихся проблемами творчества этого писателя, особенно выделяется имя О. Джумайло, результа ты исследований которой отражены в таких работах, как «Двойничество пер сонажей как ресурс постмодернистской исповедальности: роман Мартина Эмиса “Информация”»11, «Нарцисс в поисках жанра: исповедальный роман Мартина Эмиса “Беременная вдова”»12, «За границами игры: английский по стмодернистский роман 1980-2000»13, «Де/гуманизация. Постмодернистские исторические рефлексии и образ Холокоста в «Стреле времени» Мартина Эмиса»14, «Экзистенциальный опыт и границы литературной саморефлексии в романе Мартина Эмиса “Записки о Рейчел”»15. В своем монографическом исследовании «Английский исповедально-философский роман 1980 – 2000»16, целью которого является «изучение английского исповедально философского романа 1980-2000 гг. как специфического явления, охаракте ризовавшего новый мировоззренческий, эстетический и художественный мо дус в английской литературе последнего двадцатилетия XX века и обозна чившего изменение ценностных ориентиров постмодернистского романа предыдущей генерации»17, О. Джумайло обращается к таким романам М.Эмиса, как «Записки о Рейчел», «Стрела времени, или природа преступления», «Информация», «Беременная вдова».
В 2001 году Н. Рейнгольд представляет творчество писателя как «заметнейшего из английских прозаиков» особого варианта постмодернизма, во многом связанного с модернистской позицией, в статье «Мартин Эмис: реальность покорно следует за мной»18.
В 2013 году защищена кандидатская диссертация О.В. Переходцевой «Память и нарратив в современной английской литературе: М.Эмис и Дж. Барнс» (2013)19, где объектом исследования является влияние авторских концепций памяти на способы организации автонарратива, или повествования от первого лица, в творчестве ведущих современных английских писателей Мартина Эмиса и Джулиана Барнса. Автор названного исследования полагает, что «для анализа подобных произведений подходящим инструментом служит выработанная в этом междисциплинарном поле концепция нарративной памяти, утверждающая, что память и нарратив являются взаимосвязанными врожденными антропологическими механизмами для наделения человеческим смыслом прожитого физического времени, и что память и нарратив являются средствами конструирования личностной идентичности»20 и анализирует роман Эмиса «Деньги» и его автобиографию «Опыт» с точки зрения проблематики памяти и способов ее воплощения в нарративе.
В названных исследованиях и большинстве работ обобщающего характера, в частности, процитированной выше статье Т. Красавченко, чаще всего называются произведения М. Эмиса, написанные в 80-е годы и позднее. Так, И.В. Кабанова в главе, посвященной английской литературе после 1945 года, в учебном пособии «Зарубежная литература ХХ века», изданном под редакцией В.М. Толмачева, отмечает, что «уже в ранних романах Эмиса выразительность языка, поэтическая избыточность метафор противоречиво сочета лись с безнадежным взглядом на мир. Так предстают перед читателем половое нетерпение подростков («Бумаги Рейчел», The Rachel Papers, 1973), коммуна хиппи («Мертвые младенцы», Dead Babies, 1975), зависть и инцест («Успех», Success, 1978). Техника Эмиса усложнилась в романе «Другие люди» (Other People: A Mystery Story, 1981), где впервые появилась фигура повествователя». Однако подробно, как существенно важные для эпохи рубежа ХХ и ХXI столетий, анализируются «три крупных романа, которые не объединены сюжетно, но представляют собой некий триптих об англоамериканской цивилизации конца XX века. Открывают его «Деньги: Записка самоубийцы» (Money: A Suicide Note, 1984). Это яркий комментарий к эпохе М. Тэтчер, яппи (молодых людей, сколотивших себе на волне увлечения всем электронным баснословное состояние), «рейганомики»21. Второй частью диптиха стал роман «Лондонские поля», апокалиптическое видение города, а третьей – «Информация» - «самое многофигурное и изощренное из произведений Эмиса», которое «напрямую обращается к личности писателя как героя (или, точнее, антигероя) нашего времени»22.
К первым романам обращается лишь Б.М. Проскурнин в статьях «Постмодернизм и диалог с ним в романе Мартина Эмиса “Успех”» и «Жизнь как текст и текст как жизнь в романе Мартина Эмиса “Записки о Рейчел”»23.
Между тем, ранние романы М. Эмиса представляют особый интерес в связи с тем, что написаны они в 70-е годы. Это первый период английского постмодернизма. Становление писателя, ставшего одним из ведущих представителей этого направления, во многом определившего специфику британского постмодернизма, происходит одновременно с формированием качественно нового типа мышления и соответствующих ему форм художественного воплощения.
Англо-американские исследования в области нарратологии в начале XXI века
Попытки систематизации повествовательных структур предпринимались и раньше. Так, еще в начале XX века английский литературовед П. Лаббок в работе «Мастерство прозы» («The Craft of Fiction», 1921)71 предлагает свой взгляд на систему повествовательных форм, в основе которой лежит сочетание трех нарративных категорий: 1.модуса презентации, 2.голоса, 3.модуса повествования. Исходя из дихотомии «показ»\ «рассказ» (show-ing\telling), Лаббок выделяет два модуса презентации текста: панорама (широкий обзор), предполагающая наличие всезнающего автора, и сцена (пристальный взгляд на события), где осведомленность повествователя в происходящем ограничена.
Давая пояснения ко второй значимой категории, положенной в основу его типологии, а именно, категории голоса, П. Лаббок отмечает, что автор может говорить не только своим собственным голосом, но вкладывать повествование в уста одного из героев произведения. Из этого можно сделать вывод, что в основе данной категории лежит дифференциация повествователя по грамматическому лицу, составлявшего основу уже упоминавшихся типологий отечественных исследователей. Однако Лаббок подчеркивает, что и в том, и в другом случае автор может пользоваться собственным сознанием, давать собственную оценку той или иной ситуации, а может прибегать к сознанию кого-нибудь другого. Таким образом, категория голоса П. Лаббока учитывает не только грамматическое лицо, но и сознание повествователя.
Модус повествования, третья категория данной типологии, может быть представлен двумя вариантами: «картинным» и драматическим». Результатом «картинного» модуса является создание «живописного образа, изображение событий в зеркале воспринимающего сознания кого-либо». В картинном модусе описываемое становится фоном для передачи эмоций героя. В драматическом модусе такой психологизации не происходит, события говорят сами за себя.
Сочетание этих категорий позволяет Лаббоку выделить четыре повествовательные формы: 1.панорамный обзор (panoramic survey); 2. драматизированный повествователь (dramatized narrator); 3.драматизированное сознание (dramatized mind); 4.чистая драма (pure drama).
Первая форма предполагает панорамное изображение событий посредством «картинного» модуса. Российский исследователь Б. Успенский называет такую форму повествования «последовательным обзором», где происходит одновременный охват сцены с точки зрения вездесущего повествователя, который исключен из действия и занимает положение над миром текста.
В форме «драматизированного повествователя», напротив, рассказчик присутствует в истории, что обуславливает повествование от первого лица в «картинном» модусе. В результате, все события оказываются пропущенными через призму индивидуального восприятия интегрированного в мир текста повествователя, особенности мировосприятия которого оказывают значительное влияние на повествование в целом.
Для формы «драматизированного сознания» характерно сочетание «картинного» модуса, служащего для изображения внешнего мира, и «драматического модуса», к которому прибегает автор для описания душевного состояния персонажей. «Внутренний монолог» инсценирует работу сознания, создавая впечатление самораскрытия «объективного», вроде бы без вмешательства каких-либо посредников между персонажем и читателем, в особенности «без участия» реального автора, в его «отсутствие». Форма «драматизированного сознания» сыграла большую роль в становлении приема «потока сознания», характерного для модернистской литературы XX века.
Четвертая повествовательная форма в типологии Лаббока – «чистая драма» - как следует из самого названия, сближается с пьесой. Повествование представляет собой ряд сцен, исходя из которых читатель волен сам делать выводы о психологическом состоянии героев, руководствуясь исключительно их словами и поступками. Эту повествовательную форму Лаббок считал наиболее совершенной, и как нельзя более соответствующей духу времени, когда в рамках принципов формализма и зарождающейся «новой критике» достоинствами литературного произведения признавались деперсонализация и безоценочное, объективное изложение событий.
По мнению Лаббока, такая типология повествовательных форм отражает четыре стадии эволюции романа: от классического всеведущего и вездесущего повествователя («панорамный обзор») с его субъективными комментариями до повествования, в котором эффект «самоустранения» автора позволяет создать историю, «которая должна быть показана, которая должна быть представлена таким образом, что она сама себя рассказывает».
Типология повествовательных форм Лаббока, а также критерии, положенные в ее основу, вызвали множество споров среди исследователей. Так, американский исследователь У. Бут в своей работе «Риторика прозы» (The Rhethoric of Fiction, 1961) говорил о нецелесообразности дифференциации повествователя по типу грамматического лица: «All of the… functional distinctions apply to both first-and third-person alike»72 («Все функциональные отличия в равной мере применимы как к повествованию от первого, так и к повествованию от третьего лица»). По его мнению, критерием типологии повествовательных форм может служить степень вовлеченности повествователя в действие. Исходя из этого, он различает повествователя-наблюдателя (observer) и повествователя, непосредственно принимающего участие в действии (Narrator-Agent). Бут выдвигает идею о важности различения повествователя по степени достоверности излагаемых им событий, что приводит его к концепции «недостоверного рассказчика», оказавшей огромное влияние на литературу XX века, и в частности, на литературу постмодернизма. Причинами такой «недостоверности» могут быть не только психическое или физическое состояние повествователя, что приводит к неумышленному искажению событий, но и заведомый обман читателя, введение его в заблуждение вследствие тайных, не известных читателю причин.
Большую роль в восприятии повествования играет и момент обнаружения читателем обмана: иногда читателю с самого начала дается понять, что к словам повествователя следует относиться с осторожностью. В других случаях обман раскрывается только на последних страницах, заставляя читателя восстанавливать цепь реальных событий, мысленно «прочитывая» произведение заново. В иных случаях по повествованию с самого начала разбрасываются многочисленные намеки, подсказки, рассчитанные на внимательного читателя, дающего ему возможность заподозрить обман задолго до конца произведения. В последнем случае выявление недостоверности повествователя не дает реальной картины происходящего, а только предлагает читателю самому интерпретировать описанные события.
Повествователь и читатель в «Мертвых младенцах»
Неоднозначность образа повествователя способна принципиально изменить представления о субъекте, сложившиеся у читателя, и заставить читателя задаться вопросом о позиции самого автора. Заявленные в рецептивной теории пары имплицитных и эксплицитных автора и читателя при чтении «Мертвых младенцев» подвижны и не определяются с окончательностью.
Проникнуть в авторский замысел может помочь толкование антропо-нимического пространства романа, которое образуют «все имена, встречающиеся в произведении, независимо от их источника (реально существующее имя или созданное автором), обозначаемого объекта (вымышленный персонаж или историческое лицо) и роли этого объекта в произведении (имя главного героя, второстепенного или внесюжетного персонажа, упоминаемого лица, встречающиеся имена героев других произведений, библейские и мифологические имена и т.д.)»143
Антропонимическое пространство романа связано с название места действия – Appleseed Rectory, что буквально переводится как «дом яблочного зернышка». Это наименование связано с реально существовавшей личностью – Джоном Чэпмэнем (John Chapman), известным в США под именем Джонни Эплсид. Родившийся в 1774 году, этот человек прославился разведением яблочных садов на территории штатов Иллинойс, Огайо и Индиана, а также миссионерской деятельностью, в ходе которой он проповедовал идеалы Новоиерусалимской церкви, призывавшей к отказу от накопления материальных благ, доказывавшей возможность пользования лишь необходимо малым. С течением времени реальные факты его жизни оказались прочно переплетены с вымыслом, что привело к созданию легендарного образа Джонни Эплсида. Этот персонаж несколько напоминает образ русского юродивого. И дело здесь даже не в его благочестивом образе жизни, не в отказе от плотских утех. Хотя безбрачие Джона Эплсида, признанное многими источниками как исторический факт, его дружелюбное отношение к детям, которых он учил столярному и садоводческому делу, а также его бережное обращение с растениями и животными (согласно легенде, единственное живое существо, которому он нанес вред, - это гремучая змея, которую он убил еще в юном возрасте, но сожалел об этом всю жизнь), несомненно, сближают его с образом святого. За трепетное отношение ко всему живому люди при обращении к нему и стали использовать уменьшительно-ласкательный вариант его имени – Джонни. Обращает на себя и внешний вид, который придала ему легенда. Постоянно путешествующий с целью наблюдения за ростом посаженных им в разных концах трех штатов садов Джонни Эплсид пользовался поношенной одеждой, которую жертвовали ему сердобольные люди. Когда же подобных пожертвований не происходило, он надевал мешок из грубой ткани, который мог носить в любое время года, словно не замечая ни снега, ни дождя. Он не признавал обуви, считая, что это сближает его с первыми христианами, и даже в самую плохую погоду предпочитал проводить ночи на улице. Примечательной деталью была кастрюля, которой он прикрывал голову и в которой же варил себе еду. Этот предмет, вызывающий насмешки одних и доказывающий чистоту помыслов другим, стал неотъемлемой частью образа Джонни Эплсида.
Таким образом, название дома, выбранное Мартином Эмисом в качестве места действия своего романа, ассоциируется с христианской невинностью Эплсида, самопожертвованием и бескорыстным служением людям. Укреплению этих коннотаций служит и слово rectory, сопровождающее название дома. Дело в том, что в отличие от лексем “mansion”, “house”, “castle”, “manor”, “hall” и других, используемых в качестве названия поместья (Baskerville Hall, Merripit House в романе А. Конан-Дойля «Собака Баскервилей», Moor House в «Джен Эйр» Шарлотты Бронте и т.д.), слово rectory обозначает дом приходского священника, пастора, а также жилое помещение, предназначаемое для ректора, стоящего во главе колледжа или университета. Использование именно этой лексической единицы с первых страниц настраивает на то, что хозяин Эплсид Ректори представляет собой личность в высшей степени религиозную, отличающуюся твердыми нравственными устоями и способную, подобно всякому священнику, быть пастырем окружающих его людей.
В «Списке действующих лиц» (“Main Characters”), предваряющем повествование романа Эмиса, автор выделяет отдельную группу персонажей под названием «Appleseeders», что можно перевести и как «обитатели дома Эпплсид», и как «последователи Джонни Эпплсида». Список членов группы открывается именем Квентина Вильерса (Quentin Villiers), к которому прибавлен титул «достопочтимый», что позволяет читателю предполагать, что именно достопочтимому Квентину Вильерсу предназначена роль главы и пастыря. Достопочтенный Квентин Вильерс обладает многими достоинствами, которые особенно заметны на фоне характеров его спутников. Он верный и любящий муж (Квентин и Селия – единственные персонажи романа, состоящие в официальном браке, в котором, как постоянно подчеркивает автор, они не устают заботиться друг о друге). Он не участвует в устраиваемых компанией приглашенных американцев сексуальных оргиях и словно не подвержен алкогольному и наркотическому опьянению. При характеристике этого героя автор не раз употребляет прилагательное «extraterrestial» («внеземной»), которое прямо указывает на его принадлежность к другому миру и в контексте легенды о Джонни Эплсиде способствует определенной идеализации образа. Действительно, на фоне других персонажей Квентин кажется почти святым, что подтверждается рядом эпизодов. Так, решив устроить пикник на запрещенной для проникновения территории, компания сбрасывает с себя всю одежду, чем привлекает на себя внимание быка, пасущегося на огороженном пастбище. Заметив быстрое приближение агрессивно настроенного животного, герои бросаются наутек.
Временные континуумы
Как мы уже отмечали, эти противоположные по смыслу фразы являются продолжением монологов героев, являющихся тематически и лексически подобными. Вышеприведенные реплики также отличает подобие, что доказывает наличие в них одного словосочетания, которое можно назвать определяющим тему высказывания: «распространяться на эту тему». Однако при всех этих общих признаках смысл, который скрыт за этими фразами, оказывается прямо противоположным: Теренс утверждает, что часто обсуждает этот трагический эпизод своего детства, в то время как со слов Грегори следует, что эта тема никогда не затрагивается его названным братом.
Таким образом, можно утверждать, что и на уровне повествовательной формы реализуется принцип сочетания антитезы и тождественности. Монологи героев совпадают почти слово в слово, однако существует некая деталь, которая противопоставляет их друг другу.
Такую же особенность можно наблюдать и в речевой характеристике героев, особенно при анализе употребления повествователями иностранных слов. Наиболее характерно использование слов из других языков для Грегори Райдинга, что представляется вполне закономерным, учитывая его притязания на аристократизм. Первое место в списке языков, служащих источником заимствований в речи этого повествователя, отведено французскому. Так, рассуждая о предстоящей встрече с Мирандой, он замечает: «Я представлял, как вернусь домой и проведу еще один вечер a la Миранда»228. Упоминая о скандале, устроенным бывшей возлюбленной Грегори, он употребляет французское словечко fracas (неудача): «День начался с персонального fracas»229. Для встречи со своей сестрой Урсулой Грегори выбирает ресторан, название которого он приводит по-французски (Le Coq d Or), где заказывает блюдо под название Faisan a la mode de Champagne. В разговоре с Джун, отвечая на ее вопрос о стоимости квартиры, Грегори роняет французское же слово rien (ничего), а вспоминая о Рождестве в родительском доме, упоминает горы cadeaux (подарков). Повествование об очередном проведенном вечере у Торки содержит слово cauchemars: «…свидетелями скольких причудливо уродливых cauchemars были они за эту ночь?»230. Употребление повествователем французских слов в своей речи не зависит ни от ее адресата, ни от ситуации, что создает впечатление их нераздельности от натуры Грега.
Французский язык не единственный, которым пользуется повествователь. Рассказывая о вредных привычках своего названного брата, он отмечает его «пагубное пристрастие к наркотикам», называя Теренса «aficionado гашиша». Наряду с испанскими словами, Грегори демонстрирует свое знание древних классических языков, в частности латинского. Рассуждая об инцесте и запрещающих его законах в истории Британии, он заостряет внимание читателя на деталях своего рассказа с помощью латинского слова sic!
Что же касается Теренса, то его речь в этом отношении, как и во всех других, имеет определенные черты сходства и различия с манерой выражения, присущей его брату. Высказывания Теренса не совсем лишены иностранных слов. Однако в отличие от Грегори, Терри ограничивается употреблением только одного слова, а именно испанского tonto, означающего дурака, сумасшедшего. Это слово он употребляет весьма часто и, подобно тому, как это происходит у Грегори, совершенно независимо от ситуации. Описывая себя в первой главе, он заявляет: «Иногда мне кажется, что я становлюсь tonto»231. Той же характеристики удостаивается и его названная сестра Урсула: «К вашему сведению, она, с моей точки зрения, чистая, трогательная, невинная, довольно забавная, очень шикарная, рассеянно-восприимчивая и (между нами) слегка tonto»
Словно пытаясь сравниться с сыплющим иностранными словами Грегори, Теренс пытается победить не за счет разнообразия употребляемых иностранных слов, а за счет количества употреблений одного. В этом смысле обращает на себя внимание отрывок из третьей главы: «Жлобы иногда стано-230 вятся tonto. Я тоже становлюсь tonto, правда, не так, как отец, на свой лад, но тем не менее. Думаю, в наши дни все становятся немного tonto (хотелось бы мне, чтобы у меня было побольше знакомых, чтобы можно было проверить теорию). Я тоже становлюсь tonto…»233. В этом отрывке концентрация столь любимого Теренсом испанского словечка достигает предела, словно он действительно пытается уподобиться своему названному брату в этом аспекте речи, что, однако, удается ему лишь формально.
В то же время речь Теренса изобилует бранными словами и выражениями, которые зачастую становятся и вовсе нецензурными. В связи с этой характеристикой приведем лишь некоторые из его высказываний. Описывая свою жизнь, Теренс называет ее «дерьмовым болотом» («…у меня щемит сердце от нежности к ней (Рози – В.Л.) даже теперь, когда я день ото дня все глубже увязаю в дерьмовом болоте, в которое превратилась моя жизнь»234). Отца он называет не иначе как «старый говнюк», а рассказывая о свое положении после убийства сестры, замечает: «…никто не пришел за мной (хотя бы какой-нибудь сбрендивший трахнутый тип)»235. Прерывая свои воспоминания о родной и названной сестрах, он бросает фразу: «Шли бы они на хер».
Что же касается Грегори, то в его монологах также достаточно слов, относящихся к низкой лексике, однако, он никогда не опускается до откровенно нецензурных выражений. Характеризуя Миранду, он отмечает: «Как бы то ни было, Миранда – это еще та штучка, вроде меня, сука сумасшед-шая»237. Рассказывая о своих работодателях – Язоне и Одетте Стайлз, он восклицает: «Боже мой, стоит ли удивляться, что они разыгрывают шлюху и ее хахаля…»2