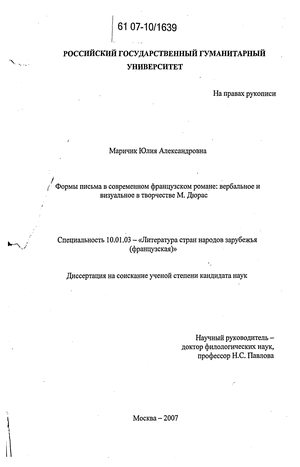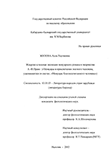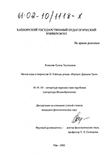Содержание к диссертации
Введение
I Соотношение текст/фильм: теоретические подходы. К вопросу о природе «визуального»
1. От кинематографического к литературному: транспозиция кинематографических приемов
1.1. Эстетический подход 19
1.2. Исторический и социо-культурный подход 30
2. От литературного к кинематографическому: вопрос адаптации
2.1. Семиологический и семио-нарратологический подход 38
2.2. Адаптация и концепция «переписывания» 41
3. К вопросу о языковой природе визуального: речь как спектакль
3.1. Дихотомия визуальность/устность в теории А. Мешонника ....51
3.2. Историчность визуального. Вербальное и визуальное в творчестве -«новых романистов» 59
II «Маргерит Дюрас между литературой и кино: траектории письма». Маргерит Дюрас о кино
1.1. Соотношение текст/фильм: «разрушать, - говорит она» 66
1.2. Письмо и голос 72
1.3. Кинокадр. Видимое 78
2. Типология «гибридных» форм письма 83
2.1. «Кинематографический стиль» 90
2.2. «Поэтико-романическое» письмо 101
2.2.1. ритм и музыкальность 106
2.2.2. дескриптивность и метафоричность 118
2.2.3. повтор и фрагментарный дискурс 124
III «Корабль Night»: текст театр фильм?
1. Текст театр фильм в «теории» М. Дюрас: когда видеть значит говорить 129
2. «Корабль Night»: к вопросу о театральности языка
2.1. Чтецы: «участие в общей истории» 144
2.2. «Диалог-рамка» 154
2.2.1. Видеть тишину: поэтика повторов 155
2.2.2. «Диалогическое я»: когда писать значит звать 164
2.3. Другая история 170
2.3.1. Прямая и косвенная речь: поливалентность голоса 171
2.3.2. Поэтическая и герменевтическая роль чтецов 184
3. Поэтика черноты 195
Заключение 199
Библиография. 208
- Эстетический подход
- Соотношение текст/фильм: «разрушать, - говорит она»
- Чтецы: «участие в общей истории»
Введение к работе
Настоящее диссертационное исследование посвящено изучению «смешанных» форм письма, точнее, «гибридных» текстов («textes hybrides », термин французских критиков, исследователей творчества писательницы) Маргарит Дюрас (1914-1996), французской писательницы, режиссера, драматурга. Дюрас относится к той сфере художников, кому одной сферы искусства было недостаточно для самовыражения. Она сняла 18 фильмов по собственным произведениям, а также явилась режиссером-постановщиком нескольких своих пьес в театре.
Фигура М. Дюрас стоит особняком во французском литературном «пейзаже». Современница представителей «нового романа», писательница всегда демонстративно отказывалась от принадлежности к данной «группе»1. Все осложняется также еще и тем, что невозможно говорить о каком бы то ни было единстве «новых романистов», подчинении определенному своду правил. Существует определенный набор характеристик, закрепившихся за так называемой «школой взгляда» и представляющих собой «минус приемы», своего рода противовес классическому роману бальзаковского типа: кризис персонажа; ослабление фабулы и выделение композиции; исчезновение логики, мотивировки, жизнеподобия; отказ от успокоительно-логической картины мира. Но, во-первых, каждая из этих характеристик, по-своему реализовывалась в творчестве «новых романистов», а во-вторых, произведения М. Дюрас зачастую просто не «соблюдают» вышеперечисленные критерии, что позволяет Ж. Кледеру говорить о возможной принадлежности ее текстов серии любовных романов «Арлекин»2.
Нельзя, бесспорно, оставить без внимания переворот в литературе, совершенный «предшественниками» «новых романистов», - Г. Флобером (исчезновение всезнающего автора), М. Прустом (подсознательная работа памяти), Д. Джойсом (поток сознания), - повлиявший на манеру письма «новых романистов»3.
Но также необходимо отметить влияние на творчество Дюрас С. Беккета и А.П. Чехова4. Чехов и Беккет способствовали разрушению традиционной формы театрального диалога: он не призван более подготавливать и мотивировать развитие сценического действия: диалог «рассеивается», перерождается в «разговор»5 (conversation), заполняя пространство текста пробелами, паузами, тишиной.
И, наконец, важно обратить внимание на собственно кинематографическую составляющую творчества Дюрас, так как она считается не только писателем, но и «полноправным» режиссером: «Кинематографисты, работающие каждый в своем русле, Ги Дебор, Маргерит Дюрас, Жан Юсташ, Мануэль де Оливейра, Ален Рене, Жак Риветт, Эрик Ромер, Рауль Руиз, Жан-Мари Штрауб и Даниэль Юйе постарались разделить текст и фильм»6, для того чтобы удивленным взорам зрителей явился бы «расплывчатый» ряд кинокадров, а текст, лишенный всякой наглядной иллюстрации, способствовал бы работе воображения.
Вне всяких сомнений творчество М. Дюрас может быть проанализировано с кинематографической точки зрения. Но в данной работе мы не будем придерживаться данного подхода. Во-первых, - об этом будет сказано подроб но в дальнейшем, - мы не счиатем Дюрас «режиссером» в полном смысле этого слова; и, во-вторых, анализ кинолент потребовал бы применения определенных техник, «инструментов», знаний. Нас же интересует исключительно природа литературной составляющей творчества Дюрас.
В данной работе мы постараемся найти ответ на вопрос: как нужно читать «гибридные» тексты Дюрас? Может ли понятие «визуальности», «визуального», используемое критиками для характеристики ряда «гибридных» текстов писательницы, послужить ключом к прочтению этих текстов? При этом можно ли отказаться от столь однозначного «кинематографического» прочтения текстов писательницы и, отбросив термин «визуального», применить к текстам ряд других критериев?
Начиная с произведения «Разрушать, - говорит она»7 (Detruire dit-elle, 1969), писательница создает произведения без всякого указания на жанровую принадлежность, за исключением театральных пьес. Сама Дюрас определяет их просто как «тексты». В это же время, с 1969 по 1982 гг., Дюрас увлекается кинематографом, и сама начинает снимать фильмы по собственным текстам. Подобное решение не могло не повлиять на письмо Дюрас: она занимается созданием такой «книги, которая одновременно могла бы быть либо прочита о на, либо сыграна, либо снята» («un livre qui pourrait etre a la fois soit lu, soit joue, soit filme»). Писательница сама указывает на особую природу своих текстов, они позволяют одновременно «увидеть» и «услышать».
Таким образом, в работе выделяются два основных аспекта: вопрос «визуального» в литературе и изучение творчества М. Дюрас в рамках многосторонней, «гибридной» перспективы.
В России подход к визуальному, «зрительному опыту» рассматривается в культуролого-философском, психоаналитическом и литературоведческом клю че . Во-первых, нам представляется важным обратить внимание на исследования М.Б. Ямпольского «Память Тиресия. (Интертекстуальность и кинематограф)» (М., Ad Marginem, 1993), «Наблюдатель. Очерки видения» (М, Ad Маг-ginem, 2000), «О близком. (Очерки немиметического зрения» (М., НЛО, 2001). Так, автором изучаются ассоциативные связи (в том числе функционирование «геральдической конструкции»), возникающие в результате прочтения фильма как художественного текста. Или же исследуется ситуация и история наблюдателя, описываемая как процесс « "отделения" наблюдателя от самого себя»10.
Примером психоаналитического подхода к рассматриваемой проблематике может являться книга В. Колотаева «Под покровом взгляда. Офтальмологическая поэтика кино и литературы». «Офтальмологическая поэтика», по мнению автора исследования, «рассматривает эстетическую вещь как оптико-визуальный семиотический механизм, вызывающий расстройства органа зрительного восприятия и через него поражение всей эмоциональной сферы субъекта»11.
Необходимо констатировать также наличие литературоведческого поворота в изучении поэтики и эстетики зримого. Так, авторы учебника по теории литературы, Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман , уделяют особое внимание изучению вопроса «наглядности», «конкретности», «живописности» словесных описаний, поэтического и живописного образов; рассматривают соотношение идей Лессинга и Гердера в вопросе «литература - живопись»; представляют подробный обзор литературы по данной проблематике в отечественном литературоведении.
Поскольку М. Дюрас была одновременно и писателем, и режиссером, писала тексты и снимала одноименные фильмы - что как раз и заставляет критиков искать новые способы прочтения текстов пистальницы, вырабатывать неизвестные наименования для письма Дюрас, - нас прежде всего будет интересовать понятие «визуального», «визуальности» в его связи с киноэстетикой, то есть заимствование литературой ряда приемов, кинематографических техник; а также чтение текста посредством фильма, «кинопрочтение текста».
Подобная постановка вопроса требует изучения кинематографического влияния на литературу, приемов, имитирующих кинематографическую изобразительность, взаимодействия литературного и кинематографического пространств. Избранный нами ракурс не позволяет углубиться в изучение культур-логической и психоаналитической составляющей понятия «визуального», а также не позволяет сосредоточиться и на принципе живописности, объединяющим вербальное искусство и искусства пластические. В противном случае нам пришлось бы рассматривать всю историю взаимодействия «поэзии» и живописи, начиная с афоризма Симонида: «Поэзия - это живопись, являющая себя в слове».
В связи с избранной постановкой вопроса, выделением кинематографического компонента при анализе текста, необходимо упомянуть работу И.А. Мартьяновой «Киновек русского текста: парадокс литературной кинематографичное™»13. Автор исследования вырабатывает термин «литературной кинематографичное™», выделяя в качестве основных признаков монтажную технику композиции (монтажность); слова, принадлежащие лексико-семантической группе кино; особое графическое оформление текста (сценар-ность) и. При этом важно отметить, что И. Мартьянова анализирует исключи тельно тексты на русском языке, так как связывает их подчеркнутую «визуаль-ность» с разрушением русской «классической фразы» и формированием нового типа прозы.15 А также заявляет о том, что ее интересует не столько влияние кино на литературу, сколько выделение техник, которые «помогают» автору рассказать, представить, дать увидеть без всякой ориентации на кинематограф.
Во Франции изучение проблематики «визуального» в свете (строгого) соотношения текст/фильм начинается в 40-е годы и не теряет своей актуальности и по сей день. Поскольку для анализа нами выбран французский автор и тексты на французском языке, нам представляется важным и необходимым изучить эволюцию, изменения понятия «визуального» в соотношении текст/фильм. Поэтому в первой части нашей работы будут рассмотрены труды французских кинокритиков и литературоведов, посвященные теоретическому рассмотрению соотношения текст/фильм.
Что касается второго аспекта изучения творчества Дюрас, много переводившейся у нас в последние годы, то оно не стало предметом серьезной критической рефлексии в отечественном литературоведении16.
Ряд исследователей, Э.Н. Шевякова и особенно Н.Ф. Ржевская, отмечают, что тексты Дюрас не вписываются в жанровые каноны, писательница отказывается от жанровой определенности: «ее [М. Дюрас - Ю.М.] произведения с трудом поддаются классификации, что не означает, что их вообще невозможно вписать в литературный контекст» (С. 717); «Дюрас пишет романы, пьесы, сценарии, постоянно вырабатывая некий синтетический жанр, сама ставит филь 17 мы» (С. 718). Вопрос о природе, способах прочтения этого «синтетического жанра» остается без внимания.
В основном в отечественном литературоведении творчество М. Дюрас рассматривается как пример автобиографического письма18, точнее письма, балансирующего на грани автобиографии и так называемой «эго-романистики», или же прочитывается как «классика французской любовной литературы»19.
Во Франции творчеству писательницы посвящена большая литература, в том числе и «кинематографическому» стилю писательницы, а также и проблемам «трансжанровости», «гибридности». Ограничимся лишь перечислением основных сборников и работ, фрагменты которых будут анализироваться нами на протяжении всей работы: М. Руайе «Экран страсти» , С. Гаспари «Мутация форм: «невозможное» кино Дюрас»21, сборники «Читать Дюрас: письмо, театр, кино»22, «Маргерит Дюрас. Между литературой и кино, траектории письма»23, «Маргерит Дюрас. Рамки и нарушения»24.
Таким образом, целью нашей работы является определение понятия «визуального» в рамках сопоставления текста и фильма, а также поиск и разработка способов прочтения «гибридных» текстов Дюрас. С целью работы связан ряд непосредственных задач: $
1) рассмотрение и раскрытие ключевых аспектов проблемы соотношения текст/фильм;
2) осмысление «кинотеории» Дюрас и ее соотношения с литературным творчеством писательницы;
3) создание типологии форм «гибридных» текстов Дюрас и проверка работоспособности термина «гибридность»;
4) анализ «гибридного» текста как примера поэмы (роете).
Главным предметом нашего исследования являются: 1) понятие «визуального»; 2) «гибридные» тексты Дюрас.
Для того чтобы найти ответы на поставленные вопросы, нам предстоит выявить существующие подходы к «визуальному» в рамках соотношения текст/фильм, но также и прибегнуть к рассмотрению теории ритма Анри Ме-шонника, лингвиста, переводчика Библии, автора основополагающего труда «Критика ритма. Историческая антропология языка» (Critique du rythme. Anthropologic historique du langage, 1982). Дихотомия визуальность/устность, разработанная ученым вне соотношения текст/фильм, представляется нам важным и интересным подходом к изучению проблемы «визуального».
А. Мешонник разрабатывал свою теорию в борьбе против структурализма с его формальными и семиотическими методами, а также против герменевти-ки . Поэтика ритма, поэтика дискурса А. Мешонника, выдвигающая на первый план понятия «специфичности» (specificite), «значимости» (valeur), «историч ности» (historicite), «дискурса» (discours), «ритма» (rythme), «субъекта» (sujet) в противовес перманентности, имманентизму, формам комбинаторики, абстрактным конструктам структурализма, строится на определенных положениях «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра и «Общей лингвистике» Э. Бенвениста.
Поэтика, как и любая другая гуманитарная дисциплина, связана с практикой и теорией смысла. Ключевым в таком случае является вопрос: каким образом происходит процесс формирования смысла? Согласно теории Анри Ме-шонника, ответ может быть только один: важен не конечный смысл, не сведение значения текста (signification) к результату высказывания (епопсё), но процесс означивания (signifiance). Способ означивания является специфическим, свойственным только данной «системе дискурса»: «Поэтика анализирует то, что делает литературный текст, каким образом он делает то, что не делают все остальные, благодаря чему он и является «литературным»: не из-за того, о чем он сообщает, но из-за способа порождения смысла» .
В отличие от подходов семиотического и риторического характера, поэти-ка ритма А. Мешонника, а также поэтика искусства (poetique de Tart) Ж. Дес-сона, его ученика и последователя, предполагающие подход к искусству в языке и посредством языка, представляются нам одними из наиболее продуктивных для анализа и изучения текстов М. Дюрас.
Последний вопрос, на котором необходимо сосредоточиться, касается выбора анализируемого произведения.
Как уже отмечалось ранее, с 1969 по 1982гг. Дюрас увлекается кинематографическим экспериментом. «Разрушать, - говорит она» является первым произведением, у которого «исчезает» жанровое наименование. Так будет со всеми последующими произведениями Дюрас за исключением книг с подзаголовком «театр» и романа «Эмили Л.» (Emily L.), «Любовник из Северного Китая» (L Amant de la Chine du Nord). Несмотря на то что сама писательница никогда не называла свои тексты «гибридными» (hybride), однажды в интервью она все-таки указала на их специфичность. У Дюрас спросили, будет ли она писать тексты, непосредственно предназначенные для кинематографа, на что она ответила: «Нет. Все те же пресловутые тексты» . Понятие «гибридности» подразумевает сосредоточение, наложение трех различных практик: кинематографической, театральной, литературной. Значит, тексты писательницы обладают двойственным, неопределенным, «маргинальным» статусом.
Бесспорно, мы еще не раз вернемся к высказанному утверждению, но уже сейчас можно предположить, что читать/писать/снимать являются эквивалентными концептами в «теории» Дюрас. Она переосмысливает понятие «чтения», которое становится одновременно фильмом и спектаклем, о чем и будут свидетельствовать последние тексты писательницы.
Начиная с текста «Любовь» (L Amour, 1971), Дюрас сначала снимает фильм, а потом пишет, переписывает, дорабатывает текст. Фильм предшествует тексту, текст же пишется все время (даже пока идут съемки), пока, наконец, не обретает законченную форму. Дюрас необходим кинематографический опыт, чтобы обрести литературный текст. В чем же сказывается влияние кино на манеру письма Дюрас? Что меняется в ее письме посредством кинематографа? Можно ли обнаружить такой текст, который сохранял бы отпечаток киноэксперимента? Какова связь «гибридного» текста с кино?
Для того чтобы выявить текст, подлежащий анализу, мы будем принимать во внимание следующие критерии: соотношение текст/фильм и «гибридную» природу текста. Как уже отмечалось ранее, ряд текстов Дюрас пишет до, после и во время съемок. Значит, необходимо выделить такой текст, который формировался бы одновременно с фильмом, не был бы отделен от него большим промежутком времени. При этом нас будут интересовать прежде всего «гибридные» тексты, без указания на жанровое наименование.
«Хиросима, моя любовь» (Hiroshima топ amour, 1960) и «Такое долгое отсутствие » (Une aussi longue absence, 1961) определены писательницей как «сценарий и диалоги». Эти тексты ознаменовали начало кинематографической деятельности Дюрас. «Хиросима, моя любовь» была написана по просьбе Алена Рене и при его участии. Режиссер оказывал непосредственное влияние на работу писательницы. Сценарий для фильма Анри Кольпи «Такое долгое отсутствие» был написан Дюрас совместно с Жераром Жарло.
Представляется проблематичным проанализировать вышеназванные тексты с точки зрения соотношения текст/фильм и выделения кинематографического «субстрата». Во-первых, Дюрас не являлась режиссером фильмов «Хиросима, моя любовь» и «Такое долгое отсутствие», а значит, текст был написан до начала съемок фильма, не изменялся под его влиянием. Во-вторых, текст, будучи сценарием, не вписывается в «многостороннюю перспективу», в которой позже станет работать Дюрас, не является «гибридным». В-третьих, сценарии создаются в сотрудничестве с А. Рене и Ж. Жарло, что затрудняет анализ письма писательницы.
Несколько лет спустя начинается новый этап кинематографических поисков писательницы. Это период так называемых «адаптации». Необходимо заметить, что сама писательница никогда не называла тексты, относящиеся к данному периоду, «адаптациями»: «Меня спросили "адаптирую" ли я текст в кино или в театре [...]. Я сказала нет»31.
В 1966г. Дюрас снимает фильм «Музыка» по одноименной пьесе (La Ми-sica, 1965). Три года спустя она пишет и снимает «Разрушать, - говорит она»; важно принять во внимание наличие сценария к этому фильму под названием «Шезлонг» (Chaise tongue), который Дюрас так и не опубликовала и отказалась от него во время съемок. В 1971г. текст «Абан, Сабана, Давид» (Abahn Sabana David) служит созданию фильма «Солнце - оно желтое» (Jaune le Soleit), который так и не вышел в прокат. Рассказ «Целыми днями среди деревьев»32 (Des journees entieres dans les arbres 1954) был «переписан», «переделан» в одноименную пьесу (1968), а потом снят в кино (1976). Фильм «Бакстер, Вера Бак-стер» (Baxter, Vera Baxter, 1976) снят по пьесе «Сюзанна Андлер» (Suzanna Ап-dler), написанной в том же году. И последними фильмами, снятыми по такому принципу, являются «Агата или чтение без границ» (Agatha ои les lectures illi-mitees, 1981), в основе которого лежит пьеса «Агата» (Agatha, 1981); и фильм «Дети» (Les Enfants, 1985), черпающий вдохновение в книге «Ах! Эрнесто» (Ah Ernesto! 1971), одноименной пьесе (1968) и сборнике новелл (1954).
Важно отметить, что в этот период М. Дюрас никогда не публиковала сценарии, раскадровки и прочие «технические» документы, сопутствующие появлению фильма. Исключением стал сценарий к фильму «Бакстер, Вера Бак стер». В 1980 г. Дюрас публикует текст «Вера Бакстер или пляжи Атлантики» (Vera Baxter ои lesplages de I Atlantique). В предисловии текст назван «сценарием». Мы могли бы изучить этот текст с точки зрения его связи с фильмом, но, во-первых, он обозначен как «сценарий», то есть, подобно сценариям «Хиросима, любовь моя» и «Такое долгое отсутствие», текст уклоняется от «многосторонней перспективы», сопротивляется наименованию «гибридный» текст. А во-вторых, между съемками фильма и публикацией данного текста проходит четыре года.
Так называемый «индийский» цикл (cycle indien) занимает особое место в творчестве писательницы. В 1964г. она пишет роман «Зачарованная Лол В. Стейн»34 (Le Ravissement de Lol V. Stein); год спустя публикуется «Вице-консул» {he Vice-consul), являющийся своеобразным продолжением «Зачарованной Лол В. Стейн». В 1971 г. Писательница создает «Любовь», где фигурируют те же персонажи, правда, события, о которых повествует книга, разворачиваются десять лет спустя после смерти главной героини, Анн-Мари Стреттер. Основываясь на тексте «Любви», Дюрас снимает фильм «Женщина с Ганга» (La Femme du Gange, 1972) и год спустя публикует одноименную книгу. В этом же году УС
Дюрас пишет текст театр фильм «Индиа-сонг» (India Song), «переписывая» «Вице-консула», а потом, в 1975г., снимает и фильм «Индиа-сонг». Фильм «Ее венецианское имя в пустынной Калькутте» (Son пот de Venise dans Calcutta desert, 1976) с использованием пленки с фонограммой «Индиа-сонг» завершает цикл.
Текст «Женщина с Ганга» не имеет жанрового наименования; он был переработан и дописан Дюрас непосредственно после монтажа картины. Но представляется невозможным анализировать его отдельно от остальных произведе ний цикла. А.-К. Жиню анализирует микро- и макротекстуальные уровни, которые пронизывают весь цикл. Исследовательница заявляет, что изъятие любого произведения из цикла ведет к упрощению, искажению прочтения и не позволяет в полной мере изучить выделенный текст. Ф. де Шалонж37 настаивает на сюжетно-тематическом единстве, объединяющем все произведения цикла.
«Индийский» цикл способствует появлению, рождению очень важного элемента, компонента в «теории» Дюрас, а именно: голосов (голоса являются невидимыми бестелесными повествователями, комментаторами целого ряда текстов Дюрас). В таком случае необходимо проанализировать не только «Ин-диа-сонг», которая именуется критиками «гибридным» текстом, но и раскадровку «Ее венецианского имени в пустынной Калькутте», сделанную Мари-Клер Ропарс. Выбор этих текстов достаточно проблематичен для выявления «отпечатка» кинематографического эксперимента, так как раскадровка к фильму «Ее венецианское имя в пустынной Калькутте» сделана не самой Дюрас, а кинокритиком, исследовательницей кинематографического письма Дюрас.
Наконец, следует последняя группа текстов, опубликованных и дописанных после съемок одноименных фильмов. Чаще всего именно эти тексты характеризуются критиками как «гибридные»: «Грузовик» {Le Camion), «Корабль Night» {Le Navire Night), «Цезаря» {Cesaree), «Следы рук» {Les Mains negatives), «Аурелия Штейнер» {Amelia Steiner), «Человек с Атлантики» {L Homme Atlantique), «Roma» {Roma). Речь не идет о создании «технического», «функционального» текста, в котором указывались бы действия героев, замечания, касающиеся декораций, ремарки, как это было в первых сценариях, а также в «Женщине с Ганга», «Индиа-сонп . Это тексты, предназначенные быть «проговоренными» (dit), прочитанными вслух: весь текст должен «выйти» («sortir»), «прозвучать», быть прочитанным в кино.
«Корабль Night», «Цезаря», «Следы рук» являются текстами, непосредственно связанными с кинематографической работой писательницы. В 1978г., до начала съемок одноименного фильма, М. Дюрас пишет текст «Корабль "Night"» и публикует его в журнале «Минюи». После окончания съемок фильма, через полгода после публикации первого варианта текста «Корабля Night», Дюрас публикует окончательный вариант произведения. Неиспользованные при монтаже планы «Корабля Night» вдохновляют Дюрас написать «Цезарю» и «Следы рук».
Мы сосредоточимся на анализе « Корабля Night», так как, во-первых, он причисляется критиками к разряду «гибридных». И, во-вторых, дописывается, трансформируется вместе с фильмом.
При рассмотрении данного текста важно не пытаться прочесть его с точки зрения известных правил построения сценария, киноромана, раскадровки. Важно вскрыть его специфичность, задаться вопросом: каким образом текст связан с фильмом? Что в письме Дюрас указывает на связь с кинематографом? В чем проявляется «гибридность» данного текста и как она связана с кинематографом? При этом ни в коем случае нельзя забывать о том, что если сама писательница заявляет, что ее тексты должны быть одновременно прочитаны, сыграны, сняты, то, значит, мы не можем упустить из виду, отказаться от их «изобретательности» (inventivite).
Диссертация состоит из трех глав, заключения и библиографии. Основные положения диссертации излагались в докладах на заседаниях кафедры сравнительной истории литератур РГГУ, на III и IV международных литературоведческих конференциях «Русская, белорусская и мировая литература: история, современность, взаимосвязь» в Полоцком государственном университете (Полоцк, 2004г., 2005г.), на VIII международной конференции молодых ученых в Институте литературы им. Т. Шевченко (Киев, 2005г.).
Эстетический подход
При рассмотрении вопроса о влиянии кинематографа на литературу необходимо обратить особое внимание на исследования Клод-Эдмонд Маньи «Время американского романа» (1948) и Этьена Фюзелье «Кино и литература» (1964). В этих работах пристальное внимание уделяется анализу приемов, объединяющих кинематографическое и литературное письмо. Эти работы важны еще и потому, что крупнейшие исследовательницы в области изучения кинематографического письма и его взаимосвязи с литературой, Мари-Клер Ропарс и Жанн-Мари Клерк, не раз будут делать ссылки на вышеуказанных авторов, которые впервые открыто продекларировали возможность родства, схожесть двух художественных практик.
При этом представляется важным отметить сразу, что К.-Э. Маньи и Э. Фюзелье в своем стремлении доказать всю значимость кинематографа исходят из противоположных заключений. Если первая исследовательница занимается влиянием кино на литературу, основываясь на «превосходстве» искусства кинематографического, то Э. Фюзелье, указывает на «молодость» кинематографа и его непосредственную связь, зависимость от «способов выражения, эстетических ценностей»1 литературы. Тем не менее подобное утверждение вовсе не означает зависимости кино от литературы, скорее наоборот: кино должно использовать весь «капитал» литературы, чтобы доказать свою самостоятельность, а также показать, что кинематограф обладает ничуть не менее богатыми возможностями для выражения определенного смысла.
И К.-Э. Маньи, и Э. Фюзелье применяют эстетический подход к рассмотрению связей литературы и кино. Подобный подход к вопросу представляется нам не вполне продуктивным, так как одним из основных критериев, выдвигаемых исследователями для суждения о худоджественном произведении или же киноленте, является их эмоциональное воздействие на читателя/зрителя.
Для К.-Э. Маньи кино является прежде всего искусством, услаждающим, влияющим на нашу чувствительность, именно этим качеством и определяются все сильные стороны кинематографа, оказавшие влияние на литературу и достойные быть воспроизведенными в литературном пространстве. Так, подобно музыке, кино «действует непосредственно на чувствительную душу»2. Из этого следует, что транспозиция кинематографических приемов в литературу будет рассматриваться, оцениваться согласно критериям сдержанности и умолчания (discretion et taciturnite), так как они стремятся возбудить интерес и любопытство читателя.
Э. Фюзелье, стремясь указать на самостоятельность и независимость кинематографа, отказывается рассматривать его всего лишь как средство для экранизации романов. Кино, учитывая и принимая во внимание литературные роды (эпос, лирику и драму), способно воспроизвести весь спектр жанров (например, эпопею, роман, трагедию, комедию), а также воссоздать лирическую тональность, свойственную поэзии, не забывая об использовании известных литературных сюжетных ходов и законов композиции. Все это должно служить следующей цели: «взволновать и заинтересовать»3 зрителя.
Нет сомнений в том, что оба исследователя исходят из идеи соперничества и иерархии искусств, вот почему их анализ задается прежде вопросом поиска «первоначала» того или иного приема, источника влияния, а также разработкой аналогий и эквивалентов, способных выявить «превосходство» или же «неполноценность» того или иного искусства.
К.-Э. Маньи настаивает на превосходстве искусства кинематографического, отводя литературе место «подмастерья». Оставив в стороне изучение истории взаимовлияний литературы и кино4, исследовательница выделяет основную черту кинематографа, которая была перенята впоследствии литературой, а именно: «объективное повествование» («narration objective»). Это понятие подразумевает, что «факты будут описываться исключительно извне, без комментариев и психологической трактовки»5. «Объективное повествование» работает по принципу «чем меньше говорится, тем лучше»6, а значит, по мнению исследовательницы, служит прежде всего для возбуждения любопытства у читателя. Ярчайшие художественные произведения, написанные по принципу «объективного повествования», принадлежат перу У. Фолкнера, Д. Стейнбека, Э. Хемингуэя, Д. Хамметта. В исследовании К.-Э. Маньи принцип объективности непосредственно связан с понятием «эллипса», умолчания, недоговоренности. Для того чтобы доказать, что благодаря кино литература открыла для себя свойства суггестивности и лаконизма, К.-Э. Маньи предлагает в качестве примера фильм Ч.Чаплина «Общественное мнение», в котором вместо процесса отправления поезда показаны лишь тени, мелькающие на лице героини.
Соотношение текст/фильм: «разрушать, - говорит она»
Маргерит Дюрас не является настоящим кинематографистом в полном смысле слова. Кино имело для писательницы второстепенное значение, не могло сравниться с письмом. Кинематограф представлял собой интерес не как техника порождения, воспроизведения кинообразов, но один из способов выявления природы текста. Писательница стремилась исчерпать, вскрыть все возможности текста, хотела показать то, что скрывается за словами.
В интервью она часто отмечала, что интересуется кинематографом, чтобы убить время, что она снимает фильмы от нечего делать. К тому же ей не нравились фильмы, снятые по ее произведениям другими режиссерами. Бесспорно, существуют гораздо более серьезные причины, повлиявшие на ее интерес к кинематографу. Все кроется в противоречивых, парадоксальных отношениях, которые связывают текст и фильм. Истоки интереса Дюрас к кинематографу кроются в ее письме.
Все творчество писательницы может быть представлено в качестве обширной системы, включающей набор повторяющихся мотивов, тем, героев. Самым ярким примером является индийский цикл. В этом акте постоянного переписывания, варьирования кроется одна из составляющих творческого замысла писательницы-режиссера: разрушение письма посредством фильма и разрушение природы фильма, благодаря введению ряда элементов письма.
Согласно определениям Дюрас, письмо является «потаенностью» текста: когда она начинает писать, она находится перед чем-то неизвестным, не может предсказать результата работы, объяснить, откуда берутся слова. Каждое слово важно и прекрасно, так как оно «содержит тысячу образов» («contient mille images»), «письмо включает в себя все, в том числе и кино» .Так, вовсе не удивительно, что спектакль, представление, демонстрирование конкретной сцены в кино или в театре рассматривается Дюрас как ограничение работы воображения, свободного потока образов. Подбор декораций, игра актеров, организация театрального или кинематографического «действа» затушевывают, уничтожает простой акт чтения текста: «Кино прерывает текст, обрекает на смерть его будущее: воображаемое [...]. Кино это знает: оно никогда не могло заменить текста [...], что в тексте содержится бесконечное количество образов, оно это знает»2.
По мнению Дюрас, гораздо легче снять фильм, чем написать книгу, так как он не требует погружения в неизвестное, в «ночь». Процесс съемки фильма равен процессу показа уже снятого фильма, так как писательница уже миновала «трудную» стадию работы с текстом. Так, очень важен тот факт, что письмо, пусть даже в качестве текста «технического» характера, сопровождает появление фильма. В короткометражном фильме Франсуа Бара «Гомон Палас» М. Дюрас читает ремарки и сценические указания к фильмам «Натали Гранже» и «Женщина с Ганга» для того чтобы показать, что кино не существует без письма, все в кино проходит через письмо, без него оно не существует.
Необходимо привести еще один пример. Единственная раскадровка, опубликованная М. Дюрас, была сделана к фильму «Индиа-сонг». В заметках к «Индиа-соно она писала: «Мне никогда не удавалось сделать чисто технического сценария. Я всегда пишу его для читателей, которыми являются члены съемочной группы»3.
Вовсе не случайно, что писательница заостряет внимание на чтении так называемого «технического» текста на съемочной площадке. Это меняет не толь ко функциональный статус сценария или раскадровки, но также и техническую сторону кинематографа, по крайней мере, «теория» Дюрас позволяет добавить, открыть дополнительное измерение. Процесс съемки включает две составляющих: чтение, «усвоение» общего замысла писательницы и, собственно говоря, съемка. «Технический» текст «сам по себе никогда не сможет передать то, что мы видим»4, и это значит, что сила текста не в визуальности описательного характера, не в детальной разработке действий и движений актеров. Текст, чтение текста, - это уже образ; съемка фильма есть чтение, а «собственно техническая сторона съемки станет лишь последующим переводом смысла и чаще всего будет само собой разумеющейся»5.
Для понимания творческих поисков Дюрас важен не только разрыв, противостояние письма/фильма, но и их слиянность, сплавленность, то, что приводит к созданию смешанного типа письма, - текст театр фильм (texte theatre film). В данном жанровом наименовании слово «текст» является ключевым: оно подразумевает «материальность» книги и указывает на то, что подобный текст вопреки своей природе позволяет слышать и видеть.
Чтецы: «участие в общей истории»
В предисловии к «Кораблю Night» М. Дюрас не говорит ни об актерах, ни о героях, ни о содержании кинокадров к фильму: «Есть только тире в начале предложений, чтобы подчеркнуть возможную смену чтеца в тот или иной момент повествования [...]. Я думаю, что подобные меры предосторожности я предприняла, чтобы стереть следы фильма, чтобы читатель не последовал за ним в ущерб собственному чтению»1.
К этому отрывку необходимы два пояснения: о голосе и «перепроизнесении» (reenonciation). Начнем с голоса.
В книге «Корабль Night» заглавные титры фильма не предшествуют тексту (как это было в «Хиросиме», «Натали Гранже», «Женщине с Ганга», «Индиа-сонг»), но следуют после него. Имена актеров, участвующих в фильме, отсутствуют, указаны только голоса М. Дюрас и Б. Жако: «Производство Лозанж, фильм «Корабль Night» в постановке автора, март 1979г., голоса Бенуа Жако и Маргерит Дюрас» . Значит, голоса являются настоящими протагонистами. Дюрас отрицает фигуративное начало кинематографа, вернее, представление должно быть порождено закадровыми голосами, видение должно пройти через вслушивание. «В «Корабле Night» все совершает голос, желание и чувства. Голос есть нечто большее, чем присутствие тела. Это все равно что лицо, взгляд, улыбка. Настоящее письмо потрясает, так как оно написано говорящим голосом»3, - отмечает М. Дюрас в «Материальной жизни». Эта цитата показывает, что голос активен: слово движется, подобно руке. К тому же прилагательное «настоящее» становится критическим термином для разделения письма и неписьма. Основным критерием «подлинности» является голос, продвижение голоса (passage de la voix). Ожидаемый эффект заключается в передаче голоса человека, пишущего письмо. Значит, критерием является сила языка, эмоциональность тела, укорененная в языке, устность. Это понятие включает в себя живость, жизненность голоса, зафиксированного на письме4. Написанный, записанный голос, который мы слышим. Отказываясь от персонажей и актеров, настаивая на деятельности чтецов, М. Дюрас приближается к концепции «проводников» К. Режи, передающих субстанцию письма.
М. Дюрас всегда восторгалась, была очарована простым фактом говорения, произнесения слов. Возможно, причина «очарованности» кроется в том, что ис тории, прочитанные или рассказанные вслух, непосредственно связаны с чело веком их рассказывающим/читающим. Писательница признается, что она забы ла почти все, что читала, за исключением историй, рассказанных матерью: «Я никогда не смогу забыть истории, которые мне рассказывала мать о своем дет стве [...]. Я все вижу. Это были устные истории»5. ; Вопрос голоса и зачарованности вольным, выпущенным на свободу словом, непосредственным образом связан с актом перепроизнесения. Ятение текста, письма означает «присвоение» голоса человека его написавшего: прочитать письмо значит его перепроизнести.
Когда М. Дюрас говорит о стирании следов фильма, критики стараются разграничить текст и фильм, ссылаясь на их «техническую» природу: «В «Корабле Night» пометка «текст» должна быть понята как противовес фильму [...]. Текст пытается обрести независимость, которую фильм мог бы у него отнять»6. Это утверждение является справедливым, если взять за основу критерий материальности: фильм как продукт, зафиксированный на пленке, не имеет ничего общего с книгой.
Но вопрос соотношения текст/фильм может быть рассмотрен в ином ключе. Во-первых, как мы уже отмечали выше, с точки зрения поэтики Дюрас представляется невозможным разграничить текст и фильм: фильм присутствует в тексте, реализуя комплекс текст театр фильм. Значит, их противопоставление идет вразрез с установкой Дюрас на «многостороннюю перспективу».
Во-вторых, в процитированном предложении о чтецах, акцент поставлен не столько на материальной разнородности текста и фильма (кино всегда проходит через письмо), сколько на акте чтения.
М. Дюрас могла бы сохранить в тексте следы фильма - фильма написанно-го, - распределив реплики «между теми, кто произносит (dire) их в фильме» , сохраняя указания функционального характера, описание содержания кинокадров. Но она отказалась от технического варианта «текста-фильма», подобно кино-романам А. Роб-Грийе, чтобы предложить иные условия для чтения этого текста и одновременно фильма. В любом случае у М. Дюрас текст остается «текстом-фильмом», только он может указывать на технический способ чтения/видения («фильм кадров», сценарий, раскадровка) или на поэтический (перепроизнесение).