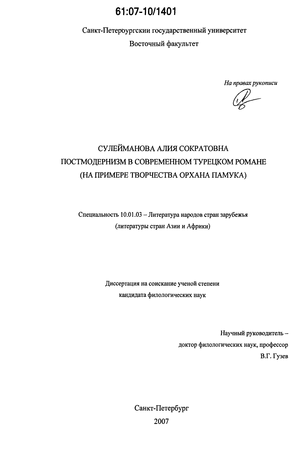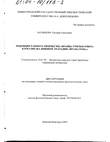Содержание к диссертации
Введение
1.0. Введение 7
1.1. Постмодернизм: история термина и его содержание 7
1.2. Постмодернизм: философско-эстетические предпосылки 9
1.3. Истоки постмодернизма как литературного феномена 15
1.4. Принципы организации постмодернистского произведения 26
1.4.1. Стилистика итематика 26
1.4.2. Повествовательная стратегия 29
1.4.3. Прием «авторская маска» 33
1.4.4. Герой 35
1.5. Турецкие литературоведы о постмодернизме 37
2.0. Глава I. Семейный, общественно-политический и литературный контекст творчества Орхана Памука 48
2.1. Биография Орхана Памука: опыт реконструкции 48
2.2. Общественно-политическая ситуация в Турции республиканского периода 71
2.3. Турецкий роман: возникновение и этапы развития 86
2.3.1. Возникновение жанра романа 86
2.3.2. Роман 20-х-40-х гг. XX в 92
2.3.3. Роман 50-х гг. XX в 97
2.3.4. Роман 60-х гг. XX в 98
2.3.5. Роман 70-х гг. XX в 103
2.3.6. Роман 80-х гг. XX в 106
3.0. Глава II. Творчество Орхана Памука: развитие постмодернистских тенденций 112
3.1. Джевдет-бей и сыновья 113
3.2. Безмолвный дом 126
3.3. Белая крепость 132
3.4. Черная книга 148
3.5. Новая жизнь 160
3.6. Моё имя Красный 168
3.7. Снег 179
4.0. Заключение 192
5.0. Источники и использованная литература 205
- Общественно-политическая ситуация в Турции республиканского периода
- Джевдет-бей и сыновья
- Моё имя Красный
Введение к работе
Предисловие. Актуальность темы исследования. Присуждение современному турецкому романисту Орхану Памуку Нобелевской премии по литературе за 2006 г. свидетельствует о том, что турецкая литература, в XX в. остававшаяся на периферии мирового литературного процесса, теперь по праву заняла место в ряду значимых и влиятельных национальных литератур. Учитывая сравнительно недавнее (1875 г. - появление первого турецкого романа) зарождение традиционного для западной литературы, но нового для турецкой культуры жанра романа, приходится признавать, что менее чем за 140 лет этот новый жанр, а вместе с ним и вся турецкая литература, совершили колоссальный прорыв от простого подражания европейским образцам до завоевания устойчивого интереса к себе и даже любви искушенной европейской публики. Но для этого турецкой литературе пришлось пройти сложный путь, который нельзя назвать строго поэтапным или поступательным, напротив, и в прозе, и в поэзии происходило смешение и переосмысление разнородных стилей и жанров, параллельно могли развиваться романтические, реалистические и модернистские тенденции, которые в европейской культуре сохраняли временную преемственность. В значительной степени такой стремительный и неоднозначно развивающийся литературный процесс обусловлен факторами сложной и противоречивой общественно-политической жизни Турции, а именно, процессом европеизации как самого общества, так и его культуры. Об освоении новых, чужих по форме и по содержанию культурных традиций говорит тот факт, что примерно с 80-х гг. XX в. в турецком литературоведении уже обсуждается появление нового, постмодернистского направления, представленного небольшой, но весьма талантливой и влиятельной группой писателей, среди которых выделяется Орхан Памук. Несмотря на разнородность и несхожесть своего творчества, молодые авторы сумели предложить такие произведения с абсолютно новыми для турецкой литературы тематикой, образной системой, структурами, репертуаром используемых авангардистских приемов, что стали заметным явлением в самой Турции, а Орхан Памук заставил говорить о себе весь мир. В связи с этим представляется актуальным и значимым исследование новых веяний в литературе Турции конца XX - начала XXI в. на примере творчества одного, но самого яркого представителя нового поколения литераторов Орхана Памука, в произведениях которого наиболее полно и талантливо нашли отражение постмодернистские тенденции в современной турецкой литературе. Кроме того, выявление конституирующих признаков постмодернистского произведения, ранее считавшегося продуктом исключительно западной культуры, на материале романов неевропейского автора могло бы внести дополнительную ясность в содержание самих понятий «постмодернизм» и «постмодернистское произведение».
В отечественной тюркологии до настоящего времени не было исследовательских работ, посвященных турецкой литературе последней четверти XX -начала XXI вв. и тем более постмодернистскому направлению. Исключение составляет статья С. Н. Утургаури «Роман в современной литературе Турции» (1988), где обзору турецких романов начала 80-х гг., в том числе и первому роману О. Памука «Джевдет-бей и сыновья», отведена заключительная часть.
В самой Турции за последнее время появилось немало публикаций, характеризующих, но часто поверхностно, само литературное постмодернистское направление, а также анализирующих творчество О. Памука. Среди них следует выделить такие литературно-критические работы, как Б. Моран «Критический взгляд на турецкий роман», часть 3 (1994); Й. Эджевит «Читая Орхана Памука» (1996); М. Текин «Орхан Памук и «Новая жизнь» с точки зрения романиста»; сборник критических статей «Понимать Орхана Памука» (сост. Э. Кылыч) (2000); А. Кабаклы «Турецкая литература», том 5 (1994).
Объектом исследования являются романы О. Памука: «Джевдет-бей и сыновья», «Безмолвный дом», «Белая крепость», «Черная книга», «Новая жизнь», «Моё имя Красный», «Снег»; его литературные и культурологические эссе из сборника «Другие цвета» и автобиографические воспоминания, собранные в книге «Стамбул: воспоминания и город».
Предмет исследования — общие закономерности, жанровые, структурные, тематические особенности, эстетические концепции творчества О. Памука. Цель работы состоит в том, чтобы на основе всестороннего анализа произведений О. Памука выявить характер постмодернистского течения в турецкой прозе конца XX - начала XXI в. Исходя из указанной цели исследования, решаются следующие задачи:
- раскрыть содержание понятий «постмодернизм», «постмодернистское
произведение»;
- выявить и систематизировать основные характеристики постмодернистского произведения;
- проследить процесс развития турецкой прозы в XX в. и обнаружить этапы возникновения и становления нового постмодернистского течения;
- исследовать общественно-политические и литературные предпосылки возникновения постмодернистского направления в турецкой литературе;
- подвергнуть всестороннему анализу творчество Орхана Памука как наиболее яркого представителя нового литературного течения и эксплицировать его постмодернистские особенности.
Новизна и необходимость данного направления исследований и, следовательно, настоящего сочинения определяется отсутствием теоретических работ, посвященных постмодернизму в турецкой прозе, как в самой Турции, так и за рубежом. Предлагаемое сочинение является первым исследованием в отечественной тюркологии, посвященным постмодернистским тенденциям в современной турецкой литературе и, в частности, творчеству романиста О. Памука. Впервые подробно излагается биография писателя. Особое внимание уделено анализу всех написанных им до настоящего времени романов. Сделана попытка не только описать постмодернистские приемы, используемые Памуком, но также найти объяснение их применению в тексте и соотнести их с общей эстетической установкой самого автора.
Теоретическая и практическая значимость. Положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть полезны для дальнейшего, более детального изучения современной турецкой литературы, в разработке курсов лекций и спецкурсов по новой и новейшей турецкой литературе. Кроме того, полученные результаты и накопленный опыт могут быть использованы при рассмотрении схожих литературных процессов и явлений в типологически близких культурных традициях.
Методологической основой послужили современные литературоведческие концепции, основанные на постмодернистской философии и на постструктуралистском анализе текста как знаковой системы. Автор использовал работы по постмодернизму как зарубежных, так и отечественных теоретиков и исследователей постмодернизма (философов, социологов, литературоведов) — Р. Барта, Ж. Бодрийяра, Ж. Дерриды, Ж. Лакана, Ж.-Ф. Лиотара, М. Фуко, У. Эко, И. П. Ильина, В. Курицына, И. П. Смирнова, М. Эпштейна. Были также привлечены основные литературоведческие концепции, изложенные в трудах крупнейших отечественных литературоведов — М. М. Бахтина, В. М. Жирмунского и Ю. М. Лотмана. Выводы о развитии современного литературного процесса в Турции были сделаны с учетом результатов исследований отечественных тюркологов — Л. О. Алькаевой, Е. И. Маштаковой, Т. Д. Меликова, С. Н. Утургаури.
Материалом и источником исследования послужили все художественные произведения Орхана Памука на турецком языке. Широко использовалась упомянутая выше турецкая литературная критика.
Общественно-политическая ситуация в Турции республиканского периода
Творчество Орхана Памука не может быть адекватно понято без учета тех бурных исторических общественно-политических, идеологических, культурных и экономических перемен, которые переживала его родина на протяжении прошлого столетия. Кроме того, некоторые события будут даны с комментариями самого Орхана Памука, почерпнутыми из книги «Стамбул».
Прогулки с матерью и братом, как и многие другие свои воспоминания, Орхан Памук-писатель затем будет вписывать в образы своих героев. В 1922 г. в Турции был упразднен султанат, а затем и халифат, а 29 октября 1923 г. была провозглашена Турецкая Республика. Безусловно, существовал ряд причин, которые привели к этим событиям.
В августе 1923 г. Мустафа Кемаль и его сторонники создали Народную партию (переименованную через год в Народно-республиканскую), которая выражала интересы турецкой национальной буржуазии. Главной целью Муста-фы Кемаля было создание современного по европейским меркам, точнее, имевшего европейский внешний вид, государства и общества, базирующихся на шести основных принципах: республиканский строй, национализм, народность, этатизм, лаицизм и революционность. В 1937 г. эти принципы были внесены и в Конституцию.
Господствующей идеологией республиканской Турции является буржуазный национализм, за которым закрепился термин «кемализм» или «ататюр-кизм». Сегодня отчетливо видно, что руководило кемалистами в выборе новых правил для нового государства — если Турция не будет хотя бы выглядеть по-европейски, с ней поступят как с «отсталыми, нецивилизованными племенами». Как остроумно отметил один турецкий историк, кемалистский национализм был орудием борьбы с Европой за европеизацию [103, с. 43]. А вот что пишет об этом Памук: «Основатели Турецкой республики, пришедшей на смену Османской империи, не слишком ясно представляли себе, какой она должна стать; единственное, что пришло им в голову, — концепция национального турецкого государства. В результате Стамбул, потерявший связь с миром, забыл о днях разноязычия, великолепия и побед, состарился, опустел и превратился в черно-белый, монотонный и моноязычный город» [14, с. 314].
Примечателен список «утрат», который писатель выставляет республике: войско янычар (уничтоженное, кстати, еще во второй четверти XIX в.), невольничьи рынки (закрыты под давлением европейского общественного мнения тоже в XIX в.), дервишеские ордена (закрыты за поддержку султаната, связь с провинциальным сепаратизмом и противодействие перераспределению земельной собственности), османские костюмы (европеизация официального костюма тоже началась еще при султанах), арабский алфавит (впервые идея реформы письма появилась в середине XIX в., перевод на латинизированный алфавит явился звеном в политике отделения «церкви от государства и школы от церкви»), перенесение могил и кладбищ, исчезновение с улиц носильщиков и стай бродячих собак [14, с. 318-320]. В других местах автор сетует на исчезновение деревянных загородных особняков на берегах Босфора, на снос старых стен и зданий: «... наши же европеизаторы, стремящиеся переделать город в соответствии со своими идеями, рассматривали эти особенности, традиции, институты как препятствие и стремились как можно скорее их уничтожить» [14, с. 318]. Одним словом, писателя раздражает «грубо-властный тон, далекий от поэтических красот», который избрали «идеологи государственно-национального патриотизма» [14, с. 326]. Правда, за всеми этими сетованиями стоит, как кажется, все та же тоска по «экзотическому Востоку», столь любимому европейцами, и делающему Турцию не европейской страной, а турок неевропейцами. Кажется, что Орхан Памук, особенно в последних своих произведениях, стремится доказать именно это, к вящему удовольствию самодовольных европейских политиков, которые, впрочем, ни в каких доказательствах не нуждаются. Напомним, что впервые Турция заявила о своем желании вступить в Евросоюз, точнее в Европейский экономический союз - предшественник сегодняшнего ЕС, еще летом 1959 г. Примечательно, что Турция топчется на пороге этой организации без малого 50 лет, это при том, что такие «европейские» страны, как Болгария, Словения, Словакия и Румыния, несмотря на все издержки и нарушения, уже практически получили прописку в единой Европе.
В 1928 г. был принят закон об изъятии из Конституции ссылки на ислам как на государственную религию, но в то же время декларировались свободы вероисповедания и совести граждан. Турция стала внешне светским государством, что отражало взгляды, скорее тактические, нежели стратегические, его первого президента и основателя Мустафы Кемаля. Было решено закрыть религиозные школы и подчинить все учебные заведения Министерству образования. Очевидно, что задачей кемалистов было не просто отделение религии от госу 74 дарства, целью было подчинение религии государству, внедрение вместо традиционных исламских ценностей и институтов новых, соответствующих облику нового государства- Как пишет К. В. Вертяев, «...формирование кемализма как "политической религии" в турецком обществе рассматривалось, в том числе, как замещение традиционного мусульманского мировоззрения новой системой ценностей и ориентиров, которые бы стали базисом нового типа гражданина с новыми моральными критериями, новой гражданской религией со своими ритуалами» [29, с. 83].
Разумеется, это не означало, что новая власть выступает против религии вообще и ислама в частности. По словам Р. Г. Гачечиладзе, кемалисты должны были понимать, что «... не так легко искоренить влияние на культуру религии, в особенности ислама, который так глубоко засел в умах, сердцах, привычках людей, что никакими законами нельзя его заменить» [31, с. 64]. И если не считать запрет, половинчатый и скорее политико-экономический, чем собственно идеологический, на деятельность суфийских орденов и братств, превращавшихся в полуполитические организации, никто никогда не закрывал дверей мечетей. Женщинам, находящимся на государственной службе, было запрещено носить традиционные мусульманские платки. Это правило до сих пор соблюдается в высших учебных заведениях. Но именно в Турции женщины раньше, чем в Европе, получили избирательное право.
1 ноября 1928 г. парламент Турции принял разработанный Министерством образования Закон о введении нового алфавита на латинской основе. Помимо прочего, реформа алфавита дала и толчок ускоренному распространению грамотности, что в условиях острой необходимости в воспитании новой бюрократии и буржуазии, не связанных с имперским прошлым и не запятнавших себя коллаборационизмом с султанским режимом, было просто необходимо.
В 3(М0-х гг. XX в. кемалистами проводилась «форсированная секуляризация» государства. Гарантом проведенных реформ была, а по большому счету остается и поныне, армия, пожалуй, единственный институт, сохранивший традиции преемственности по отношению к славному имперскому прошлому. Можно сколь угодно долго иронизировать по поводу того, что главным либералом в Турции является Генеральный штаб, но опыт, особенно последних десятилетий, других восточных стран — Алжира, Египта, Ирана, Афганистана — показывает, по какому пути могла пойти бы Турция, если бы секуляризация проводилась менее жестко и последовательно.
Во время Второй мировой войны серьезные изменения произошли в экономической сфере жизни Турции. Тогдашнее правительство ввело новые жесткие фискальные меры, например, налог на имущество. Ставки обложения были велики: до 50-70 % от стоимости имущества, немусульмане платили в 10 раз больше, чем мусульмане. Лица, которые не могли выплачивать такую сумму, отправлялись в трудовые лагеря, а затем на принудительные работы в каменоломнях под Эрзурумом [39, с. 43].
Такими жесткими мерами турецкие власти старались не только пополнить казну, но и окончательно устранить инонациональную буржуазию, памятуя о ее роли в годы интервенции. Орхан Памук пишет по этому поводу: «... они очень хорошо помнили введенный в годы Второй мировой войны жестокий налог на собственность, лишивший их денежных накоплений и заставивший продать фабрики...» [14, с. 251]. Были также организованы «бирлики» - объединения, контролирующие внешнюю торговлю Турции (сферу, где со времен империи были сильны позиции инонациональной компрадорской буржуазии), в которые теперь могли вступать только мусульмане. Этот период можно назвать стартовым для многих будущих турецких миллионеров: «... Сабанджи не был бы так богат, если бы во время Второй мировой войны не нажился на голоде и очередях за хлебом» [14, с. 252].
Новая турецкая буржуазия вскоре стала активизироваться политически. Кстати, именно в эти годы проявились те страхи, которые у стамбульских богатеев были связаны с приходом провинциальных нуворишей «нисколько не затронутых ни секуляризацией, ни влиянием западной культуры» [14, с. 242], менее утонченных и изысканных, чем обитатели Нишанташи, но зато более энергичных, решительных и успешных: «В семьях богатых судовладельцев — вы 76 ходцев с побережья Черного моря — не было принято решать свои разногласия в суде. Они предпочитали более решительный способ — оружие» [14, с. 260].
После Второй мировой войны подъем демократических движений в Европе не мог не оказать влияния на общественно-политическую жизнь Турции, в частности, на идеологию Народно-республиканской партии. Что имело следствием возникновение движения за большие политические свободы, за проведение демократических преобразований, за установление многопартийной политической системы. Отчасти это объяснялось некоторой растерянностью руководства Турции, которое долго не могло избавиться от подозрений в свой адрес за симпатии к фашистской Германии.
Джевдет-бей и сыновья
Роман «Джевдет-бей и сыновья» (1982) — первый и, по мнению некоторых турецких критиков [139, с. 416], лучший роман Орхана Памука, в котором на примере трех поколений одной стамбульской семьи рассказывается история образования и становления современной Турецкой республики. Сюжет и содержание этого произведения позволяют исследователям причислить его к жанру «исторического романа» в той трактовке, как понимает сущность этого жанра итальянский ученый У. Эко: «Все поступки героев необходимы для того, чтобы мы лучше поняли историю — поняли то, что имело место на самом деле. События и персонажи выдуманы. Но об Италии соответствующего периода они рассказывают то, что исторические книги, с такой определенностью, до нас просто не доносят» [118, с. 641]. К особенностям авторского стиля можно отнести то, что Орхан Памук вводит в текст, наряду с вымышленными персонажами и событиями, известные имена и факты. Так отечественный тюрколог С. Н. Утургаури отмечает у автора "тягу к факту, документу, точность избираемого материала" [105, с. 52].
Стремление творчески осмыслить некоторые страницы из прошлого своей страны в опоре на документированные исторические события сочетается в первом романе О. Памука с оригинальной манерой изложения фактов, которая заключается в том, что происходит нарушение традиции последовательного, эпического повествования, характерного для романов этого типа. В Турции мнение исследователей на это счет разделилось: одни предпочитают считать, что «Джевдет-бей и сыновья» написан в рамках классического «семейного романа», другие, напротив, обращают внимание на необычную внешнюю форму произведения, возводя ее к традициям модернистского искусства [139].
Правда, иногда тот или иной исторический факт может быть изменен или переосмыслен романистом.
Сам Орхан Памук считает этот свой роман «семейной хроникой», в наибольшей степени связанной с традиционным, классическим романом. Лишь в манере изложения автор, по его собственному признанию, стремился подняться на иной, более высокий уровень [7, с. 129].
Точка зрения С. Н. Утургаури объединяет все эти мнения: «На первый взгляд роман молодого автора можно принять за довольно оригинальную семейную хронику. В нем нет скрупулезного воспроизведения событий, которые год за годом, на протяжении всего XX в., переживала семья известного стамбульского предпринимателя, а запечатлеваются лишь те из них, которые укладываются в три коротких временных отрезка и связаны с конкретными фактами общественной жизни Турции... Развитие сюжета связано в конечном итоге не с судьбой семьи, а изображением событий, происходящих в стране, — столкновением сил, противоборствующих в сфере политики, идеологии, искусства. Поэтому роман Орхана Памука, по существу, является хроникой общественной жизни Турции XX в. Фрагментарность композиции, пропуск временных и сюжетных звеньев нисколько не мешают ощущению реальности, насыщенности, полноты изображения исторической достоверности, не препятствуют тому, чтобы автор подвел свое повествование к изображению важнейших социально-политических процессов современной Турции. В остальном же в романе "Джевдет-бей и сыновья" Орхан Памук не отходит от принципов классического письма» [105, с.50].
Отечественная исследовательница полагает, что новаторство Орхана Памука, наблюдаемое в организации текста романа, хотя и нарушает эпическое спокойствие повествования, дает тем самым возможность выделить особо важные для раскрытия центральной идеи события.
Первоначально роман назывался «Тьма и свет» (1979). Вероятно, такое название мало соответствовало авторскому замыслу описать своеобразие исторического пути современной Турции, поскольку в 1982 г. после некоторой доработки произведение было издано вновь, но под названием «Джевдет-бей и сыновья». Подобное «коммерческое» название непременно ассоциируется с на 115 званием какой-нибудь западной фирмы или торгового дома. Оно само по себе настраивает читателя на знакомство с произведением, так или иначе связанным с «приключениями» Турции на пути капитализации и европеизации. В этой связи любопытна параллель с известным романом X. 3. Ушаклыгиля — «Ферди и Компания». Кстати, и первоначальное название можно соотнести с инверсированным названием романа того же автора «Голубое и черное», лейтмотивами которого являются разрушение традиционного уклада и становление новой литературной традиции.
Как уже было отмечено С. Н. Утургаури, автор не ставил себе целью изложить новейшую историю Турции год за годом, в строгой хронологической последовательности. Он выбрал лишь те события, которые, на его взгляд, привели страну в то современное состояние, в котором существуют он и его турецкие читатели: это 1905 год — усиление антисултанской, а шире - и антиосманской, оппозиции, проявившейся в неудавшемся покушении на Абдул Хамида II; 1937-1938 гг. — последние годы жизни основателя республики Кемаля Ата-тюрка и начало правления его сподвижника Исмета Иненю; 1971 год — канун второго государственного переворота. Отсюда и трехчастное построение романа, и смена поколений главных героев. Сначала в фокусе повествования находится сам Джевдет-бей, затем один из его сыновей, на авансцене третьей, заключительной части, оказывается уже внук главы семейства. Эти части романа разделены временными промежутками — о том, что произошло за это время с тем или иным персонажем, читатель узнает из уст персонажей новой главы. Такая прерывистость, дискретность романного времени, отчасти, пародирует эпическую традицию, где герой появляется и проявляется лишь в экстремальных ситуациях.
В первой части романа (12 глав) описывается всего один день из жизни Джевдет-бея. Однако по насыщенности событий, их значимости он соотносим с самым известным «романом одного дня» — «Улиссом» Дж. Джойса.3 Джевдет 3 В своем творчестве Орхан Памук неоднократно апеллирует к «Улиссу» Дж. Джойса. Безусловно, речь идет не о подражании, намеренном или бессознательном, а об шггертекстуалыюй связи, очевидной для любого читателя, знакомого с европейской литературой XX в. бей — первый турок, мусульманин, решивший заняться коммерцией в Стамбуле. Герой держит лавку, в которой продает лампы. Отсюда и его прозвище среди торговцев — Джевдет Ышыкчи (торговец лампами). У него есть старший брат - Нусрет, военный врач, который в Париже увлекся антимонархическими идеями и вступил в одно из младотурецких обществ. Оба брата по разным причинам прекратили всякие отношения с многочисленными родственниками, да и между собой общались только потому, что Нусрет заболел чахоткой, от которой в свое время умерла их мать, и теперь нуждался в материальной помощи брата. Нусрет перед смертью просит младшего брата присмотреть за сыном по имени Зия. Зия — один из немногих персонажей романа, чье присутствие символично, но пронизывает все повествование. У Джевдет-бея есть друг — Фуат-бей, еврей, принявший ислам для того, чтобы спокойно развивать семейное дело в Салониках. Он является проводником, наставником героя во всем, что касается не столько коммерции, а сколько адаптации к новому стилю жизни (от еды до устройства семьи). К атрибутам этой новой жизни относится брак Джевдет-бея с девушкой из знатной стамбульской семьи — с дочерью Шюкрю Паши и покупка собственного дома в районе Нишанташи. Собственно, день Джевдет-бея состоит из встреч с этими персонажами. Из впечатлений от встреч складывается и портрет главного героя, и картина турецкого общества конца XIX в.
Вторая часть романа самая большая и по объему (62 главки), и по насыщенности персонажами. Здесь внимание читателя переносится на сыновей Джевдет-бея. Сам герой хотя и присутствует, но уже служит скорее фоном для остальных персонажей. Старший сын Осман продолжает дело отца, младший же Рефик постоянно находится в каком-то поиске, поиске собственного места в новой жизни, он типичный «мятущийся» интеллигент. Каждый из сыновей сумел продолжить только одну линию отца — Осман преуспевает в делах, но его семейная жизнь основана на лжи (и муж, и жена обманывают друг друга), Рефик же любит жену, семью, но не может занять себя ни одним делом, а подобно умершему дяде строит планы по обустройству общества. Параллельно разви 117 ваются линии друзей Рефика по инженерному училищу: Омера и Мухиттина. Мухиттин — неудавшийся поэт, ошибочно полагавший, что националистические идеи и трескучие лозунги способны заменить отсутствие таланта. В образе Омера же раскрывается такой тип героя, который уже встречался в творчестве турецких писателей, например Сабахаттина Али [101, с. 201]. Он — из тех молодых людей, которые, побывав в Европе, мнят себя искушенными знатоками жизни или завоевателями мира. Однако за внешним пафосом кроется, как правило, слабая личность, неспособная выразить себя ни идейно, ни творчески, ни эмоционально. Сюжетная линия Омера была бы совсем невнятной, если бы не была усилена любовным конфликтом. Омер какое-то время собирался жениться на дочери одного из первых депутатов меджлиса, ярого республиканца, но свадьба расстроилась из-за инертности и нечеткости жизненной позиции молодого человека. Общее впечатление таково, что такие персонажи, как Омер или Мухиттин, вводятся автором для того, чтобы, развивая их линии, вводить все новые и новые действующие лица, создающие «портрет» всего общества. Таким образом, О. Памук воссоздает именно ту историческую картину, о ценности которой в романах говорил У. Эко.
Главным действующим лицом в третьей, заключительной части (снова 12 главок) становится сын Рефика — Ахмет. (Напомним, что так же зовут и героя романа «Голубое и черное».) Любопытно, что время действия ограничивается также событиями одного дня, причем дня накануне военного переворота, т. е. речь идет об 11 марта 1971 г. Как и в первой части, день Ахмета начинается с пробуждения и утреннего туалета, затем описываются встречи с дядей Омером и его женой, бабушкой, родной сестрой, любимой девушкой, прочими родственниками. И заканчивается роман кончиной бабушки.
Из уст Ахмета читатель узнает, что произошло с семьей с того момента, как Рефик переехал с женой из родового гнезда в другой дом. Очевидно, что воспоминания этого персонажа соотносятся с детскими воспоминаниями самого О. Памука (дом в Нишанташи, где на разных этажах живут родственники), а также с собственными нереализованными желания: Ахмет — художник. Авто 118 биографические мотивы чрезвычайно распространены в произведениях Паму-ка, ниже мы попытаемся проследить эти мотивы в каждом из романов писателя. «Джевдет-бей и сыновья», пожалуй, самый автобиографический роман Орхана Памука, если доверять воспоминаниям автора — его книге «Стамбул». Здесь и мифологизированный образ деда, и фигура бабушки как воплощение традиции, и перипетии семейных отношений внутри клана, и место действия и т. д. и т. п.
Совершенно очевидно, что в романе ни один из героев не может претендовать на ведущую роль, но каждый из них является тем фрагментов мозаики, из которых складывается калейдоскоп исторических событий и человеческих типов современной Турции. Представляется, что уже в первом своем романе, в «Джевдет-бее и сыновьях», Орхан Памук наметил себе ряд тем, которые ему как писателю интересны и которые он будет варьировать в последующих произведениях.
Моё имя Красный
Роман «Моё имя Красный» (1998) состоит из 59 глав, каждая из них озаглавлена по имени того персонажа, от лица которого ведется повествование. Рассказы от имени неожиданных предметов — красного цвета, дерева, монеты, нарисованной собаки, лошади, покойника, шайтана и даже смерти — имеют, как правило, характер вставной новеллы. Однако, в отличие от «Черной книги», где события из вставных глав преломлялись в основном тексте, в этом романе вставные новеллы не связаны с развитием основных сюжетных линий. Представляется, что их роль в данном случае заключается в пародировании так называемого «обрамленного» повествования или «рассказа в рассказе» — к примеру, сборники «Сорок утр и сорок вечеров», «Калила и Димна» и т. д. вплоть до «Тысячи и одной ночи» — причем, как кажется, в его устном варианте, когда рассказчик-меддах, недовольный реакцией публики, уходил от основного сюжета. На первый взгляд, и здесь вставные главки размывают, затягивают развитие главной детективной интриги романа. Но, в отличие от «Черной книги», в них не содержится ни единого намека на разгадку детективной компоненты, а напротив, дается такая разнородная информация и так хаотично и внесистемно, что, если интересна лишь развязка, эти главки можно игнорировать. Думается, что функция вставных главок в «Моё имя Красный» — иная: благодаря им, роман становится привлекательным и для самой искушенной публики, и для людей, не слишком художественно просвещенных. Здесь реализуется постмодернистский принцип «двойного кодирования». О. Памук возвращается к ироническому переосмыслению приема «обрамленного» повествования или «рассказа в рассказе», пришедшего в европейскую литературу на волне ориентальной моды и растиражированного массовой литературой. Писатель использует этот теперь уже избитый прием для введения в текст информации, создающей исторический, культурный, этнографический фон основного сюжета, что придает роману черты интеллектуальной литературы.
В целом структура романа «Мое имя Красный» временами напоминает повествовательный хаос, поскольку вставные рассказы-притчи то и дело возникают в сюжетообразующих главах, что в полной мере реализует постмодернистские принципы фрагментарности и пермутации. Очевидно также, что дискурс разбит на несколько повествовательных уровней. Таким образом, Орхан Памук реализует одну из своих излюбленных повествовательных стратегий — отстраниться от собственного текста, снять с себя всякую ответственность за конечный результат восприятия текста, наконец, передать читателю функцию упорядочивания хаоса в тексте, тем самым заставив его создать собственную картину видения художественного мира. Способствует этому и введение авторской маски: автор скрывается под множеством повествовательных масок, помещая в каждую главу формального рассказчика, который принадлежит миру художественного вымысла и ведет повествование от своего имени. Целью этого является стремление автора, во-первых, показать множество равноценных и равнозначных взглядов на одну ситуацию, при этом никто не настаивает на окончательной истинности своего взгляда; во-вторых, разрушить тем самым читательские стереотипы (только очень искушенного читателя не удивит монолог трупа в качестве начала романа).
На первом уровне восприятия роман «Мое имя Красный» прочитывается как артдетектив. Буквально, следуя постмодернистской установке высмеивания жанров массовой литературы, О. Памук использует эстетически сниженный жанр как повод для рассуждений о высоком искусстве классической миниатюры и принципиальной разнице в эстетических установках Востока и Запада. Собственно содержание произведения вынесено Памуком в эпиграф. Примечательно, что это цитаты из Корана. Наиболее интересны две последние: «Слепой зрячему не товарищ» (35:19/20) (у И. Ю. Крачковского: Не сравниться слепой и зрячий, мрак и свет, тень и зной. Не сравняться живые и мертвые) и «И Восток, и Запад принадлежат Аллаху» (2:109/115). (В переводе И. Ю. Крачковского: Аллаху принадлежит и восток, и запад) [54]. На первый взгляд, они не соотносимы и даже прямо противоположны друг другу, если рассматривать их в ракурсе отношений между Востоком и Западом. Но с другой стороны, писатель, расположив их друг за другом, словно бы предлагает отказаться от противопоставления двух миров, поскольку они оба — творения Бога. В тексте романа различные персонажи неоднократно цитируют эти айяты, причем в разном контексте, что, с одной стороны, показывает универсальность вечных истин, но, с другой стороны, переводит их в разряд трюизмов.
Что же касается собственно детективной составляющей сюжета, то она строится в соответствии с новыми жанровыми требованиями постмодернистского произведения. «Мое имя Красный» вписывается в ряд постмодернистских детективов, представляющих собой коллаж интерпретаций, каждая из которых в равной степени может претендовать на онтологическую истинность. В произведениях такого рода стремление героев восстановить картину событий оказывается безрезультатным, а поиск истины, даже в примитивном поиске убийцы, изначально обречен на неудачу или случайность развязки.
«Безуспешность восстановить правильный ход событий не связана с интеллектуальной неспособностью героя решить предложенную ему головоломку, но обусловлена самой природой событийности. Все дело в общей постмодернистской установке на отказ от метафизического наличия пронизывающего бытие универсального смысла. Философия постмодернизма интерпретирует событие как обретающее свой смысл в процессе его интерпретации или, что лучше, множества интерпретаций» [72, с. 215].
«Единственно правильная» версия отсутствует как таковая. Так называемые «факты» есть не более чем повод для упражнения автора и, соответственно, читателя в бесконечном умножении истолкований того, что в принципе не существует как данность, т. е. симулякра. Поскольку постмодернизм отрицает торжество справедливости и нормы, характерные для эпохи Гуманизма, то и в постмодернистском детективе часто победа справедливости бывает двусмысленной. Таким образом, постмодернистские детективы не завершаются традиционным раскрытием тайны (как оно было «на самом деле»), — искомый продукт оказывается растворенным в самом процессе поиска.
Детективная интрига в романе «Мое имя Красный» закручивается вокруг некой рукописи, что не может не напомнить о другом произведении подобного жанра — о романе У. Эко «Имя розы», где сюжетообразующим элементом становится также старинная книга. И в том, и в другом произведении книга/рукопись становится причиной нескольких убийств. В турецком романе первой жертвой становится мастер из цеха миниатюристов — Зариф, работавший над тайной рукописью, якобы предназначенной для султана. В это же время из Тебриза в Стамбул, после 12-летнего отсутствия возвращается некто, названный Кара (Черный), — специалист по организации оформления рукописей различными ремесленниками. Кара некогда был влюблен в свою двоюродную сестру Шекюре. Именно поэтому ему пришлось покинуть Стамбул много лет назад. Теперь же отец девушки, которого все зовут Эниште и который является формальным заказчиком рукописи, просит Кара расследовать убийство. Подозрение падает в первую очередь на других работавших над рукописью мастеров: Лейлека, Зейтина и Келебека. Что же касается девушки, то за время отсутствия Кара она успела выйти замуж, родить двух детей — Орхана и Шевкета, но сейчас живет в доме отца, поскольку её супруг, уйдя на войну, уже 4 года не подает о себе вестей.
От взгляда внимательного читателя вряд ли ускользнет, что одного из детей зовут Орхан. Взаимоотношения братьев в романе напоминают взаимоотношения писателя и его старшего брата, как они представлены в книге «Стамбул» [14, см. главу «Конфликты со страшим братом»]. То же можно сказать и об отношениях Орхана и Шекюре, которые напоминают, вплоть до эмоциональной реакции мальчика на тепло и запах материнского тела, отношения матери и сына из «Стамбула» [для сравнения: 14, гл. «Мама, папа и их исчезновения»]. Роль мальчика в романе довольно любопытна — в последней главе, написанной от имени Шекюре, читатель узнает, что прочитанная им книга, — всего лишь интерпретация событий, созданная через четверть века сыном Орханом, наделенным явно автобиографическими чертами самого автора. Автобиографические мотивы вообще характерны для творчества Памука, но в данном романе они усилены еще и посвящением Рюйе, а именно так зовут и дочь писателя, и главную героиню его романа «Черная книга».