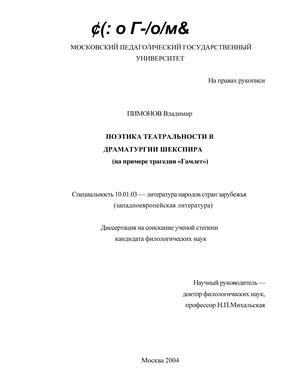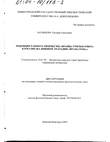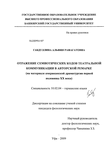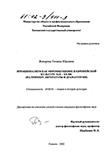Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Структурные элементы поэтики театральности в трагедии «Гамлет»
1 .Повтор и мультипликация сюжета 29
2. Композиционная функция сюжета о Пирре 48
Глава II. Инвариантная модель театральности
1 .Раздвоение/удвоение и инверсия ролей как интертекст 55
2. Интерпьеса как театральный сюжет 77
Глава III. Структура и семантика интерпьесы
1 .Гамлет-драматург 80
2. Игра с числами как структурный элемент театральности 119
Глава IV. Драматическая метафора как элемент театральности
1 .Зашифрованный сюжет 15 5
2 .Драматическая метафора яда 171
3.Загадка Гамлета 176
Заключение 191
Примечания 196
Библиография 221
- Композиционная функция сюжета о Пирре
- Интерпьеса как театральный сюжет
- Игра с числами как структурный элемент театральности
- .Драматическая метафора яда
Введение к работе
Настоящая работа посвящена проблемам поэтики театральности в драматургии Шекспира (на примере трагедии «Гамлет»).
Понятие театральности как эстетического принципа в искусстве Возрождения и барокко с одной стороны генетически восходит к космизму античности и карнавальной амбивалентности Средневековья, а с другой — связано с психологическим восприятием иллюзорности и игровой природы бытия. Мироощущение, выраженное в метафорах «мир-театр» (Шекспир) и «жизнь-сон» (Кальдерон), находит яркое отражение в европейской драматургии XVII века, когда, по словам Й.Хейзинги, создается «великая мировая сцена». В рамках семиотических штудий XX столетия возникает повышенный интерес к театральности как совокупности систем знаков. Однако театральность как понятие поэтики до сих пор остается недостаточно изученным явлением.
Категория поэтики традиционно относится к теории литературы, а термин «театральность» обычно связывают с технологией театра, «сценическими элементами», то есть противопоставляют категориям теории литературы. Поскольку все средства выражения в словесном произведении искусства в конечном счете сводятся к языку, в данном исследовании термин «театральность» определяется не в системе оппозиции «театр/литература» (П.Пави), а как имманентная составляющая драматического текста. Иначе говоря, как способ построения текста, основанный на закономерностях иерархической организации и смыслового взаимодействия текстов разных уровней (вербального и невербального, текстового и метатекстового) в художественном пространстве драматического произведения.
Игровое взаимодействие «реального-условного» в драматургии Шекспира обусловлено присутствием в тексте метатекстовых элементов, закодированных тем же самым, но удвоенным кодом. В поэтике театральности Шекспира текст драмы представляет собой уникальный симбиоз текста и метатекста, когда метатекст становится органической частью самого текста.
Драматический текст Шекспира моделирует особое знаковое пространство, в котором невербальные средства выражения (жесты, костюм, освещение, сценический реквизит, декорация) оказываются не только театральными, но и поэтическими, что позволяет говорить о раздвоении драматического текста, о словесном действии. В этом смысле «театральность» характеризуется не противоположностью вербальному тексту (театр минус текст), а как неотъемлемый структурный элемент вербального текста - как феномен текстуальной театральности. В настоящей работе определение текстуальной театральности связано не просто с игрой и разыгрыванием разных ролей, а со словесными (текстовыми) ролевыми играми.
Театральность и театральная эстетика возникают только тогда, когда в ходе разыгрывания ролевых игр реальные объекты воспринимаются как символические, а символические как реальные. В этой же связи возникает и драматизм, но не как психологическая категория, а как объективный результат, инсценировки и
розыгрыша, когда наряду с реальностью первой степени - физической, возникает реальность второй степени - ментальная (воображаемая). Элементарная модель поэтики театральности Шекспира в настоящей работе описывается как функция «А в роли В», то есть как совмещение двух ролей-текстов.
В данном исследовании предлагается порождающая трансформационная модель поэтики театральности в драматургии Шекспира. Эта порождающая модель основана на особой структурной организации текста, когда один персонаж или группа персонажей, выступая в роли авторов, драматургов, режиссеров и актеров, разыгрывают театральную постановку по сочиненному ими сценарию для другого персонажа или группы персонажей, выступающих в роли зрителей. По ходу действия происходит инверсия и/или обмен ролями - и автор постановки становится жертвой собственной инсценировки, предназначенной для другого персонажа.
Актуальность темы настоящей работы связана с тем, что проблема театральности художественного произведения стала одной из самых обсуждаемых в современном литературоведении. Театральность в драматургии Шекспира как категория поэтики (в отличие от семиотики сцены, технологии и практики театра) до сих пор остается мало изученным явлением и только в последнее время стала привлекать внимание исследователей. Предлагаемая диссертационная работа также актуальна в рамках разработки теории «драматологии» (наряду с нарратологией).
Исследованность материала. До сих пор слово театральность употребляется для описания совокупности внешних сценических проявлений, присущих театральному искусству или игровой (семиотической) деятельности вообще, а не как термин поэтики. Проблема театральности у Шекспира затрагивалась в целом ряде исследований: ЛАбель, НАлександер, АААникст, С.Бетелл, Г.Блум, Л.С.Выготский, М.Мэк, А.Т.Парфенов, Л.Е.Пинский, А.Райтер, Т.Росс, У.Санфорд, Л.Скрэг, Р.Флэгтер, Ч.Форкер, Л.Уилдз,. В большинстве работ театральность в пьесах Шекспира понимается как набор приемов из практики театра или как сценический прием «театр в театре».
В настоящей работе театральность определяется как категория поэтики. Исследуется глубинная семантика театральности как основного художественного метода Шекспира. Образы, темы и мотивы в драматургии Шекспира рассматриваются в их целостности и взаимосвязи, и, что самое главное, выявляются закономерности их трансформаций.
Научная новизна исследования определяется введением целого комплекса понятий для описания поэтики театральности в драматургии Шекспира, таких как «текстуальная театральность», «интерпьеса» (как минимальный значимый сегмент драматического текста), инверсия и трансформация ролей. В работе впервые предлагается порождающая модель поэтики театральности у Шекспира, позволяющая анализировать драматический текст на разных уровнях. Более подробно новизна работы может быть сформулирована в положениях, выносимых на защиту:
1. Театральность как категория поэтики является способом построения драматического текста Шекспира.
- ^'>'*U..t>in-4 ..'і'і':")
; *v* >x* « t
-
Драматический текст Шекспира моделирует особое знаковое пространство, в котором невербальные средства выражения являются неотъемлемым структурно-смысловым элементом вербального текста.
-
Элементарная модель театральности у Шекспира представляет собой функцию «А в роли В», то есть совмещение двух ролей-текстов.
-
Наикратчайшая значимая, дискретная единица драматического текста Шекспира определяется как «интерпьеса», описываемая формулой: «А» выступает перед «В» в роли «С».
-
Использование чисел у Шекспира связано с понятием игры и является структурно-смысловым элементом поэтики театральности.
-
Шекспир использует особый тип драматической метафоры, соединяющей поэтический и драматический уровни пьесы в единое художественное целое.
Основным предметом исследования поэтики театральности у Шекспира в настоящей работе является трагедия «Гамлет» (с параллельными примерами из других пьес Шекспира, например, «Сон в летнюю ночь», «Отелло», «Король Лир» и др.) Выбор трагедии «Гамлет» как главного предмета анализа обусловлен двумя факторами. С одной стороны - это один из основных текстов европейской культуры, который продолжает порождать все новые и новые тексты-интерпретации. С другой стороны - это произведение, в котором наиболее ярко нашел свое выражение созданный Шекспиром новый тип художественного мышления, в основе которого лежит концепция тотального театра. Трагедия «Гамлет» является порождающим текстом, одним из наиболее значимых мифов западноевропейской культуры.
Основная цель работы состоит в исследовании поэтики театральности в драматургии Шекспира, в проведении литературоведческого анализа драматического текста как единого целого, а также в анализе используемых драматургом приемов выразительности и определении их функционирования на уровне инвариантных моделей построения пьесы. На основании главной цели исследования были поставлены следующие задачи, решение которых позволяет выстроить нашу концепцию творческого метода Шекспира и понять природу поэтики театральности его драматургии:
- выявление структурных элементов поэтики театральности у Шекспира;
-выявление инвариантной, порождающей модели театральности и
наикратчайшей структурно-смысловой единицы драматического текста Шекспира;
анализ структуры и семантики трагедии «Гамлет» с точки зрения поэтики театральности;
анализ использования чисел у Шекспира как структурно-семантического приема театральности, связанного с понятием игры;
выявление сюжетообразующей и композиционной функций метафоры как имманентной составляющей поэтики театральности у Шекспира.
Основными методами исследования являются историко-теоретический (Н.П.Михальская, ВАЛуков), структурно-семиотический (с элементами интертекстуального анализа), а также метод трансформационного анализа. Важным теоретическим ориентиром в работе стали исследования С.САверинцева, А.Н.Веселовского, М.М.Бахтина, Ю.Кристевой, Ю.МЛотмана, ВЯПроппа, В.Н.Топорова, О.М.Фрейденберг по проблемам поэтики; работы по теории театральности А,Арто, Р.Барта, Н.Н.Евреинова, ЯМукаржовского, ППави, Н.Т.Пахсарьян, М.Я.Полякова, ЕАЛоляковой, Н.ИЛрозоровой, Й.Хейзинги, КЭлама; в области шекспироведения - исследования АААникста, Л.С.Выготского, М.М.Морозова, А.ТЛарфенова, Л.Е.Пинского, И.О.Шайтанова, Ю.Ф.Шведова, а также крупнейших зарубежных ученых, в частности, Г.Блума, А.Брэдли, А.Бреннана, Дж.Буллоу, Г.Гренвиль-Баркера, Р.Левина, ММэк, А.Рихтер, М.Розенберга, У.Санфорд, Л.Скрэг, К.Сперджен, Л.Уилдз, Г.Фернеса, Т.Хокса.
Научно-практическое значение диссертации состоит в возможности использования полученных результатов в дальнейших исследованиях, посвященных как проблеме поэтики театральности в драматургии Шекспира, так и при анализе любого драматического текста. Кроме того, работа может быть использована при чтении лекций по поэтике драматургии, проведении спецкурсов и специальных семинаров по литературе XVII века.
Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались в форме докладов на III всероссийской конференции молодых ученых (Москва, 2004), на XVI Пуришевских чтениях (Москва, 2004), на заседании аспирантского объединения МПГУ (2004), в виде тезисов были включены в программу Международной конференции XTV съезда англистов «Компаративистика: современная теория и практика (Самара, 2004). Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры всемирной литературы Московского педагогического государственного университета.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, примечаний и библиографии. Объем диссертации - 195 страниц (с примечаниями и библиографическим списком - 244 стр.). Библиографический список, насчитывающий 358 наименований, включает критическую и исследовательскую литературу, художественные тексты.
Композиционная функция сюжета о Пирре
Для понимания «действенного бездействия» Гамлета с точки зрения поэтики театральности важнейшее значение имеет сцена встречи Гамлета с актерами (II.2), в которой сюжет убийства и мести разыгрывается в тексте рассказа Энея о Пирре. В отличие от трех описанных выше линий мстителей: Гамлета, Лаэрта и Фортинбраса, линия Пирра (интерпьеса) представлена в трагедии не на действенном, а на театрально-метафорическом уровне. «Интерпьеса» у Шекспира реализуется в трех разных ипостасях: когда ее можно увидеть и услышать (основное действие); когда ее можно увидеть, но нельзя услышать (пантомима, немые сцены) и когда ее можно услышать, но нельзя увидеть (напр., Гамлет не видит Полония за ковром). При этом, вначале тема реализуется на бессловесном уровне (появление молчащего Призрака), затем на вербальном уровне, но без действия (напр. рассказ Энея) и, наконец, на действенном уровне, когда Гамлет осуществляет свою месть.
Гамлет просит Первого актера: «покажите нам образец вашего искусства» («give us a taste of your quality» (II.2.427-8) и предлагает ему прочитать отрывок из рассказа Энея Дидоне. Текст, исполняемый Первым актером, представляет собой очередной повтор амбивалентной темы «убийства и мести» в новой версии - в жанре античной миниатюры - и персонажи этой «интерпьесы» - Пирр, Приам, Гекуба - корреспондируют с персонажами основной пьесы - Клавдием, старым Гамлетом, Гертрудой. Заметим, что Гамлет просит актера прочитать отрывок об убийстве Приама (Priam s slaughter (П.2.444), то есть тема мести в явном виде не задана.
Перед зрителем возникает образ разъяренного сына - Пирра, чей отец был предательски убит, и который готов отомстить за это убийство 49 Приаму и королеве - Гекубе, в образе которой, как и в образе Гертруды, подчеркнута материнская функция. Текст монолога Энея (трижды прерываемый ремарками Полония) распадается на три сегмента, каждый из которых в смысловом отношении связан с каждым из трех персонажей, о которых идет речь - Пирр, Приам, Гекуба. Корреспондирующие функции персонажей монолога Энея и героев самой пьесы отмечалась в ряде исследований. Гарри Левин сравнивает самого Первого Актера с Гекубой (Levin 2003).47 Гарольд Дженкинс усматривает парраллель не только между Пирром и Гамлетом, (позже эта идея была отражена в комментарии Морозова к подстрочному переводу «Гамлета») (Морозов 1954),48 но и между Пирром и Луцианом по функции «убийцы отца» (Jenkins 2000).49
Сначала Гамлет сам начинает играть роль Энея, напоминая Первому актеру начало текста (описывающее мстителя Пирра) и подчеркивая тем самым параллель между персонажами пьесы и персонажами «интерпьесы». В момент, когда Гамлет начинает цитировать отрывок из рассказа Энея, в действии незримо возникает роль Дидоны, поскольку Эней обращается к ней. Таким образом, вначале функционально в роли Дидоны оказывается Первый Актер, к которому обращается Гамлет, исполняющий рассказ Энея. Затем они меняются ролями, и в роли Дидоны оказывается сам Гамлет, выслушивающий рассказ Энея в исполнении Первого Актера. В смысловом отношении эта структура параллельна линии Гамлет-Офелия. Один из мотивов самоубийства Офелии, что явствует из ее песен, связан с тем, что ее покинул любимый - Гамлет. Мотив самоубийства Дидоны связан с тем, что Эней, в которого она была влюблена, покинул ее. (Корш 1894)50 Таким образом, возникает удвоение-раздвоение и мультипликация образа Дидоны, двойниками которой по разным предикатам становятся поочередно Первый Актер, Гамлет и Офелия. Мифологический фон рассказа Энея создает и другую систему образов-двойников. Гамлет, племянник Клавдия, читает отрывок рассказа Энея, племянника Приама (отец Энея Анхиз приходится кузеном Приаму) (Виллани 1997)51 об убийстве Пирром короля Приама. Здесь возникает структурная параллель между племянником-Гамлетом -будущим убийцей Клавдия, и племянником-Энеем, роль которого берет на себя Гамлет, вживаясь одновременно в роль мстителя-убийцы - Пирра. Таким образом, в пьесе присутствуют роли не трех племянников, как принято считать - Гамлета, Фортинбраса и Луциана, а четырех - если считать Энея.
В сцене на кладбище Гамлет рассуждает о прахе Александра Великого, как бы отождествляя себя с ним. Александру пришлось принести на алтарь Зевса жертву тени Приама, чтобы искупить вину, так как Александр считал себя потомком Ахиллеса по материнской линии, а сын Ахиллеса Неоптолем (или Пирр) убил Приама. Здесь также обнаруживается параллель между Александром, искупающим вину перед тенью убитого и Гамлетом, выполняющим долг мести перед тенью отца - Призраком.
Обратим внимание на строки, с которых Гамлет напоминает Первому актеру текст рассказа Энея: «The rugged Pyrrhus, like th Hyrcanian beast» (446). Здесь Гамлет прерывает сам себя и признает, что текст должен начинаться не с этих строк: « tis not so; it begins with Pyrrhus» (447). «Ошибка» Гамлета при цитировании текста Энея - своеобразный фальстарт имеет скрытое смысл, имеющий отношение к театральной семантике цвета на сцене. Гирканский зверь - это тигр (Jenkins 2000), имеющий черную и красную окраску. При дальнейшем описании Пирра фигурируют эти два цвета. У Пирра «sable arms» (448) - («sable» - геральдический термин для обозначения черного цвета), он «black as his purpose» и «did the night resemble» (449). Но Пирр и «total gules» (453) (геральдический термин, обозначающий красный цвет) (Scragg 1994) и «horridly trick d with blood», и «o er-sized with coalulate gore» (458), «with eyes like carbuncles» (459).
Интерпьеса как театральный сюжет
Предложенный анализ структурных элементов поэтики театральности в трагедии Шекспира «Гамлет» позволяет по-новому определить, с одной стороны, сюжет драматического произведения - как наложение двух историй путем инсценировки, разыгрывания одной фабулы внутри другой, и с другой стороны, - выделить наикратчайшую структурно-смысловую единицу драматического произведения - «интерпьесу», основанную на интертекстуальном взаимодействии оппозиционных пар «актер-режиссер» и «актер-зритель». При этом возникает два типа фабулы. Фабула первой степени - как цепочка реальных событий в реальной последовательности и фабула второй степени - как цепочка инсценированных событий, представленных как реальные. По ходу действия персонажи начинают выступать в новых - по отношению к изначально заданным - ролях. Схематично театральный сюжет можно описать как «А выступает перед В в роли С». Назовем эти роли условно ролями первого и второго рода. Роли первого рода: автор или драматург, режиссер, актер, зритель. Роль второго рода: действующее лицо становится персонажем того спектакля, который разыгрывается.
Приведем пример сюжета в «Федре» Ж. Расина. Мачеха (Федра) влюбляется в своего пасынка (Ипполита). Пасынок не отвечает взаимностью мачехе (фабула первой степени). Тогда мачеха «инсценирует» следующую ситуацию: выступая в роли «режиссера» Федра себе и пасынку отводит роль «актеров», а мужу (Тезею) - роль «зрителя». Для мужа-«зрителя» жена-«режиссер» представляет дело таким образом, что сын в роли соблазнителя пытается соблазнить мачеху в роли верной жены (фабула второй степени). Сюжет здесь представляет собой преобразование одной фабулы (первой степени) в другую - в фабулу второй степени путем театральной инсценировки, в результате чего возникает «интерпьеса». В сюжете драматического произведения осуществляется инверсия фабул. Фабула первой степени, то есть реальные события, воспринимаются как инсценировка (фабула второй степени), а события инсценированные (фабула второй степени) воспринимаются как реальные.
Сцена разговора Гамлета с матерью после «Мышеловки» (как и сама «Мышеловка) демонстрирует аналогичную инверсию фабул. Здесь есть и автор спектакля-инсценировки (Клавдий), который придумывает фабулу второй степени, и режиссер-постановщик (в данном случае эти роли соединены в Клавдии), есть и исполнитель (Гертруда), которая знает, что она участвует в спектакле, в розыгрыше, между тем как Гамлет становится невольным участником этого спектакля. Есть и зритель (Полоний), который знает, что видит спектакль, в то время как Гамлет вначале думает, что видит реальное событие, а не инсценировку. Как правило, цель автора, драматурга и режиссера (эти метароли могут быть соединены в одном персонаже) состоит в том, чтобы представить инсценировку как реальность, а реальность как инсценировку. К основным методам инсценировки относятся: выдавание себя за другого (разыгрывание роли), переодевание, смена пола, ложное безумие, ложная смерть. При реализации сюжета драматического произведения выделяются и две инвариантные роли, в которых выступают персонажи: роль автора, драматурга или режиссера инсценировки и роль зрителя, для которого эта инсценировка должна выглядеть как реальность (фабула первой степени). При этом по ходу действия часто происходит инверсия ролей, то есть персонажи меняются ролями. В «Гамлете» Клавдий сначала выступает как автор и режиссер, а Гамлет - в роли зрителя. Потом Гамлет выступает в роли автора и режиссера, а Клавдий - в роли зрителя. То же самое происходит в «Отелло». Сначала Яго - автор и режиссер, а Отелло - зритель. Потом они меняются ролями.
Предлагаемый функциональный подход к анализу драматического произведения принципиально отличается от дескриптивной модели театральной системы, предложенной французской исследовательницей А.Юберсфельд (Юберсфельд 2001)49 и представляющий собой опыт применения греймасовской семиотики повествования к драматическому тексту. Греймас вслед за советским ученым В.Проппом выдвигает понятие актантной системы. В.Пропп на материале русской народной сказки выявил 31 функцию и семь сказочных фигур, необходимых для реализации этих функций. (Пропп 2003)50. Он также определил роль персонажа как связки функций. АХреймас ввел понятие актанта как жанрового соответствия персонажа. Кроме того, он свел функции Проппа к 6 актантам и 3 парам оппозиций: отправитель-получатель, объект-субъект, помощник-противник, сконструировал актантную модель и ввел понятие роли. (Поляков 2001)51. Юберсфельд переносит эту актантную модель в область театра, выбирая в качестве единиц анализа драматического произведения (как единства текста и спектакля) понятия «актанта», «актера», «роли» и «персонажа».
Метод и результаты исследования драматического произведения в терминах теории актантов не отличаются от традиционного анализа литературного произведения любого жанра, основанного на статическом понимании «текста-спектакля», «роли», «персонажа» и актанта как «жанрового соответствия персонажа». В отличие от «статичной» модели Греймаса-Юберсфельд, предполагающей закрепленность функций, предикатов, свойств и характеристик за персонажами и ролями, предлагаемый в данной работе метод исследования поэтики театральности драматического произведения основан на динамическом взаимодействии функций «персонажей» и «текстов-ролей», на их инверсии и трансформации.
Игра с числами как структурный элемент театральности
Одним из элементов поэтики театральности в «Гамлете» является использование чисел. Повторение одних и тех же чисел в связи с деятельностью персонажей-драматургов по созданию пьесы в пьесе (например, в «Гамлете» и «Сне в летнюю ночь») позволяет говорить о структурной «числовой игре», как о приеме организации драматического текста. Числа у Шекспира несут в тексте структурную функцию в организации драматического действия. «Число - ...это первейшее организующее действие - действие по разграничению и упорядочению. Оно отличается от простого «означивания» и охватывает даже более широкую область, в границах которой и может быть понято и локализовано «означивание» (Кристева 2004)74. Число у Шекспира - это художественный образ, число «раздваивается» - с одной стороны на число как вербальный элемент текста (числительное), с другой - на невербальный, метафорический прием, шифрующий драматическое действие. Иными словами, числа у Шекспира представляют собой особый метатекст, инкорпорированный в драматический текст и являющийся частью смыслового пространства. Само слово «number» употребено Шекспиром 110 раз в 37 пьесах. Число «three» -употреблено 380 раз, «seven» - 93 раза, «nine» - 88 раз, «dozen» - 35 раз, «twelve» - 61 раз, «sixteen» - 13 раз, «thirty» - 28 раз (Rhymezone 2004)75. В шекспироведческой литературе имеется только три - современные работы, посвященные исследованию числовой игры в драматургии Шекспира: (Sprinchorn 1964)76, анализирующая сцену финальной дуэли с точки зрения статистики, (Sohmer 1996) , посвященная анализу событий трагедии с точки зрения реального годового календаря и (Roth 2001) , в которой автор проводит сравнительный анализ употребления числительных в разных версиях «Гамлета» (Все Кварто и Фолио, а также оксфордский и арденский тексты).
В шекспироведении существует вопрос, в котором заключена одна из самых трудных загадок «Гамлета»: какие строки дописал Гамлет? Где тот «монолог в каких-нибудь двенадцать или шестнадцать строк» («a speech of some dozen or sixteen lines»), о котором он говорит Первому актеру? (П.2.535) Оговорка «for a need» (если потребуется) придает словам Гамлета неопределенность, а небрежное упоминание о количестве строк «some dozen or sixteen» - и вовсе кажется необязательным и случайным. Подчеркивается произвольный, «неэстетический» аспект чисел, их сугубая количественность, свойственная, по наблюдению В.Топорова (Топоров 1973)79 мифологическому мышлению.
Общее количество употреблений одних и тех же чисел в пьесах Шекспира столь велико, что это дает основание говорить об их системном использовании в качестве средства выразительности. Не одно поколение шекспироведов пыталось обнаружить эти строки в тексте пьесы, что, по мнению литературоведа Фернеса (Furness 1874) само по себе свидетельствует о высочайшем мастерстве Шекспира. Высказывались предположения, что дописанные Гамлетом строки включены в текст роли Актера-короля в спектакле «Убийство Гонзаго», поскольку ни в каком другом месте «пьесы в пьесе» нет отрывка, который по своей длине был бы сопоставим с монологом в «двенадцать или шестнадцать строк» (Jenkins 2000) . Кроме того, этот текст Актера-короля «философичен», что позволяло бы приписать его авторство Гамлету. Однако эта версия разумно отвергается в авторитетном арденском комментарии к «Гамлету» - на том основании, что текст, исполняемый Актером-королем, не имеет ничего общего с замыслом Гамлета напомнить Клавдию о его преступлении (Jenkins 2000)82. То же самое можно сказать и о тексте, который исполняет Актер-королева: P. Queen. So many journeys may the sun and moon 108 Make us again count о er ere love be done! But, woe is me! you are so sick of late, So far from cheer and from your former state, That I distrust you. Yet, though I distrust, 112 Discomfort you, my lord, it nothing must; For women sfear and love holds quantity, In neither aught, or in extremity. Now, what my love is, proof hath made you know; 116 And as my love is siz d, my fear is so. Where love is great, the littlest doubts are fear; Where little fears grow great, great love grows there. (III.2.108-119) Хотя в приведенном отрывке ровно двенадцать строк и роль королевы, как и все другие женские роли в шекспировском театре, исполнял мужчина (Гамлет репетировал монолог с мужчиной), в этом тексте нет ничего, что могло бы напомнить Клавдию об убийстве старого Гамлета. По мнению комментатора Гарольда Дженкинса, бесчисленные попытки шекспироведов обнаружить дописанный Гамлетом монолог в «Убийстве Гонзаго» абсурдны настолько же, насколько, например, спор о том, откуда актеры вообще знают эту пьесу. «Нам остается предположить, что в репертуаре актеров уже была пьеса, в которой содержался эпизод, похожий на историю смерти отца Гамлета, и что Гамлет просто «отредактировал» ее с помощью добавления монолога для усиления эффекта. Однако из этого вовсе не следует, что вставленный Гамлетом монолог обязательно присутствует в известном нам тексте пьесы „Убийство Гонзаго"», - заключает комментатор (Jenkins 2000). И все же предпримем еще одну попытку найти «загадочные» строки Гамлета. Обратимся к той сцене, где Гамлет репетирует с Первым актером некий монолог из предстоящего спектакля:
Ham. Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to you, trippingly on the tongue; but if you mouth it, as many of your players do, I had as lief the town-crier spoke my lines. (III.2.1) Гамлет говорит «мои строки» (my lines), а значит - речь идет о дописанном им монологе. Гамлет сам отвечает на наш вопрос: добавление, которое он сочинил к старой пьесе, представляет собой именно «монолог» (the speech). Неизвестным пока остается сам текст дописанного Гамлетом монолога. Шекспир показывает нам лишь ту часть репетиции, когда Гамлет уже закончил авторское чтение своего «добавления» к пьесе, а появление Полония в сопровождении Розенкранца и Гильденстерна прерывает режиссерские наставления Гамлета, и актер не успевает выполнить их и произнести монолог.
.Драматическая метафора яда
Как мы показали выше, действие трагедии разворачивается в двух планах - сюжетном и метафорическом. Яд, который Клавдий вливает в ухо спящему королю, Шекспир обращает в драматическую обратную метафору, когда Гамлет «отравляет» ухо Клавдия своим монологом. Тема «уха, отравленного монологом» - одна из центральных в пьесе и возникает в самых первых словах Призрака при его встрече с Гамлетом: Ghost. Tis given out that, sleeping in mine orchard, A serpent stung me; so the whole ear of Denmark Is by a forged process of my death 44 Rankly abus d; (1.5.42-45) «The whole ear of Denmark» (Ухо Дании) было «abus d» (отравлено) ложью (forged process). Образ уха, отравленного «молвой», монологом («speech»), возникает и в словах Клавдия о Лаэрте, который: Claud. Feeds on his wonder, keeps himself in clouds, And wants not buzzers to infect his ear With pestilent speeches of his father s death; (IV.5.58-60) «Infect his ear with pestilent speeches», то есть «отравляют его ухо ядовитыми речами» или «монологами». Полоний становится «ухом» Клавдия, когда он прячется за портьерой и подслушивает разговор Гамлета с матерью. «Дозвольте мне прислушаться», - говорит Полоний Клавдию (III, 1). В оксфордском и арденском текстах это место: «And I ll be placed, so please you, in the ear of all their conference», то есть буквально: «Я расположусь... в ухе всего их разговора». Значит, убивая Полония, в метафорическом смысле «прокалывает ухо» Клавдия, а своим «монологом» (speech) - он пронзает и уши Гертруды: «These words like daggers enter in my ears" (Ты уши мне кинжалами пронзаешь...) (Ш.4.95).
Розенкранц и Гильденстерн тоже названы «ухом»: Ham. ... to each ear a hearer... (II.2.383). О способности монолога «рассечь уши» говорит сам Гамлет во время репетиции с актером: «...и раздирает уши партеру...» (в английском: «...split the ears», то есть «рассекает уши»). Слова из монолога Энея: «Takes prisoner Pyrrhus ear" (II.2.473) (Пленяет Пирров слух) -означают дословно «Берет в плен ухо Пирра». Метафорическая пара «ухо» -«монолог» - (ear-speech) встречается и в словах Гамлета: «...хитрая речь спит в глупом ухе» - (. ..a knavish speech sleeps in a foolish ear) (IV.2.22).
Сказанное на ухо слово может заставить онеметь (в метафорическом смысле - «убить», ведь мертвый - это немой). В письме Гамлета, адресованном Горацио, говорится: «I have words to speak in thine ear will make thee dumb; (Мне надо сказать тебе на ухо слова, от которых ты онемеешь...) (IV.6.12). Интересно прислушаться к тому, как Клавдий убеждает Лаэрта в своей непричастности к убийству Полония: King. Now must your conscience my acquittance seal, And you must put me in your heart for friend, 4 Sith you have heard, and with a knowing ear, That he which hath your noble father slain Pursu dmylife.(IV.7.3-6) Клавдий мог услышать своим «разумным ухом» (a knowing ear) угрозу племянника только во время представления «Мышеловки». Таким образом, Клавдий сам подтверждает нашу гипотезу о том, что он был испуган не изображением своего преступления, а будущей местью Гамлета. В финале трагедии английский посол (не знающий, что Гамлет «переписал» приказ Клавдия) прибывает в Данию, чтобы сообщить королю о казни Розенкранца и Гильденстерна: First Amb...And our affairs from England come too late: 316 The ears are senseless that should give us hearing, To tell him his commandment is fulfill d. (V.2.316-18) «The ears are senseless», то есть буквально «уши бесчувственны». Уши Клавдия «бесчувственны», то есть мертвы. Смерть заколотого рапирой Клавдия Шекспир передает метафорой «бесчувственного уха».
Клавдий выбирает яд тайным оружием для убийства Гамлета. Он пускает в ход настоящий яд в ответ на «театральный» яд Гамлета - яд монолога. Гамлет тоже вливает яд в ухо Клавдия - но в переносном, театральном смысле — когда Луциан читает монолог, дописанный Гамлетом. Проследим, как развивается тема «яда, влитого в ухо», на протяжении всего действия.
Впервые эта тема возникает в (1.5), когда Призрак рассказывает Гамлету историю своего убийства путем отравления через ухо. Рассказ предназначен для ушей Гамлета. В тексте Призрака несколько раз повторяется призыв к Гамлету «слушать»: «lend thy serious hearing», «thou shalt hear», «list, list, o, list», «now Hamlet, hear». Рассказ от отравлении, «влитый» в уши Гамлета, «убивает его» - от потрясения он призывает свое «сердце остановиться» (hold, hold my heart). Гамлет надевает маску безумия, что равнозначно смерти. Рассказ (story) Призрака трансформируется сначала в запись в «таблички» (tables), которые делает Гамлет, потом преобразуется в монолог, дописанный Гамлетом-драматургом к «Убийству Гонзаго», затем разыгрывается в театральной форме в «Мышеловке» для ушей Клавдия, далее актуализуется в «жизни» - в убийстве Полония, который есть «ухо» Клавдия, затем вновь превращается в рассказ - Гамлета Гертруде, и, наконец, преобразуется в монолог Гарацио в финале, когда Горацио призывает «услышать» (so shall you hear ... how these things came about) - «как все произошло».
Тема «уха, отравленного песнями», возникает в словах Лаэрта, который предупреждает Офелию: Laer. Then weigh what loss your honour may sustain/If with too credent ear you list his songs (1.3.29-30).
В сцене дуэли между Гамлетом и Лаэртом гибнут все главные персонажи. При этом все убийства «удваиваются». Гамлет убит «двойным» оружием (two of his weapons) - клинком и ядом. Уже как бы «мертвый» Гамлет - «In thee there is not half an hour life" - у него «нет и получаса жизни» (V.2.254) убивает Клавдия - тоже «двойным» оружием»: сначала поражает его ядовитым клинком: «...ступай, отравленная сталь, по назначенью...» - (The point envenom d too! Then, venom, to thy work. Wounds the King. (V.2.327-28), а потом заставляет выпить его собственный яд: «Пей свой напиток!» (Drink off this potion (V.2.331)
Две ошибки Гамлета - ошибочное убийство Полония (чужого отца) и ошибочное убийство Лаэрта (его сына) делают его двойным двойником Клавдия - убийцы Гамлета-отца и Гамлета-сына. Двойная вина - убийство Отца и Сына - заслуживает и двойного наказания. Умирающий Гамлет просит Горацио: Ham. Horatio, I am dead; Thou liv st; report me and my cause aright 280 To the unsatisfied. Hor. Never believe it; I am more an antique Roman than a Dane: Here s yet some liquor left. 284 (V.2.279-284) Рыцарские представления о чести и дружбе подвигают Горацио к мысли о самоубийстве. Он хочет выпить яд: Ham. As thou rt a man, Give me the cup: let go; by heaven, I ll have t. (V.2.285-86) Гамлет говорит: «I ll have t». Грамматически и по смыслу эти слова означают «Я буду это», то есть «Я выпью». Гамлет говорит об отравленном вине, а не о том, что ему нужен кубок. Не отнимает же Гамлет кубок у Горацио только ради того, чтобы просто умереть с кубком в руке. Если говорить о параллели между «Гамлетом» и «Испанской трагедией» Томаса Кида, то можно указать на то, что Иеронимо тоже кончает с собой. Гамлет недает Горацио умереть, и сам допивает оставшееся в кубке отравленное вино, что в тексте выражено словами «I ll have t». Смерть Гамлета в метафорическом смысле можно трактовать двояко: и как убийство его Лаэртом, и как самоубийство. Как то, что он не хочет умереть, будучи убитым другими, и убивает себя сам. Получается, что Шекспир дает ответ на гамлетовский вопрос «Быть или не быть». Горацио - быть. Гамлету - не быть. Впервые тема самоубийства возникает уже в первом монологе Гамлета: