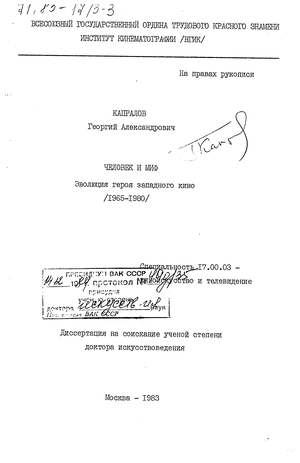Содержание к диссертации
Введение
Парадоксы отчуждения и "бунт" на коленях 23
Атака на мифы и новое мифотворчество 88
Дороги к безумию и цути надеады 240
Заключение 383
Приложение
- Парадоксы отчуждения и "бунт" на коленях
- Атака на мифы и новое мифотворчество
- Дороги к безумию и цути надеады
Парадоксы отчуждения и "бунт" на коленях
Однако произведения с установкой на концептуальность долгое время насчитывались в потоке западной кинопродукции буквально единицами. Например, первая половина 20-х годов. Картины, в которых отчетливо прослеживаются попытки выйти за пределы частного факта, подняться к обобщению, общему социальному, психологическому, философскому смыслу изображаемого, создают лишь отдельные режиссеры США, Франции, Германии, Швеции, т.е. капиталистических стран с наиболее развитой тогда кинематографией, такие, как Д. Гриффит, Ч. Чаплин, А. Ганс, Ф. Ланг, М. Штиллер. Еще несколько имен прибавило к названным развитие кино в капиталистических странах Европы и Америки в тридцатые - начале сороковых годов - Ренуар, Клер, Орсон Уэллс...
В первые послевоенные годы на Западе появляется значительный отряд художников активно демократического, социально-критического искусства итальянского неореализма с его стремлением в капле частного факта увидеть отражение большого моря народной жизни. В 50-е - 60-е годы выдвигаются Бергман, Антониони, Феллини с их отчетливой ориентированностью на концептуальность, создаются разоблачительные "параболические" фильмы Бунюэля, Бардема, Берланги, некоторые картины С. Креймера и других. В 70-е годы начинается поистине "бум" амбициозного, претендующего на универсальность своих идей кино, которое выступает порой в эпатирукще-щутовском наряде. Число претендентов на "философичность" необычайно умножается вследствие "диффузии" элитарного и "массового" кинематографа, при которой "и стилистические средства и тематические планы, характеры, ситуации, разрабатывавшиеся в 60-е годы художниками крупного дарования, связанными с экзистенциализмом, унаследовали и развили режиссеры, прежде связанные с буржуазным "массовым" кинематографом, а также молодые режиссеры, выдвинутые киномонополйями из "независимых" групп и включенные ими в большой кйнобизнес"/20/. Вопросы сущности человека, оценки его сил и возможностей, цели и смысла бытия, его места, роли и перспектив в современном мире на все лады проигрываются на экранах.
НН одновременнн крепнетт набирает тилуу ,есмотря ян все сложности и издержки, прогрессивное кинотворчество художников, стремящихся при построении фильмов об обществе и человеке опереться в той или иной мере на учение исторического материализма, опыт великого советского киноискусства.
Все эти разноречивые процессы, преломляющиеся отчетливее всего через трансформации образа героя, заставляют нас еще раз присмотреться к тому, что и в каких формах происходило на этом участке идеологической борьбы, которая в глобальном противоборстве сил прогресса и реакции выдвинулась "на первый план" /21/.
Но существуют и еще обстоятельства, которые актуализируют интерес именно к кинообразу героя и именно в обозначенный нами период. Дело в том, что в это время-образ человека в кино в качестве одного Из средств художественного выражения, одной из форм обобщения, т.е. как существенная часть выразительного "языка" искусства подвергся ожесточенной неоавангардистской атаке, тотальному отрицанию. Тому был ряд причин и идеологического, теоретического, и практического порядка.
Некоторые течения структурализма /М. Фуко, Ж. Лакан/ провозгласили теоретическую "смерть человека". В их построениях -человек оказался лишь неким исчеаающим понятием; При этом структурализм, как ранее и фрейдизм, выступил с претензией на роль философской методологии, получил широкое распространение в таких науках, как лингвистика, литературоведение, этнография, история эстетика, психология, социология, искусствознание, в том числе и киноведение. Этим, на наш взгляд, объясняется почти парадоксальный факт, что в западном киноведении в 60-70-х годах не появилось обобщающих разработок проблем эволюции героя# взятого в широком социальном плане Герой рассматривался лишь в исследованиях о вестерне. Но тут следует заметить, что именно вестерн представляет собою наиболее структурированный жанр кино, в основе которого лежат, как правило, четкие мифологические структуры.
Указанные явления в области современной буржуазной философии ,одним из идеалистических и метафизических направлений которой является структурализм, были дополнены (и, очевидно/ не без влияния модных философских учений) особой практикой "ультраревс-люционных" кинематографїслгов;
В 60-х и начале 70-х годов широков распространение получили, в частности, во Франщия группы "кино протеста" или; как его еще именовали, "перпендикулярного", а также " боевого" кино.Воз-никновение таких групп свидетельствовало о расширении социальной базы творцов кино, о приобщении к нему части трудящихся масс студенческой молодежи, стремившихся снимать фальмы о политических, классовых конфликтах,1 движении демократического протеста. Создававшиеся нередко на заводах, в университетах, в гуще демонстраций, эти фильмы сыграли свою роль в опредеденнне моменты движения, оставили ряд документальных свидетельств об отдельных событиях тех дней. Но в области игрового кинематографа деятельность этих групп ничего заметного не дала. Произошло это не только потому» что съемки игровых фильмов были не под силу любите
Атака на мифы и новое мифотворчество
В этой сцене символично, иносказательно все - и невозможность людей услышать друг друга, и сам рассказ о стене, речь о которой возникала уже ранее во время встреч Массы со старым рабочим доживающим свои дни в... сумасшедшем доме. Метафоричен тут и туман, и, конечно, "открытие" Лулу, что никакого "рая" за стеной не оказалось: там, в туманной неизвестности,ко-пошились по-прежнему ничего не обретшие рабочие,
Создатели фильма как бы не знают, что в современном мире уже дан ответ на вопрос, как рабочий класс может освободить себя, завоевать власть, стать хозяином своей судьбы.
Элио Петри справедливо отмечал, что в Италии - а ш добавим: и в ряде других капиталистических стран - народ, по сути экрана или использовался лишь как отправная точка для создания легких комедий из провинциальной жизни. Режиссер считал необходимым "после больших профсоюзных сражений 1970 года сделать именно народного персонажа центральным героем картины" / 35/.
Однако герой Петри и Пирро не обретает классового сознания. Причины этого - в позиции и мировоззрении вдожников, француз-ский критик Ж.-АДили пишет, что в этом произведении автор использует "историю, разоблачающую определенные противоречия общества, как некую призму для анализа собственных противоречий художника, действующего в капиталистическом мире". Фильм, по мнению Жили, отразил сомнения и колебания самого Петри "в тот момент, когда он создавал свой фильм и когда этот последний выходил на экран" /36А
Сходную точку зрения на картину высказывает и критик адшала "штшита" О.Чекки: "На уровне языка этот фильм более революцио-нен, чем в тех слабо выраженных попытках, в которых режиссер -н12 -лагая, что он говорит о заводах, предприятиях, рабочих, в действительности ведет речь о самом себе, о собственных проблемах и своем поражении в качестве посредника" /37/.
Эти противоречия фильма Петри дали основание тому же I.-A. Жили использовать его в качестве аргумента в пользу идеалистических маркузианских,фроммовско-рейховских теорий,которые подменяют требование революционного переустройства общества требованием внутреннего "раскрепощения" человека,освобождения его подсознательных влечений,подавленных "репрессивной цивилизацией". Так критик пишет: "Подлинная революция, которая приведет к социализму, проходит через революцию внутри нас. В условиях всеобщего невроза,при котором единственные подлинно человеческие отношения у героя устанавливаются лишь со старым рабочим,находящимся в психиатрической лечебнице,первейшей задачей является найти контакт с другими нормальными людьми,ибо триумф... "общества потребления" заключается в том,что оно воздвигло стену некоммуникабельности между индивидами"
И все же, несмотря на известные противоречия художествен-но-концепционного решения, и "Дело Маттеи",и "Рабочий класс идет в рай" стали заметным явлением демократического кинематографа, эволюции героя западного экрана начала 70-х годов,Во-первых,для рассмотрения роли и возможностей личности в современном госмоно-полистическом обществе были выбраны типичные фигуры - менеджера и рабочего,а во-вторых,какие бы частные "деформации"не получали в фильмах эти фигуры, художники стремились с небывалым до этого в западном кино интересом и вниманием рассмотреть своих героев не в бытовой,интимной сфере их жизни,как это обычно бывало, когда подобные персонажи попадали на экран, а прежде всего в производственно-общественной,проследить,как на разных уровнях и в - из различных слоях общества формируется личность и какие воздействия она испытает в своих существенных связях с социумом,
Выше уже упоминалось, что незадолго до фильма "Рабочий класс идет в рай" во Франции была создана картина Бернара Поля "Время жить", затрагивав, правда, в более узком аспекте,ту же проблему "рабочего рая"; в системе капиталистической эксплуа-тации, А как бы в перекличку с итальянской лентой "Люди против" появляются французские картины "В двадцать лет в Оресе" (1972) Рене Вотье и "Ничего не случилось" (1973) Ива Буассе, свидетель-ствушие о заметном параллелизме процессов выдвижения новых героев на экран, нового подхода к проблемам анализа личности,вклю-ченной в такой социально-политический механизм как военная империалистическая машина.
Антимилитаристский пафос, страсть борцов против новых коло-ниалистов и их фашиствующих сообщников, утверждение классовой интернационалистской солидарности простых людей, сражающихся за свободу и бросающих вызов грязной войне, пронизывают фильм "В двадцать лет в Оресе".
Известный публицист, автор обошедшей весь мир книги "Допрос под ПЫТКОЙ", человек, который на собственном опыте узнал,что такое колониальная политика и как палачески защищают ее хорошо оплачиваемые наймиты, Анри Аллег писал: "Фильм "В двадцать лет в Оресе" с первых же кадров захватил меня и держал в напряжении до Это - первая попытка поведать широкой публике,что пережили мобилизованные на эту войну. Фильм необходимый и Неопровержимо правдивый"
Другой прогрессивный французский журналист, кинокритик Мишель Капденак восклицал:"Я отдам десять Шабролей и десять Трюффо за картину Вотье". А английский коллега Капденака добавлял, что, по его мнению, эту ленту необходимо было бы показать всем английским солдатам, которых в те дни отправляли в Ирландию, в Белфаст, показать их семьям, чтобы они воспрепятствовали посылке своих сыновей для участия в постыдных акциях против ирландского народа /40/.
Рене Вотье - старый, закаленный боец. "Его творчество свидетельствует, чем могло бы быть седьмое искусство на службе народа Франции с 1945 года" /41/. За четверть века коммунист Вотье создал Около двадцати документальных короткометражных картин, каждая из которых отражала жгучие общественно-политические ситуации и проблемы: война в Индокитае, рабочие забастовки, колониальный разбой в Африке, дискриминация арабов и португальцев, приезжающих во Францию в поисках работы... Создавая свой первый художественный фильм "В двадцать лет в Оресе", Вотье опять-таки опирался на реальную действительность, подлинные факты. Он записал на магнитофонную ленту беседы с участниками событий. Эти беседы заложили документальный фундамент фильма. Кирпичами же ее сюжетно-художественной конструкции стали опять-таки документальные факты - история французского солдата Ноэля Фаврельера, чья книга "Пустыня на рассвете" вышла в Париже в I960 году, Фаврельер дезертировал из оккупационных войск в Алжире вместе с пленным арабом-бойцом Фронта национального освобождения, которого он должен был расстрелять.
Дороги к безумию и цути надеады
Здесь, так же как и у Феррери, профессия героини, с одной стороны, лишь определенного; рода.условность, без которой автор не мог бы отправить Анну в странствие по городам, заставить ее менять отели, встречаться с людьми. А с другой, - как нечто внешнее, не выражающее ее как личность: это - дело, и как всякое дело, согласно маркузианской концепции, лишь насилие над человеке, нечто принудительное, от чего он, совершив его, спе-шит отстраниться.
В фильме упоминаются важные события истории Европы послед-них десятилетий. Но вот один из разговоров. Он происходит в Западной Германии в маленьком городке, между Анной и школьным учителем Гейнрихом. Гейнрих говорит (сохраняем пунктуацию оригина-ла):
"Вы знаете, Анна, в 20-х годах в Германии было много коммунистов, и многим они вселяли надежду, вы знаете, о равенстве всех перед всеми, а затем были нацисты, словом, социал-демократия, они взяли коммунистов и всех остальных тоже, они заключили их в концлагеря и убили, но они принесли новую надежду после ряда черных лет: работу для всех и великую и прекрасную Германию, а затем была война, и затем русские и американцы, и французы, и бельгийцы пришш, они разделили нас на две части (имеется в виду образование ФРГ и ГДР, - Г.Е.) и они схватили всех наци, которые еще .остались, и посадили их в тюрьму, и быш Демократия Социалистическая. Германия поднялась из руин, весь мир участвовал в этом, а теперь ной друг потеря л работу, я потерял друга, такого хорошего человека, и он.покинул Германию... Наконец!,. что они сделали с моей стеной... что они с ней сделали!.." "В этот момент , - написано в сценарии,- Гейнрих, не сознавая, что он делает, сорвал тюльпан в своем саду и протянул eroJ -Анне, Потом он улыбнулся и бросил цветок на землю.. И сказал легким тоном: "Я вот поэтому не занимаюсь политикой, и к чему? Политика имеет свой смысл, смысл которого неизвестен". Да,-сказала Анна и поднялась". /3/
В этом сумбурном монологе, завершающемся улыбкой, и в реакции на него Анны выражается не только характеристика героев,но и позиция самого автора картины, самой Шанталь Акерман, которая ничего не поняла в истории Западной Европы последнего полувека и не хочет понимать.
В предисловии к сценарию фильма "Свидания Анны" Ален Дахан пишет: "Они (герои картины,- Г,К.) не осмеливаются поставить хотя бы одну ногу в будущее, как и оставить другую в прошедшем, раздираемые между тем, что они имеют и в чем не уверены, и будущим, которое для них тоже неопределено... Свободная от каких-либо убеждений, Анна не имеет и иллюзий, она уже вне всего этого... Я желаю иметь такую же силу (?! - Г.К.) ... Я хочу быть на нее похожим. Это героиня чего-то! Я хочу сказать - героиня нового типа, но не "идеи ! /4/.
Как видим, Ален Дахан вполне солидарен с Акерман в выборе ее героини и в ее позиции без позиции. Анна входит в фильм кочующей загадкой и такой же завершает его,
От начала до конца фильма Анна переезжает из города в город. По пути короткие встречи то со своей матерью, то с матерью человека, который хотел когда-то на ней жениться, то "рандеву" с новыми знакомыми на одну ночь. Ни с кем из них Анна не находит, а вернее не хочет, не может найти настоящего контакта. Она все время отстранена. Отчуадена. В этом она близка героиням фильмов Антониони. Почти через двадцать лет повторяя эти ленты об отчуждении, некоммуникабельности, Шанталь Акерман вносит в них лишь1 "новацию", что ее героиня ведет игру с Историей, действует в исторических декорациях, в то время как Антониони не претендовал на интерпретацию политической ситуации в Европе, не обещал "переходов",.как- вместе с Феррери (вспомним его "переходного че-ловека". - Г.К.) делает это Акерман. Недаром один из критиков, словно почувствовав это сходство, спросил Акерман: "Не считаете ли вы нашу эпоху переходной?" N
Акершш перепевает и Кафку с его гипнотическим ощущением тотальной абсурдности существования. Но при этом у нее нет трагического напряжения Кафки, которое сменилось тягучей вялостью усталого интеллигента.
Акерман не скрывает своей близости к Кафке, указывая в сценарии, что ее героиня встретит индивидов (далее следует цитата из одного исследования о Кафке,- Г.К.) " с их маленькими делами, маленькими индивидуальными делами, тесно связанными с де-лами коммерческими, экономическими, юридическими, тесно связан-ными с политикой" /(,/. Но известно, что у Кафки эти связи не социально-политические, а некие метафизические. Маленькии боль-шие дела, "геено связанные", они оказываются такими не по причине конкретных исторических, общественных законов развития, а по причине чего-то давящего, рокового и неухватимого, не формулируемого в терминах исторической науки, юрисдикции, экономики, Но если Кафка не называет конкретных исторических событий, если место действия у него "Город", "Замок", то у Акерман это Рур, Париж", Амстердам. И это обманывает. Создает иллюзию некой конкретности критического взгляда, в то время как он остается абстрактным, отрешенным,не видящим реальных связей и отношений людей и событий. Но герои Акерман не выдуманы: это она сама и те интеллектуалы,которые в обстановке "нового" консерватизма, реакционно-охранительной волны, что пришла на смену всплескам бунта, растеряно и безнадежно смотрят на окружающий мир, потеряв путеводную нить и не видя более дорог в будущее.
Близкими умонастроениям, выраженным Шантель Акерман, а в определенной мере и ее эстетике, оказываются фильмы западногер-манского кинорежиссера Вша Вендерса "Страх вратаря при одиввад-цатиметровом" (I97I), "Алиса в городах" (1973), "Ложное движение" (197Ч, "В беге времени" (1976).