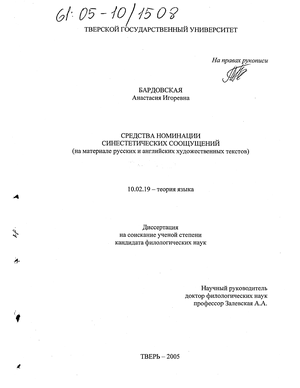Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Основные тенденции исследования проблемы синестезии
1.1. Истоки исследования синестезии 14
1.2. Современные тенденции исследования синестезии: синестезия как объект междисциплинарных исследований 22
1.3. Современные психологические теории синестезии 27
1.3.1. Многообразие форм проявления синестезии 27
1.3.2. Изучение предпосылок возникновения синестезии 33
1.3.3. Определение синестезии: синестезия как когнитивное явление. 38
1.4. Исследование языковых проявлений синестезии 41
1.4.1. Вербальные манифестации синестезии как частное проявление интермодальности: определение и структура 41
1.4.2. Синестезия как лингвистическая универсалия 58
Выводы по первой главе 72
Глава 2. Специфика номинации синестетических соощущений в художественном тексте: структура и модели
2.1. Вводные замечания 76
2.2. Структурно-грамматическая модель синестетической метафоры в художественном тексте 77
2.3. Содержательный аспект синестетической метафоры с температурным компонентом значения 82
2.4. Формирование табличных данных. Сведение в таблицы ТС согласно их частотности 97
2.5. Обсуждение полученных результатов 101
2.5. Цвето-температурные синестезии 111
Выводы по второй главе 123
Заключение 126
Литература 131
Список источников примеров 149
Приложения 159
- Современные тенденции исследования синестезии: синестезия как объект междисциплинарных исследований
- Вербальные манифестации синестезии как частное проявление интермодальности: определение и структура
- Структурно-грамматическая модель синестетической метафоры в художественном тексте
- Формирование табличных данных. Сведение в таблицы ТС согласно их частотности
Введение к работе
Проблема взаимодействия органов чувств имеет давнюю историю изучения в русле целого ряда гуманитарных и естественных наук: философии, эстетики, психологии, физиологии, медицины, искусствоведения, языкознания. Характерной чертой современных исследований, в центре внимания которых оказывается человек ощущающий, чувствующий, переживающий, становится «взрыв» интереса к вопросу интермодальности и полимодальности. Одним из актуальных аспектов этой проблемы является феномен синестезии, принадлежащий к числу наиболее загадочных и наименее изученных явлений, связанных с человеческим восприятием.
Как термин, так и само понятие синестезии пришли в лингвистику (а также в другие гуманитарные науки - эстетику, литературоведение, искусствоведение) из психологии, где под синестезией обычно понимается «такое слияние качеств различных сфер чувствительности, при котором качества одной модальности переносятся на другую, разнородную, например, при цветном слухе качества зрительной сферы на слуховую» [Рубинштейн, 1998: 192]. Сложность и многоликость этого психофизиологического феномена, разнообразие форм, степеней и проявлений синестетического восприятия служат причиной того, что среди ученых и по сей день нет единства мнений по поводу объема понятия «синестезия», не создано общепринятой теории интермодальности, дискутируются методы его исследования.
Не менее дискуссионной представляется проблема синестезии и в лингвистике, обращающейся к языковому аспекту интермодальных явлений - выражениям, фиксирующим межчувственные соответствия (таким, как кричащий цвет, теплый колорит, бархатистый голос), трактуемым как разновидность метафоризации, а именно, синестетическая метафора. Языковеды долгое время обсуждали вопрос, следует ли лингвистике заниматься этой проблемой: обращение к вопросу синестезии в рамках господ ствовавшей на протяжении XX в. структурной парадигмы, стремящейся к четкому разграничению собственно языкового и «неязыкового», было весьма редким; поскольку интересующее нас явление представляет интерес для целого ряда дисциплин, в том числе, естественнонаучных, это рассматривалось как некое препятствие в его исследовании; языковые проявления синестезии трактовались как относящиеся к числу психологических феноменов, объяснить которые посредством лишь логических или лингвистических аналогий невозможно. Тем не менее, регулярное синестети-ческое словоупотребление в различных языках, а также постоянный рост количества языковых выражений, основанных на синестезии, послужили причиной первоначального интереса к этому языковому явлению. Смена научных парадигм на современном этапе лингвистических исследований привела к изменениям в подходах к синестезии, к переориентации представлений об этом явлении как не только существенным образом характеризующим язык, но и имеющим отношение к развитию и функционированию человеческого мышления.
К настоящему времени накоплен солидный объем литературы, авторы которой обращаются к вопросу синестетической метафоры. Языковые проявления синестезии рассматривались в общетеоретическом плане [Звегинцев, 1957; Пауль, 1960; Бодуэн де Куртене, 1963; Ульманн, 1970; Воронин, 1982; Никитин, 1983; Степанов, 1985; Гак, 1988; Петренко, 1988; Веселовский, 1989; Галеев, 1999; Уорф, 1999; Мягкова, 2000; Пищальни-кова, 2003; Kronasser, 1952; Cohen, 1966; Ertel, 1969; Le Guern, 1973; Williams, 1976; Marks, 1978; Day II http://psvche.cs.monash.edu: Martin II http://barneygrant.tripod.com/index.html; в творчестве отдельных писателей [Анненский // CD Русская литература: от Нестора до Булгакова; Житков, 1999; Фортунатов, 1999; Жирмунский, 2001; Рубине, 2003; Абдуллин; Галеев // http://prometheus.kai.ru; Кастеллано // http://nivestnik.rsuh.ru]; в экспериментально-психолингвистическом аспекте [Brown, 1958; Левиц кий, 1969; Журавлев, 1974; Колодкина, 1996; Прокофьева, 2002; Шуриши-на, 2002; Дымшиц; Кириенко // http://dipip.dn.ua/publications: Peterfalvi, 1970; Day II http://web.mit.edu]; в переводческом аспекте [Фененко, 2001; Степанян, 2003]; с позиций стилистики [Золина, 1980; Арнольд, 1981; Белецкая, 2004]; в сопоставительном плане, на материале французского и русского языков [Вайсман, 1982], английского и русского [Кундик, 1997]; немецкого и русского [Шидо, 1989], польского и русского [Кульпина, 2001], английского, французского и русского [Мерзлякова, 2003] языков; в подъязыках искусства [Горелов, 1976; Сабанадзе, 1987; Елина, 2002а]; в языке средств массовой информации [Григорьева, 2004]; а также на материале отдельных языков - немецкого [Усик, 2000; Ивакина, 2001; Кострова www.auditorium.ru], французского [Капанова, 1984], английского [Лаен-ко, 1997; Givon, 1970; Агалакова, 2003], русского [Рузин, 1995; Степанян, 1997; Спиридонова, 2000]. Следует, тем не менее, отметить, что полномасштабных исследований, освещающих проблему синестетической метафоры, пока что не создано. Ученые, обращающиеся к этому языковому явлению, рассматривают его под углом зрения какого-либо частного подхода: стилистов интересует стилистический аспект явления, семасиологов -семасиологический, литературоведов - литературоведческий, звукосимво-листов - звукосимволический и т.п. Для разработки интегративных методик изучения синестетической метафоры, потребность в которых осознается и обосновывается целым рядом современных исследователей, необходимо обобщение достижений языковедов в изучении этого явления.
Несомненный интерес для лингвистического исследования синестезии представляют также данные об этом феномене, полученные другими науками, плодотворность обращения к которым демонстрируют работы, авторы которых рассматривают синестетическую метафору как явление психофизиолингвистическое [Воронин, 1982; Горелов, 1976; Сабанадзе, 1987; Елина, 2002а; Marks, 1978; Day II http://psyche.cs.monash.edu: Martin II http://bamevgrant.tripod.com/index.htm]. Подобный подход видится наиболее перспективным в свете произошедших изменений в трактовках сине-стетической метафоры в частности и явления синестезии в целом: не вызывает сомнений, что в основе формирования и функционирования интересующего нас языкового явления лежит сложный комплекс реальных психофизиологических процессов, без учета которых выявление и объяснение его закономерностей невозможно. Безусловно, возникновение единой, учитывающей достижения различных наук о человеке теории интермодальности, способной охватить проявления синестезии во всем их разнообразии, выявить и объяснить закономерности и механизмы ее действия, принадлежит будущему, однако уже сегодня целым рядом исследователей, работающих в различных направлениях, отмечается перспективность комплексного, междисциплинарного рассмотрения языковых манифестаций этого явления в плане осуществления первых шагов на пути создания такой теории (см., например, [Галеев, 1987; Прокофьева // www.philol.rsu.ru: Cytowic; Day II http://psyche.cs.monash.edul).
При этом, как и в период выделения синестезии в область отдельного научного интереса, не теряет актуальности обращение к вербальным манифестациям интермодальности в произведениях словесного творчества, являющимся непосредственным объектом нашего анализа. Потенциал обращения к синестетической метафоре в художественной речи при изучении значимости интермодальных явлений в развитии языка (см., например, [Ульманн, 1970; Григорьева, 2004], взаимосвязи синестезии и мышления (см., например, [Абдуллин; Галеев // http://prometheus.kai.ш]), а также выявлении роли механизмов синестезии в процессах восприятия, понимания, воображения и творчества (см., например, [Янынин, 1996; Житков, 1999; Старчеус, 2003; Прокофьева // www.philol.rsu.ru; Lyons // http://www.tstex.com и др.]) подтверждается рядом теоретических исследований, подкрепленных экспериментальными данными, свидетельствую щими о том, что как характерное свойство человеческой психики синестезия ярче всего проявляется при восприятии произведений искусства (см., например, [Галеев, 1987; Современный Лаокоон. Эстетические проблемы синестезии, 1992; Иваненко, 2001 и др.]. Обращение к механизмам синестезии в этом случае позволяет говорить о разных способах представления знаний, помогает понять, почему одни и те же значения могут реализовы-ваться в графических, вербальных, музыкальных, пластических формах. По мысли В.Ф. Петренко, «...это уровень глубинной семантики, отражающий те когнитивные структуры, на языке которых "говорят" метафора, аналогия, поэзия» [Петренко, 1983: 98]. Однако необходимо констатировать, что несмотря на широкое признание ценности изучения художественных речевых произведений при исследовании формирования и действия синестетической метафоры высказывания ученых по этому поводу немногочисленны: специфика и закономерности межчувственных соответствий, реализующихся в художественном тексте, хотя и представляют несомненный интерес для лингвистики и целого ряда смежных дисциплин, до сих пор остаются на уровне первоначальных дескрипций.
Таким образом, актуальность предпринимаемого исследования определяется следующими причинами:
1) важностью для теории языка обобщения и классификации сложившихся к настоящему времени подходов к проблеме синестезии и ее частному проявлению - вербальным манифестациям интермодальности;
2) необходимостью выявления взаимосвязи языка как достояния индивида и синестезии как психофизиологического феномена;
3) злободневностью разработки интегративного подхода к анализу языковых явлений;
4) важностью рассмотрения вопросов синестезии и синестетической метафоры в связи с проблемой текста.
Настоящее исследование ограничивается одной из разновидностей синестетических номинаций, реализующихся в художественной речи - си-нестетической метафорой с температурным компонентом значения. Интерес к этой группе номинаций межчувственных ассоциаций был вызван рядом причин.
Анализируя проводившиеся ранее исследования, посвященные модусам перцепции и их выражению в языке, мы обратили внимание на то, что сфера температурного восприятия принадлежит к числу наименее исследованных. Наибольший интерес ученых привлекают, как правило, сферы зрения и слуха (подробный обзор исследований по этой теме см. в работе [Рузин, 1995]). Аналогичным образом складывается ситуация и в исследованиях синестезии: ученые обращаются, главным образом, к изучению зрительно-слуховых межчувственных ассоциаций (так называемому «цветному слуху») (см., например, [Marks, 1978]).
Вместе с тем, есть основания говорить об особой значимости температурных перцептивных рядов в процессе коммуникации (см., например, [Горелов, Седов, 2001; Старобинский, 2002; Григорьева, 2004]). Слово, несущее значение температурной модальности, обладает особым зарядом, оно способно вызвать у людей соответствующие ощущения и оказывать сильное воздействие. Экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что температурные ассоциации присутствуют в языке и речи не только на лексическом, но и на фоносемантическом уровне. Психологи отмечают распространенность синестезий, задействующих температурную сферу чувствительности (наиболее ярким примером такой формы синестезии является цвето-температурная). Косвенно об этом свидетельствуют и лингвистические исследования [Кундик, 1997; Агалакова, 2004; Рудницка, 2004 и др.], результаты которых показывают, что язык изобилует «стертыми» метафорами с привлечением температурных ассоциаций. Это позволяет говорить о том, что привлечение температурных ассоциаций к описа нию ощущений и восприятий нетемпературной модальности является не просто «жаргоном»; оно отображает закономерности восприятия и воображения и требует отдельного рассмотрения.
Свойственные художественной речи синестетические образования, т.е. основанные на синестезии сочетания слов, которые мы, вслед за Н.Ф. Крюковой [1999; 2000] рассматриваем как разновидность лексических средств метафоризации, трактуются в диссертации как уже готовый вербализованный продукт соощущений, как частный случай манифестации интермодальности, что определяет цели исследования:
1) выявление специфики синестетического словоупотребления как одной из форм проявления синестезии;
2) структурно-содержательный анализ синестетической метафоры в языке художественной литературы;
3) объяснение обнаруженных закономерностей с опорой на достижения других наук, обращающихся к проблеме взаимодействия органов чувств.
Объектом исследования являются вербальные манифестации синестезии, реализующиеся в художественном тексте.
Предмет анализа составляют обнаружение языковых средств, используемых для обозначения синестетических соощущений в художественном тексте, и сопоставление собранных данных с данными смежных наук (в первую очередь, психологии), обращающихся к проблеме интермодальности.
Научная новизна работы заключается:
а) в разработке лингвистического аспекта проблемы, являющейся объектом внимания психологии, эстетики, философии и других наук;
б) в применении комплексного анализа, включающего межъязыковые сопоставления, а также привлечение данных таких наук о человеке, как эстетика, психология и психофизиология, к исследованному языковому материалу;
в) в оригинальности рассмотренного материала, поскольку синесте-тическая метафора с температурным компонентом значения, к которой мы обратились в настоящем исследовании, в таком значительном объеме ранее не становилась объектом внимания ученых.
Гипотеза, выдвигаемая нами, звучит так: интермодальные ассоциации, возникающие в силу действия универсальных психофизиологических механизмов, которые, как показывает собранный материал, в изобилии представлены в произведениях различных англо- и русскоязычных авторов, могут рассматриваться как одно из действенных средств введения перцептивной информации в художественное произведение.
Для достижения поставленных целей в диссертации решаются следующие задачи:
- выявить современные научные подходы к вопросу синестезии в разных дисциплинах;
- обобщить существующие подходы к проблеме синестетической метафоры;
- определить парадигму, позволяющую осуществлять комплексное изучение языковых проявлений интермодальности;
- отобрать корпус синестетических номинаций для исследования;
- выделить и проанализировать языковые средства, используемые для передачи синестетических соощущений, в собранных номинациях;
-описать, проинтерпретировать и классифицировать номинации синестетических соощущений, реализующиеся в художественной речи.
Материалом исследования послужил отобранный из произведений ряда англоязычных (английских и американских) и русскоязычных авторов корпус основанных на синестезии языковых номинаций (700 единиц), извлеченных методом сплошной выборки из художественных текстов, содержащихся на электронных носителях: CD Английская библиотека (Т. Hardy, R.L. Stevenson, J. London, W. Collins, O. Wilde, C. Dickens, H. Wells и др.); CD Русская литература: от Нестора до Маяковского (М. Горький, И. Бунин, В. Набоков, М. Булгаков, Л. Толстой, А. Грин, И. Шмелев, А. Ахматова и др.).
В соответствии с целью и задачами работы и с учетом специфики материала в качестве методов исследования использовались комплексный метод лингвистического наблюдения и описания с элементами компонентного и сопоставительного анализа, метод контекстуально-интерпретационного анализа, а также метод интегративного анализа лингвистических и психологических данных.
Теоретической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных исследователей, посвященные изучению синестезии как психофизиолингвистического феномена (СВ. Воронин, И.Н. Горелов, Е.А. Едина, Л.П. Прокофьева, М.Я. Сабанадзе, L. Marks, S. Day) и психологические теории синестезии (Б.Г. Ананьев, Ф.Е. Василюк, А.Р. Лурия, СВ. Кравков, П.В. Яныпин, R. Cytowic).
Структурно диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и приложений. В первой главе диссертации («Основные тенденции исследования проблемы синестезии») дается обзор становления научных представлений о феномене синестезии, определяются современные тенденции изучения синестезии в разных науках, выделяются психологические предпосылки возникновения синестезий, дается анализ и общее определение феномена синестезии, выделяются основные подходы к изучению языковых проявлений интермодальности и дается их характеристика. Во второй главе («Специфика номинации синестетических соощущений в художественном тексте») дается разносторонний анализ языковых средств, используемых авторами художественных произведений в вербальных синестетических образованиях, предлагаются различные классификации исследованного материала. Приложения содержат таблицы, фиксирующие наиболее частотные случаи использования различными писателями синестети ческой метафоры с температурным компонентом значения, анализ эмоционального вектора синестетических образований, свойственных авторам, для которых наиболее типично привлечение температурных ассоциаций к описанию различных ощущений и восприятий, а также предлагающие анализ определений феномена синестезии с позиций современной науки. Результаты проведенного исследования приводятся в заключении.
Современные тенденции исследования синестезии: синестезия как объект междисциплинарных исследований
Отметим, что после первого пика внимания к синестезии в различных науках наблюдается некоторый спад интереса к этому явлению, сине стезия отодвигается на периферию научных исследований. В чем же причина того, что после некоторого периода забвения синестезия вновь оказывается в центре внимания целого ряда дисциплин? Размышляя над этим вопросом, И.А. Герасимова [http://hghltd.yandex.ru] пишет, что в современный период развития науки нельзя не заметить явное возрождение интереса к синтетически ассоциативным формам мышления, когда-то процветавшим до эпохи западного рационализма, что обусловливает поворот представителей различных дисциплин к проблеме интермодальности. Смена общенаучных парадигм, тенденция к сближению различных сфер знания позволяет современным исследователям, работающим в разных направлениях (философии, психологии, психо- и нейрофизиологии, медицине, литературоведении, искусствоведении, лингвистике и педагогике) рассмотреть феномен синестезии под новым углом зрения.
Необходимо подчеркнуть, что в лингвистике проблема поиска междисциплинарных подходов к интересующему нас явлению ставилась еще в период выделения синестезии в отдельную область исследований. Например, намечается такая проблематика в трудах А.А. Потебни, писавшего о сближении языкознания с психологией, при котором появляется возможность искать разрешение вопросов о языке в психологии и, наоборот, ожидать от исследований языка новых открытий в области психологии. «Вероятно, тайное влияние языка навело слепорожденного на мысль, что красный цвет, о котором ему говорили, должен быть похож на звук трубы, -писал А.А. Потебня. - Но и независимо от языка возможны такие сближения» [Потебня, 1982: 108].
Однако целенаправленный поиск интегративных подходов к изучению языкового аспекта синестезии начинается сравнительно недавно. Так, весьма глубокое обоснование необходимости подхода к изучению синестезии с междисциплинарных позиций дается в работах СВ. Воронина (см., например, [1983]) и его ученицы М.Я. Сабанадзе [1987]; обращается к это му вопросу Е.Н. Колодкина [1996]. По мысли Н.М. Фортунатова [1999], синестезия, лежащая в основе синтеза искусств, позволит объединить теории искусств, методологии филологических дисциплин и когда-то позволит идти рука об руку гуманитарным и точным наукам.
В ряде появившихся в последние годы работ, которые затрагивают лингвистический аспект интересующей нас проблемы, взаимопроникновение различных дисциплин настолько глубоко, что возникают определенные трудности при попытке их строгого отнесения к той или иной науке. Например, в исследовании А.В. Житкова [1999] тесно переплетаются лингвистический и литературоведческий подходы к синестезии. Работы Е.А. Елиной [2002а; 20026; 2003], помимо лингвистики, представляют несомненный интерес для искусствоведения. Для современных американских ученых [Day // http://psvche.cs.monash.edu; http://web.mit.edu: Martin II http://barneygrant.tripod.com], обращающихся к проблеме взаимосвязи синестезии как психофизиологического феномена и языка, характерно стремление привлечь данные, полученные в результате нейрофизиологических исследований интермодальности. Признается, что рассмотрение синестезии в языковедении требует выхода за пределы собственно лингвистического исследования; объяснение природы языковых проявлений синестезии требует привлечения данных других наук, что связано со сложностью и многогранностью этого феномена.
Уместно в этой связи привести замечание А.А. Леонтьева: «... лингвистика сейчас остро нуждается в притоке новых идей, так как она уже много лет по существу топчется на месте, развиваясь почти исключительно за счет использования информации, накопленной в психолингвистике, логике, прагматике и других гуманитарных науках» [Леонтьев, 1997: 277]. Однако целесообразность междисциплинарного подхода к исследованию синестезии связана, на наш взгляд, не только с модой и современными тенденциями изучения языковых явлений в целом. Необходимость объе динения усилий представителей различных областей знания в поиске объяснения природы синестезии признается учеными, работающими в разных направлениях.
В частности, о важности интеграции усилий представителей различных дисциплин в исследовании синестезии говорит автор признаваемой на Западе наиболее прогрессивной на сегодняшний день теории этого феномена американский нейропсихолог Р. Цитович. В статье [http://psyche.cs.monash.edu.aul Р. Цитович пишет, что на современном этапе особое значение в изучении природы синестезии, наряду с нейронаука-ми, имеют изыскания в области медицины, генетики, лингвистики и искусственного интеллекта. В ряде естественнонаучных исследований синестезии используется также материал художественной практики (см., например, [Кравков, 1948; Lyons http://www.tstex.com]V Отдельный интерес для психологов, обращающихся к проблеме интермодальной общности ощущений, представляет «фиксация» синестезии в речи (см., например, [Ве-личковский, Зинченко, Лурия, 1973; Натадзе, 1979; Рубинштейн, 1998]).
Вербальные манифестации синестезии как частное проявление интермодальности: определение и структура
Опираясь на проведенный в предыдущем параграфе анализ, представляется возможным в полной мере согласиться с А.Р. Лурией, определяющим синестезию как сочувствование, которое возникает как интермодальное смешение в нашем головном мозге и ведет к тому, что «язык реагирует на него специфическими словосочетаниями» [Лурия, 1974: 134]. Воплотившись в языковую номинацию, интермодальные ощущения становятся уже не психофизиологическим феноменом, возникающим на подсознательном уровне, а языковой метафорой, вербально закрепляющей межчувственные связи (см. об этом, например, [Ульман, 1970; Тальягам-бе, 1985; Телия, 1986; Арутюнова, 1990; Вежбицкая, 1990; Елина, 2002а; Лакофф, 2004]).
Традиционно явление синестетической метафоры рассматривается в лингвистике стилистикой и семасиологией. В самом общем виде оно трактуется лингвистами как употребление слова, значение которого связано с одним органом чувств, в значении, относящемся к другому органу чувств; таким образом, в словосочетании синестетического типа осуществляется «переход из сферы, воспринимаемой одним органом чувств, в область другого» [Арнольд, 1981: 79], или же «оказываются соединенными вместе признак и предмет, воспринимаемые разными органами чувств» [Золина, 1980: 31], т.е., с позиций стилистики, речь в данном случае идет о явлении тропеического характера [Брандес, 1983], а именно метафоре или метонимии.
В семасиологии (работ, выполненных в русле такого подхода к языковому аспекту синестезии, большинство) принято положение о том, что в синестетических сочетаниях осуществляется перенос одного ощущения на другое, в чем-либо сходное с первым, например, светлые звуки, кричащие краски, мягкий свет, резкий звук и тому подобное. Слово, связанное с одним ощущением, переходит в сферу обозначения другого ощущения, изменяя свою семантику: оно может приобретать эмоционально-оценочную окраску и выражать интенсивность ощущения (см. об этом, например, [Аллендорф, 1965; Гак, 1977; 1988; Капанова, 1984; Кундик, 1997; 2000; Усик, 2000; Ивакина, 2001; Лаенко, 2002; Givon, 1970; Williams, 1976]).
Объектом семасиологических исследований традиционно становятся так называемые синестетические (или синестезийные) прилагательные, поскольку считается, что имя прилагательное обладает наибольшим потенциалом к образованию синестетических значений. К числу синестетических прилагательных относятся прилагательные, обозначающие признаки, воспринимаемые органами чувств (для обозначения таких прилагательных в современных работах употребляется термин перцептивные прилагательные): 1) зрительно воспринимаемые признаки предмета; 2) признаки предмета, воспринимаемые на слух; 3) признаки предмета, воспринимаемые с помощью органов обоняния; 4) признаки предметов, воспринимаемые осязательно [Мерзлякова, 2003]. Так, автор указанного исследования обращается к перцептивным прилагательным английского, французского и русского языков и выделяет 15 моделей их синестетического употребления, такие, как случаи употребления прилагательных, обозначающих зрительно воспринимаемый признак, для передачи звукового признака (например, белый шум), прилагательных, обозначающих звуковой признак, для передачи зрительного признака (например, loud colours), случаи перехода прилагательных, обозначающих вкусовые признаки, в разряд прилагательных, передающих зрительно воспринимаемые признаки (например, sour smell) и т.п. Таким образом, признается, что синестезия находит отражение в языке в виде взаимодействия между перцептивными прилагательными различных лексико-семантических групп с сохранением прилагательными сенсорных свойств (см. об этом, например, [Вайсман, 1982]). «Потенциал» имени прилагательного к образованию синестетических значений связывается с тем, что его отличительной характеристикой является «непомерно широкий смысловой объем ... и едва заметные границы лексико-семантического и семантико-стилистического варьирования» [Уфимцева, 2002: 197], семантическая многоплановость, информативная полифункциональность [Бурсак, 1981], способность проникать во все сферы семантической организации текста, выражая при этом признаки-качества, признаки-действия, временные, модальные признаки, а также интенсификацию и оценку. Такая широта семантики, по признанию семасиологов, приводит к чрезвычайной мобильности прилагательных: одно и то же прилагательное может использоваться для характеристики различных денотатов [Вольф, 1978]. Возникновение синестетического значения прилагательного, принадлежащего той или иной лексико-семантической группе, связывается с реализацией в структуре его значения потенциальных сем оценки и интенсивности, в результате чего пополняются конкретные лексико-семантические группы перцептивных прилагательных, что является способом формирования недостающих значений и служит развитию лексической системы языка (см., например, [Арутюнова, 1979; Агалакова, 2003]).
Лингвистикой накоплено множество фактов, подтверждающих положение о том, что синестезия является важным фактором, влияющим на развитие языка. Так, по замечанию О.В. Григоренко [1998], синестезия -явление настолько в лингвистике яркое, что уже в русской классической поэзии XVIII в. появились способы обогащения содержательных возможностей слов путем сочетания несочетающихся понятий, а в период XIX в. было начато употребление цветообозначений для характеристики звуков, запахов и других восприятий. Слитность ощущений и их комбинация могут быть выделены при этимологическом анализе выражений различных языков: например, в работе [1970] С. Ульманн говорит о «синестетиче-ском» происхождении таких слов греческого языка, как baritone (от barys «тяжелый») и oxytone (от oxys «острый»); то же относится к латинским словам gravis и acutus, к которым восходят современные термины grave accent и acute accent. «Яркий свет и резкий звук, производя сходные впечатления, в языке выражаются одинаковыми словами, - отмечает Ф.И. Буслаев. - Яркий (от -яр-) теперь говорится о свете и цвете, но в старину употреблялось в значении "громко" о звуке, а также вообще о быстром и сильном впечатлении» [Буслаев, 1956: 295]. Часто мы говорим о жгучих вкусах, резких звуках, в народных песнях встречаются сравнения цвета и громких, ясных звуков [Житков, 1999].
Структурно-грамматическая модель синестетической метафоры в художественном тексте
Синестетическая метафора в художественном тексте представляет собой многогранное, сложное явление, поэтому в основу ее классификации может быть положено несколько принципов (см. об этом [Житков, 1999]). Во-первых, необходимо остановиться на формальной стороне интермодальной номинации.
Основываясь на результатах обработки собранного нами материала, можно сделать вывод, что формально компоненты синестетической номинации в художественном тексте объединяются на основе сочинительной (например, она вошла и обняла его, вся холодная и нежно-душистая [И.А. Бунин. Генрих]; Ему показалось, что он прикоснулся к чему-то сладкому и холодному [М.А. Булгаков. Белая гвардия]; she enveloped те with passing whiffs of warmth and perfume [J. Conrad. The Arrow of Gold]; space that was at once cool and frasrant [R. Sabatini. Captain Blood]), подчинительной (например, ледяной шум [М. Горький. По Руси], холодно синеть [И.А. Бунин. Темные аллеи], игольчатый мороз [М.А. Булгаков. Белая гвардия], холод голоса [Ф. Сологуб. Тяжелые сны]; frigid grey [Т. Hardy. The Return of the Native], dead weight of heat [R.L. Stevenson. Vailima Letters], balmy warmth [J. London. Martin Eden], heated landscape [V. Woolf. The Voyage Out]), предикативной (например, красота холодеет) связи. Исследованный материал позволяет опровергнуть высказываемое многими исследователями положение (см., например, [Вайсман, 1982; Гак, 1988; Елина, 2002а; Агалако-ва, 2003]) о том, что наиболее типичной (либо даже единственной) грамматической моделью языковых проявлений интермодальности является атрибутивное словосочетание, дающее возможность наиболее однозначного выделения направления межчувственного переноса. Несмотря на то, что словосочетательная модель реализации межчувственных соответствий представлена в нашем корпусе фактов наибольшим количеством примеров (52% в русскоязычном и 59% в англоязычном художественном тексте), не следует упускать из виду случаи реализации синестезии на уровне предложения (41% в русскоязычном и 36% в англоязычном тексте), слова (5% и 3% соответственно) и микроконтекста (по 2%). Наглядно соотношение структурных типов синестетической номинации представлено на рис. 2.1, 2.2. Остановимся на каждой из выделенных структурных моделей реализации синестезии подробнее.
Отличительными чертами случаев фиксации синестезии на уровне предложения (фразы) и сверхфразового единства (отрывка, микроконтекста) является их сложный (комплексный) характер, высокая степень образности, эмоциональности, яркости и эффектности: «... мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола...» [И.С. Тургенев. Записки охотника]; «Ночь идет, и с нею льется в грудь нечто сильное, освежающее, как добрая ласка матери, тишина мягко гладит сердце теплой мохнатой рукою» [М. Горький. Детство]; «There must have been an amazed incredulity in my eyes, to which her own responded by an unflinching black brilliance which suddenly seemed to develop a scorching quality even to the point of making me feel extremely thirsty all of a sudden» [J. Conrad. The Arrow of Gold]; «The stagnant Roman air is charged with convention; it colors the yellow light and deepens the chilly shadows» [H. James. Roderick Hudson].
Разбиение такого рода синестетических образований на минимальные двухчастные единства представляется не только нецелесообразным, но и зачастую невозможным. Для иллюстрации проанализируем пример реализации синестезии на уровне микроконтекста из И.С. Шмелева: «А звезды!.. На черном небе так и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие звезды!.. Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе-то мерзлость, через нее-то звезды больше, разными огнями блещут — голубой хрусталь, и синий, и зеленый, — в стрелках. И звон услышишь. И будто это звезды -звон-то! Морозный, гулкий — прямо серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударят — древний звон, степенный, с глухотцой. А то — тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча церквей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца-начала... — гул и гул» [И.С. Шмелев Лето Господне].
В первой части приведенного отрывка превалируют образы зрительного ряда: звезды, черное небо, свет, мерцает, блещут, голубой, синий, зеленый хрусталь. Вторая часть описывает слуховые ощущения: звон, гулкий, запело, перезвон, пенье, гул. Для их объединения автор использует си-нестетический прием, уподобляя зрительно воспринимаемый объект и звук: И будто это звезды - звон-то! Однако слухо-зрительная (или же зрительно-слуховая) синестезия ЗВЕЗДЫ -» ЗВОН, будучи, вероятно, стержневой, не является единственной в этом отрывке. Разворачиваясь постепенно, растягиваясь на несколько предложений, она приобретает дополнительные синестетические характеристики: от света звезд в небе кипит, дрожит (вибрационное соошущение); звезды - бьются, колют глаз (болевые ощущения); звон - морозный (температура), прямо серебро (свет/цвет), тугое серебро, бархат зеонный (тактильно-зрительные образы), стелет звоном (зрительно-слуховой образ). Создается сложное по соотнесенности с различными модусами перцепции единство, вовлекающее замысловатые переплетения чувственных представлений.
Следует подчеркнуть, что степень сложности является важным признаком, положенным нами в основу классификации исследованного материала. На необходимость такого подразделения указывает М.Я. Сабанадзе [1987], выделяя синестезии простые (синестетические словосочетания с минимальной двухчастной структурой) и несколько разновидностей сложных синестезий (сочетаний более чем двух слов, значения которых соотносятся с различными сферами сенсориума). В настоящем исследовании мы ограничиваемся разделением ТС на простые и сложные синестетические номинации, без дальнейшего подразделения на группы сложных синесте-тических образований, поскольку разбиение свойственных художественной речи сложных по своей структуре синестетических выражений на более мелкие группы представляется весьма затруднительным и нецелесообразным.
Формирование табличных данных. Сведение в таблицы ТС согласно их частотности
Таким образом, есть основания говорить об особой значимости четырех чувств в формировании и функционировании ТС, а именно зрения, обоняния, психических состояний и эмоций и слуха. Сопоставим полученные нами результаты с данными, предоставляемыми психологией и психофизиологией. Если вернуться к таблицам синестезий, предлагаемых в 1.3, то можно заключить, что, в целом, полученные нами результаты подтверждают положения, выдвигаемые психологами, о том, что наиболее частотным паттерном синестезий является соощущение, соотносимое со зрительной модальностью. Определенное сходство обнаруживаем и в отношении слуховых соошущений (подчеркнем, что зрительно-слуховые переносы признаются в психологии наиболее типичными).
Однако обращает на себя внимание явная недооценка значимости обонятельной модальности, а также ощущений и восприятий психической модальности в формировании и функционировании синестезий. При этом необходимо подчеркнуть, что в предлагаемых в данном параграфе сведениях мы несколько огрубили полученные данные, поскольку во многие ТС, в которых представлена зрительная и слуховая модальности, входит ассоциация психической модальности (т.е. они являются комплексными). Это позволяет сделать вывод о первоочередной значимости синэстемиче-ских факторов в формировании и действии синестезии.
Проиллюстрируем это важное для нашего исследования положение на примере анализа эмоционального вектора синестетических номинаций с температурным компонентом значения, свойственных идиостилю двух писателей - М. Горького и Дж. Конрада, для которых, как показывает количественный анализ, наиболее типично их привлечение (см. приложения 2, 3). Ведущими показателями температуры, с которыми соотносятся но т минации температурного соощущения в синестетических метафорах М.
Горького, являются противоположные друг другу по знаку полюса тепла (номинации «теплый», «теплота», «тепло») и холода (номинации «холодный», «холодно», «холод»). На столкновении, противопоставлении этих температурных полюсов автором строятся сложные по чувственному ма ,ф териалу образы, апеллирующие к различным модусам перцепции, напри мер, зрению - Живопись маслом требует единства красок теплых, а ты вот подвел избыточно белил, и выйти у богородицы глазки холодные, зимние (В людях), эмоциональной сфере - То холодное и жесткое, что он имел в груди против нее, - таяло в нем от теплого блеска ее глаз (Фома Гордеев).
Эмоциональный вектор ТС М. Горького наиболее четко прослежива ется в синестетических номинациях, описывающих эмоционально-аффективные состояния и характер человека, что представляется вполне закономерным, поскольку в такого рода синестетических образованиях присутствует либо номинация эмоции, например, в груди его холодным комом лежала злоба; а ночами меня окутывал холодным облаком страх (В людях), либо номинация близкого эмоциональным состояниям болевого ощущения, например, Я так и присел, точно ушибленный его словами, всё внутри у меня облилось холодом (В людях). Специфика такого рода сине стетических единств, применительно к идиостилю писателя, заключается в их комплексном полимодальном характере. Так, в отрывке «Скука, холодная и нудная, дышит отовсюду: от земли, прикрытой грязным снегом, от серых сугробов на крышах, от мясного кирпича зданий; скука поднимается из труб серым дымом и ползет в серенькое, низкое, пустое небо; скукой дымятся лошади, дышат люди. Она имеет свой запах - тяжелый и тупой запах пота, жира, конопляного масла, подовых пирогов и дыма; этот запах жмет голову, как теплая, тесная шапка, и, просачиваясь в грудь, вызывает странное опьянение, темное эюелание закрыть глаза, отчаянно заорать, и бежать куда-то, и удариться головой с разбега о первую сте ну» (В людях) обладающий однозначно отрицательным эмоциональным зарядом синестетический образ скуки, холодной и нудной сопровождается дополнительными разномодальными характеристиками, усиливающими эмоциональный эффект: обонятельными {тяжелый и тупой запах), боле выми {жмет голову, просачивается в грудь), двигательными {бежать ку да-то, и удариться головой о первую стену). «Всеобъемлющий» характер скуки, ее неизбежность подчеркивают пространственно-зрительные образы: скукой дышат люди, она поднимается из труб серым дымом, скукой дымятся лошади. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что однозначное определение эмоциональной окраски синестетических выражений М. Горького, включающих наиболее частотные для него температурные характеристики, как «положительной» (для полюса «тепло») или «отрицательной» (для полюса «холод»), может быть представлено как лишь в значительной степени огрубленное. Так, большинство ТС автора, в которых представлена номина ция, соотносимая с теплым полюсом температурного восприятия, обладает положительным эмоциональным зарядом: тепло у М. Горького душистое (3), ласковое, ласкающее, приятное, теплые краски - спокойные, теплый голос -мягкий. Однако в ряде ТС с компонентом «тепло» актуализируются неприятные ощущения - эмоционально-интерорецептивные (от скуки ... грудь наливается теплым свинцом; тишина, серенькая и теплая, подсказывала мысли, полные тупого изумления), ощущение тепла ассоциируется с неприятными запахами (теплый запах гнили, теплый жирный запах).
Негативный эмоциональный вектор синестетических единств, включающих номинацию, соотносимую с холодным показателем температуры, прослеживается в комплексных ТС М. Горького, привлекающих описания зрительных (холодная, мутная синева), тактильных (холодный, жесткий хохот) ощущений, ощущений и восприятий психической модальности (дождь... шумел так холодно, монотонно, тоскливо). Целостность отрицательного по эмоциональной направленности образа зачастую создается посредством привлечения обонятельных ассоциаций (здесь, опять же, следует вспомнить эмоциональность запаха): ... земля уже истощила все свои сытные, летние запахи, пахнет только холодной сыростью, воздух же странно прозрачен, и в красноватом небе суетно мелькают галки, возбуждая невеселые мысли (Детство). Запах в «холодных» ТС становится предвестником чего-то неожиданного, неприятного: В беседку вошел кто-то очень широкий, в мохнатой шапке; он внес холодную тень и густой запах дегтя (Дело Артамоновых).