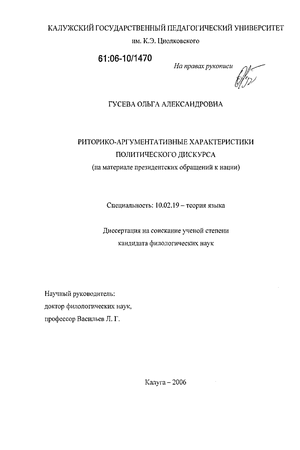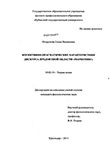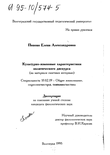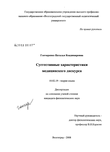Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Аргументативные и лингво-культурологические основы исследования 32
1.1. Дискурс как явление лингвистики 12
1.2. Основные понятия и направления теории аргументации 30
1.3. Взаимоотношения аргументации и риторики 38
Выводы по Главе I 85
Глава 2. Использование особенностей аудитории для реализации интенции оратора в американской президентской риторике 88
2.1. Общая характеристика целевой аудитории президента США 88
2.2. Семиотическая и аксиологическая организация речи президента 92
Выводы по Главе II 192
Заключение 195
Список литературы 198
Список сокращений и условных обозначений 214
Приложение I 215
Приложение II 221
Приложение III
- Основные понятия и направления теории аргументации
- Взаимоотношения аргументации и риторики
- Общая характеристика целевой аудитории президента США
- Семиотическая и аксиологическая организация речи президента
Введение к работе
Предлагаемое исследование посвящено анализу политического дискурса в аспекте лингво-риторических и аргументативных особенностей жанра обращения президента к нации.
Изучению дискурса в целом и его специфике уделялось много внимания как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике[Александрова, 1999; Баку-мова 2002; Баранов 1993; Бахтин 1997; Белова 1996; Бейлинсон 2001; Богданов
1993, 1999; Борботько 1998; Бушев 2003; Водак 1997; Вольвак 2002; Гальперин
1981, 1982; Гришкова 2003; Дейк 1978, 1989; Демьянков 2001; Долинин 1985;
Дридзе 1984; Дроздов 2003; Залевская 2001; Карасик 1999, 2002; Кибрик 1994;
Комина 1984, 1999; Кочетова 1999; Кочкин 1999; Крестинский 1990; Кубрякова
1996; Кухаренко 1988; Макаров 1998, 2003; Михайлова 2001; Москальская 1981;
Попова 1994; Поспелова 2001; Ревзина 1999; Реферовская 1983; Семененко 1996;
Сидоров 1996; Сльтшкин 1999, 2000; Солганик 1973; Сусов 1999, 2000; Сухих
1998, 2002; Файбышенко 2002; Чахоян 1981; Черняховская 1983; Шадаева 2004;
Шаховский 1988; Шахнарович 1991; Шейгал 2000, 2002; Brandt 1970; Brown
1986; Campbell, Jameison 1986; Corsaro 1985; Dijk 1996; Gumperz 1982; Joslyn
1986; Kress 1985; Lincoln 1989] и др.
Вопросы аргументации также получили достаточное и разностороннее освещение [Баранов 1990; Баранов, Сергеев 1988; Васильев 1992, 1994, 1999; Гордон, Лакофф 1985; Грайс 1985; Клюев 1999; Эмерен, Гроотендорст 1994; Эмерен, Гроотендорст, Хенкеманс 2002; Ивин 1997, 2002; Куликова 1989; Серль, Вандер-векен 1986; Стросон 1986; Яскевич 1993; Austin 1975; Blair 1987, 1998; Cohen 1995, 1998; Crable 1976; Ducrot 1984; Eemeren, Grootendorst 1992, 1994; Eemeren, Grootendorst, Henkemans 1996; Eemeren, Houtlosser 1998; Ehninger, Brockride 1973; Freeley 1981; Freeman 1985; Golubev 1998; Govier 1988; Gronbeck 1988; Grootendorst 1987; Henkemans 1992; Hitchcock 1998; Jackson 1987; Johnson 1981, 1987,
1994, 1998; Klein 1987; Perelman, Olbrechts-Tyteca 1969; Toulmin 1958;Vassiliev
2003; Walton 1995; Wilson 1986] и др.
Тем не менее, проблемы эффективности аргументации как средства воздействия на массовую аудиторию, принадлежащую к определенной национальной культуре, в отечественной лингвистике широко не разрабатывались.
Обращение к теме данной диссертации обусловлено потребностью комплексного исследования политического дискурса с основным акцентом на одностороннем целенаправленном воздействии агента дискурса на массового реципиента в целях достижения необходимого агенту результата.
Актуальность настоящего исследования определяется: 1) теоретическими и практическими потребностями выявления и изучения условий эффективности аргументации в рамках рассматриваемого типа дискурса; 2) комплексным исследованием вопросов, связанных с адресатом, адресантом и воздействием адресанта на адресата в рамках отдельного сегмента политического дискурса; 3) рассмотрением регулятивных механизмов, приемов и языковых средств, используемых для повышения эффективности аргументации в непосредственной связи с аргумента-тивпой ситуацией; 4) неразработанностью в отечественной лингвистике проблемы убеждающего потенциала публичного слова политика высшего уровня; 5) недостаточной исследованностью специфики ценностного отражения действительности в политическом дискурсе в американской культуре.
Научная новизна данного исследования заключается в рассмотрении указанного аспекта политического дискурса на стыке социо-культурологического, прагматического и функционально-стилистического подходов; в описании разноуровневых средств риторико-аргументативного воздействия на массового адресата, а также в выявлении характера связи между способами воздействия, с одной стороны, и социо-культурным контекстом высказывания, включающего, помимо прочего, константные и вариативные особенности адресата, с другой стороны.
Объектом исследования в данной работе является политический дискурс, который понимается как текст, обусловленный ситуацией общения в политической сфере. В качестве предмета изучения выступают риторико-аргументативные характеристики современного американского политического дискурса в аспекте публичной президентской риторики.
Цель настоящего исследования заключается в описании и комплексном анализе одной из форм политического дискурса, направленной на порождение сознательной и подсознательной приверженности массового адресата предлагаемой точке зрения.
Реализация указанной цели предопределила постановку следующих задач:
1) определить понятия «институциональные формы общения» и «политический
1 дискурс» с рассмотрением их сущностных характеристик;
2) установить конститутивные признаки политического дискурса как вида инсти
туционального общения; 3) выявить аргументавные модели, наиболее дейст
венные в публичном политическом общении; 4) раскрыть сущность такой клю
чевой проблемы современной лингвистики как национально-культурные пара
метры дискурса; 5) выявить национально-культурные особенности современного
политического дискурса Соединенных Штатов Америки с точки зрения ценност
ных доминант; 6) определить систему американских ценностей, выражаемых в
политическом тексте; 7) рассмотреть средства регуляции восприятия как специ
фической деятельности, реализация которой детерминируется конкретными це
лями субъекта власти; 8) выявить риторико-аргументативные и языковые средст
ва осуществления регуляции восприятия сообщения в жанре обращения прези
дента к нации.
Теоретико-методологическими основаниями исследования являются:
подходы к изучению дискурса (Карасик 1992, 2000, 2002; Бейлинсон, 2001; Борботько 1998; Водак 1997; Agar 1985; Дейк 1989, 1998; Corsaro 1985; Brown 1986);
концепции исследования политического дискурса (Шейгал 2000; Баранов 1990, 2004; Бакумова 2002; Глухова 2001; Кочкин 2003; Попова 1995; Вайнрих 1987; Geis 1987; Green 1987; Guespin 1971; Hahn 1998; Joslyn 1986; Watts 1997; Wilson 1986; Wise 1973);
теоретические подходы к пониманию феномена воздействия семиотики высказывания на адресата (Васильев 1999; Шейгал 2000, Гуревич 1992, 1997; Лобок 1987; Савельев 1998; Барт 1991; Кассирер 1996; Флад 2004; Nimmo,Combs 1980; Edelman 1964, 1977; Lincoln 1989);
риторико-аргументативные концепции эффективного воздействия на адресата речи (Perelman 1970; Perelman, Olbrecht-Tyteca 1969);
исследования в области риторики, в том числе президентской (Волков 2001; Клюев 1999; Рождественский 2000; Хазагеров 2002; Файбышенко 2002; Дэвидсон 2005; Бредемайер 2005; Безменова 1989; Brandt 1970; Morgan 2005; Brooks 1983; Rieker 1986; Austin 1975; Тазмина 1988, 2001; Бережная 1980; Neustadt 1964;
? Duffy, Ryan 1987; Denton, Woodward 1985; Campbell, Jamieson 1986);
исследования в области межкультурной коммуникации и специфики языковой личности (Леонтович 2002; Тер-Минасова 2000; Вежбицкая 1997; Гудков 2003; Токвиль 1994);
подходы к понимаю взаимодействия языка и культуры (Караулов 1987; Карасик 1996, 2000; Степанов 1997);
теория ценности в рамках культурно-психологического подхода (Рокич 1972, 1979;Франкл 1990;Маслоу 1954).
Задачи, поставленные в исследовании, определили применение соответствующих методов: прагм алии генетического, социолингвистического, контекстуально-композиционного, интерпретативного, а также риторического анализа.
Материалом для исследования послужили два обращения к нации, произнесенные Дж. Бушем - мл. с интервалом в четыре года, и посвященные событиям 11 сентября 2001 года, а также их внутри- и внешнеполитическим последствиям.
На защиту выносятся следующие положения: 1) аргументирование в публичной президентской речи направлено не столько на рациональное убеждение адресата, сколько на формирование в его сознании необходимого эмоционально-ассоциативного образа объекта и предмета речи, на основе которого восприиима-ется высказывание; 2) эмоционально-ассоциативный образ создастся за счет включения в речь релевантных семиотических и аксиологических компонентов, а также за счет грамотного оперирования их языковой реализацией; 3) аргументирование в публичном президентском дискурсе должно коррелировать с умственной и эмоциональной диспозицией целевой аудитории; 4) аргументационные и жанрово-стилистические характеристики обращения президента к нации регулируются особенностями целевой аудитории и более широким контекстом аргумен-
10
тативной ситуации; 5) жанр обращения президента к нации характеризуется вы
сокой степенью суггестивности, направленной на регуляцию мышления и пове
дения массового адресата; 6) регулятивное воздействие в рамках публичного пре
зидентского дискурса реализуется посредством разноуровневых языковых
средств, употребление которых имеет как общие закономерности, так и контек
стуальную обусловленность.
k Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результа-
ты вносят вклад в развитие теории коммуникации и лингвистической теории аргументации, расширяя представление о коммуникации в политическом дискурсе, проверяя эффективность неформальной логики в публичной аргументации, а также предлагая возможность выявления и описания основ и механизмов детерминации и регуляции восприятия аргументации массовым адресатом.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в спецкурсах по прагматике и риторике, в работе над публичными выступлениями субъектов власти, а также в ряде PR технологий.
Апробация сформулированных в работе теоретических положений и практических результатов была осуществлена на конференции «Развивающаяся Россия с позиции специалиста XXI века» (КФ МГЭИ, Калуга 2005), на Открытой университетской научно-практической конференции (КГПУ, Калуга 2006), а также на XIII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов - 2006» (МГУ, Москва 2006).
По теме диссертационного исследования опубликовано 10 работ общим объемом 3,46 п.л.
Общий объем исследования составляет 228 стр.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, трех приложений и списка использованной литературы.
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяются методы и приемы анализа материала, обозначается научная новизна исследования, формулируется теоретическая и практическая значимость работы и выносимые на защиту положения.
11 Первая глава посвящена анализу современного состояния проблемы; в ней также определяются теоретические предпосылки исследования и выявляются аспекты анализа публичного президентского дискурса.
Вторая глава содержит анализ факторов влияния на степень эффективно
сти аргументации применительно к определенной целевой аудитории в конкрет
ной аргументативной ситуации.
' В заключении излагаются наиболее общие результаты работы и намеча-
ются перспективы дальнейших научных изысканий в рассматриваемой области.
Основные понятия и направления теории аргументации
Традиционно под аргументацией понимается обмен рассуждениями и способы обоснования утверждений в рамках рассуждений. Г.А. Брутян определяет аргументацию как способ рассуждения, в процессе которого выдвигается некоторое положение в качестве доказываемого тезиса, рассматриваются доводы в пользу его истинности и возможные противоположные доводы, дается оценка основаниям и тезису доказательства, равно как и основаниям и тезису опровержения, доказывается тезис и опровергается антитезис, при этом создается убеждение в истинности тезиса и ложности антитезиса как у самого доказывающего, так и у оппонентов, а также обосновывается целесообразность принятия тезиса с целью выработки активной жизненной позиции и реализации определенных программ действия, вытекающих из доказываемого положения [Брутян І 984:7].
С точки зрения А.А. Ивина, аргументация представляет собой определенную человеческую деятельность, протекающую в конкретном социальном контексте и имеющую своей конечной целью не знание само по себе, а убеждение в приемлемости некоторых положений [Ивин 1999:255]
Ф. Еемерен полагает, что аргументация представляет собой вербальную, социальную и рациональную деятельность, направленную на убеждение рационального судьи в приемлемости или неприемлемости точки зрения при помощи выдвижения комплекса доводов в пользу или против данной точки зрения. По мнению автора, подобное определение охватывает не только процесс выдвижения доводов, но и текст, получаемый в результате, при этом контекст определяет, какое именно значение реализуется в данном случае. Ф. Еемерен указывает также на сложности, касающиеся определения аргумента (argument), поскольку последний обладает четырьмя значениями: 1) довод; 2) дискуссия, обмен мнениями; 3) спор; 4) форма доказательства в логическом понимании этого слова, состоящая из одной или более посылок и заключения. При этом следует оговориться, что направленность аргументации на убеждение рационального судьи [Еемерен, Гро-отендорст 1994: 24] не совпадает с принятой в настоящей диссертации точкой зрения на адресата аргументации.
С позиций радикального аргументативизма [Ducrot 1984], аргументатив-ность является неотъемлемой характеристикой любой части высказывания, состоящей, по крайней мере, из одного предложения; причем содержащиеся в предложении аргументы могут иметь как эксплицитную, так и имплицитную форму. Исследователь полагает, что единицы языка изначально содержат в себе аргумен-тативный компонент влияющий на восприятие адресата, в связи с чем употребление той или иной единицы может выступать как аргумент. X. Перельмак [Perclman, Olbrechtylcca 1969: 193 - 200] рассматривает аргументацию как, прежде всего, риторический процесс, где аргументы контекстуальны и динамичны. Специфика предмета данного диссертационного исследования определила понимание аргументации как вербальной, целенаправленной социальной деятельности, протекающей в конкретном контексте, организованной в соответствии с принятыми в данной культуре принципами убеждения и направленной на убеждение адресата в приемлемости некоторых положений Центральным понятием теории аргументации является аргументативная ситуация, то есть ситуация прямого или косвенного взаимодействия субъектов общения, в которой реализуется выдвижение и обоснование мнения или обмен мнениями с целью обсуждения определенной позиции.
Некоторые исследователи [Фанян 2000] полагают, что аргументация существует в конфликтной среде, где существует потенциальная возможность дости жения консенсуса. Иными словами, аргументативная ситуация заключается в возникновении когнитивного диссонанса При этом участники дискуссии должны находиться в рамках одного аргумента в того поля, то есть обладать системой общих представлений, совместимой с выдвигаемым положением.
Р. Крейбл [Crable 1976] полагает, что причиной возникновения аргумента-тивной ситуации может послужить: 1) желание проверить истинность или ложность идеи; 2) потребность в эмоциональной разрядке: 3) желание добиться принятия некоторого утверждения; 4) обязанности; 5) психологические особенности собеседников; 6) социальные потребности
В данном исследовании под аргументативной ситуацией понимается совокупность экстралингвистических условий, включающих специфику аудитории и социального контекста, которые оказывают непосредственное влияние на процесс аргументации.
Взаимоотношения аргументации и риторики
Лингвистическая теория общения и теория аргументации, занимающиеся непосредственно речевой деятельностью, затрагивают предметное поле риторики, что и вызывает вопрос о взаимоотношениях риторики и теории аргументации.
Позиция М. Биллига [Billig 1987], который определяет риторику как традиционное изучение и применение аргументации на практике, перекликается со взглядами древних, усматривавших тесную связь риторики и аргументации. Под аргументацией в данном случае понимается не научное явление, но факты повседневного убеждающего дискурса, где приводятся и оцениваются доводы, принимаются и обосновываются убеждения. Таким образом, риторика и аргументация сближаются в социальном контексте дискурса.
Следуя традиции логики, можно говорить об аргументе, как о своеобразном единстве посылки и вывода. Столь же упрощенный образ может возникнуть п сознании и по отношению к риторике, так, П. Рикер считает, что риторика выродилась в бесполезную дисциплину, прекратившую свое существование в 18 веке [Rieker 1986]. Зачастую проблема взаимоотношения риторики и аргументации рассматривается в плоскости «рациональное - эмоциональное», где аргументация соотносится с рациональной составляющей, а риторика- с эмоциональной. Тем не менее, в настоящий момент доминирует интегративная трактовка: провозглашается единство умения убеждать и умения воздействовать в ораторском искусстве, поскольку ораторская речь, направленная на убеждение адресата, подчеркивает а слове его влияющую, эмоциональную сторону. Таким образом, собственно аргументавпая составляющая оказывается неотделимой от ритори ческих компонентов, что обусловлено спецификой мыслительной деятельности человека, в которой эмоциональность является частью процесса мышления, необ ходимой для контроля и регулирования процессов переработки информации [Леонтьев 1974],
Мы придерживаемся сходной позиции, утверждая, что риторико аргументативное воздействие на аудиторию невозможно без актуализации эмоционально-ассоциативного восприятия высказывания адресатом.
Н.Н. Кохтев также отстаивает единство рационально-логических и эмоционально-риторических элементов, образующих единое целое в содержательно-стилистической структуре речи [Кохтев 1992: 22]. Исследователь выделяет следующие уровни ораторской речи: идейно-тематический, фактуальный, структурно-логический, композиционный и функционально-стилистический, из которых только для структурно-логического фактор эмоциональности не играет значимой роли [Кохтев 1992:22-26].
Итак, роль риторики для аргументации заключается в том, что с ее помощью от собеседника можно добиться ряда уступок, на основе которых разворачивается работа по выведению умозаключения. На данном этапе необходимо сделать переход от рассуждений к вынесению суждения и от доказательства к мотивации. Вместо того, чтобы обращаться к принимаемым положениям (сугубо фак-туальный вопрос), ритор сконцентрируется на том, что должно быть принято (вопрос нормативности) и попытается заставить адресата в должной мере осознать, что он должен принять, тем самым, переводя слово в волевой акт.
При этом следует учитывать, что риторика не ограничивается применением установившихся мнений и уже существующих убеждений, она принимает активное участие и в формировании этих мнений и убеждений. Однако, как указывает Н. Решер [Rescher 1998], добросовестный ритор не будет злоупотреблять апелляциями к эмоциям и предрассудкам, отдавая предпочтение положениям, обоснованным на опыте.
Таким образом, вопрос стоит не об использовании достижений риторики в рациональной аргументации, но о том, в какой степени следует прибегать к риторике и к каким ее аспектам.
Основы неформального изучения рассуждения, заложенные М. Блрдсли [Beardsley 1950], получили развитие в трудах X. Перельмана, чья концепция дол гое время задавала тон в изучении аргументации. Оба исследователя предприня ли попытку создать систему, способную обеспечить адекватный анализ и оценку обыденного аргументативного дискурса в естественных языковых контекстах. Еще одной общей чертой в работах С, Тулмина [Toulmin 1958] и X. Перельмана [Pereiman 1969] является то. что в качестве отправной точки авторы принимают рациональную процедуру правового обоснования.
Хаим Перепьмап и его коллега Люси Олбрехт-Тытека опубликовали в 1958 году труд «Новая риторика: трактат об аргументации» [англ.пер. - Pereiman, Olbrechtyteca 1969], где в задачи риторики включалось изучение аргументации в повседневной коммуникации в направлении описания результативных па практике способов аргументации. В поиске логики ценностных суждений X, Перель-ман основывается не на априорном построении возможной структуры, а па анализе дискурса [Pereiman 1970:8],
Таким образом, X. Перельман предлагал скорее феноменологическую, нежели нормативную концепцию. Изучая процессуальное и материальное право, Х.Персльман пришел к выводу, что адвокаты в редких случаях приводят логически выстроенные аргументы - они стараются найти оправдание и объяснить выдвигаемые ими утверждения, Исследователь пришел к выводу, что сознание адресата неотделимо от процесса убеждения. Кроме того, посылки и способы получения вывода связаны с культурно-обусловленными концептами и мнениями.
Общая характеристика целевой аудитории президента США
Применив изложенные з предыдущей главе соображения по поводу особенностей политического дискурса к анализу конкретного речевого произведения, можно не только выявить, как на практике применяются риторические приемы создания успешной речи, но и увидеть национально-специфические черты.
Речь Президента США Джорджа Буша-младшего, произнесенная 8 ноября 2001 года в Атланте, отражает общественно-политическую ситуацию в стране, находящейся между происшедшим 11 сентября террористическим актом и предстоящей войной в Ираке. Для страны, где личная безопасность и уверенность в благополучном будущем являлись непреложной истиной, события 11 сентября оказались тяжелым ударом, В силу этого, от властей потребовалось предотвратить распространение паники н деморализацию нации.
Аудитория, к которой была обращена речь, может трактоваться двояко: с одной стороны, это сосредоточенная (ораторская) аудитория среднего объема, если принять за критерий число непосредственно присутствующих при произнесении речи людей, с другой стороны, современные технологии позволяют охватить практически всю нацию, поэтому аудиторию можно представить как рассредоточенную. С точки зрения мировоззренческой общности и значимых ценностей, аудитория в данном случае является однородной, причем в качестве дополнительного объединяющего элемента выступает общенациональная проблема, пробудившая сходные мысли и эмоцни в большинстве американцев.
Таким образом, разного рода различия, к примеру, возрастные, социальные, профессиональные, конфессиональные и т.д., в значительной степени нейтрализуются более сильным объединяющим фактором, что значительно облегчает задачу оратора, имеющего дело не только с конкретной аудиторией в Атланте, но и с массовой аудиторией в объеме всей нации, при этом оратор хорошо знаком с ценностными ориентациями аудитории и с уровнем ее внутреннего согласия. Кроме того, нация ожидала от президента подобного рода обращений, поэтому была изначально готова к восприятию его речей, а чрезвычайное происшествие в стране свело на нет критическое осмысление слов президента, поскольку присущее американцам доверие к демократическим институтам возросло до персонификации политики страны и ее пути в лице главы государства.
Применительно к данному публичному выступлению риторический пафос, создающий эмоциональный образ предмета речи, особенно важен, поскольку обращение Дж. Буша к нации рассчитано на присоединение аудитории к оратору и готовность к действию, то есть опирается на мотивацию и волю, которые пробуждаются эмоцией, а именно стремлением к цели, В обращении на основе столкновения предмета речи (реальность, поддающаяся изменению) и пропозиции (идеал, которого можно достигнуть совместными усилиями) создается общий романтический пафос, традиционно связанный с ориентированием аудитории в на-правлении более высоких идеалов, что помогает оратору вести за собой аудиторию. Частный пафос (риторическая эмоция) проявляется в рамках общего пафоса через акцентирование ряда положительных ценностей, как сугубо национальных, так и общечеловеческих (патриотизм, мужество, сострадание и т.д.)- В речи Дж. Буша романтический пафос связан с теми эмоциями, которые обычно сочетаются с данным типом пафоса: патриотизмом, ответственностью, мужеством, милосердием, чувством собственного достоинства, самоотверженностью. При этом указанные эмоции часто переплетаются: так. патриотические переживания, укрепленные чувством долга и сознанием праведности дела, переходят в риторическую эмоцию мужества и решимости.
Риторический этое проявляется в речи в виде личностных и социальных качеств оратора, на основании которых аудитория может всецело доверять ему, а также в виде внешнего соблюдения этических норм {правовых, моральных и нравственных) и ораторских нравов честности, скромности, доброжелательности и предусмотрительности.
Логос выступления связан с целью аргументации и аудиторией, на которую аргументация рассчитана. Аудитория президента в данном случае является частной, поскольку представляет собой исторически сложившуюся группу, в определенном смысле ограниченную национально-специфическими ценностями и целями. Однако, ряд особенностей универсальной аудитории также присутствуют: в обстоятельствах, подобных 11 сентября 2001 года, несмотря на культурные, исторические или частные различия, глубинные чувства и реакции людей сходными, поэтому аргументация, применяющаяся к универсатьной аудитории (рассчитанная на любого разумного человека), не только способствует согласию и присоединению аудитории к оратору, но и не вызывает возражений (по крайней мере, не должна) у международного сообщества.
Реальным объектом данного риторического высказывания является не сколько кризисная ситуация вследствие террористического акта, сколько проблема разрешения этой ситуации, в частности, проблема национальной безопасности и внешней политики США, Итак, в задачи оратора не входило усмотрение проблемы, ее выделение и оценка ее значения - все достаточно очевидно, как очевидна и заинтересованность всех без исключения американцев в разрешении проблемы. Однако оратор находит в практической проблеме духовно-нравственный смысл, раскрывая который, оратор побуждает аудиторию к действию в необходимом направлении, заботясь о том, чтобы ни один аспект проблемы не был представлен как принципиально неразрешимый силами аудитории.
Семиотическая и аксиологическая организация речи президента
Принимая классификацию Е.И. Шейгал (см. Глава I), рассмотрим, каким образом оратор корректирует восприятие аудитории на семиотическом уровне. В таблицах представлены количественные показатели частоты употребления в речи президента тех или иных форм выражения ключевых знаков политического дискурса.
Таким образом, мы видим, что в обоих случаях, вне зависимости от изменившейся аргументативной ситуации, преобладают знаки интеграции. При этом оратор пользуется весьма ограниченным набором средств выражения интеграции и прибегает, в основном, к эксплицитной констатации единства. Практически единственный случай использования имплицитности наблюдается в речи 2005 года. Употребляя слово America в таких высказываниях, как America will not leave before the job is done; ...there will be tough moments that test America s resolve; The terrorists do not understand America; America and our friends are in a conflict that demands much of us; America has done difficult work before, президент активизирует ассоциацию «мы». Причем данный случай метонимического употребления служит усилению интегрирующих коннотаций, поскольку объединяет аудиторию не только по горизонтали, но и по вертикали, возвышая ее до уровня олицетворения страны и творцов ее истории. Знаки агональности в речи 2001 года принимают форму стигматических единиц, идентифицирующих врага. Набор данных единиц также весьма ограни чен, что объясняется отсутствием необходимости затрачивать дополнительные усилия на формирование образа врага. Ввиду небольшого срока, прошедшего с момента терактов, слово «террорист» имело большую ассоциативную нагрузку, и с его помощью молено было вернуть аудиторию к ощущениям двухмесячной давности.
В речи 2005 года используются более разнообразные средства идентификации врага: основные единицы остаются неизменными (terrorists, enemy) и многократно повторяются, но наряду с ними в речи появляются единицы, употребленные лишь единожды. Возможно, такая перемена произошла в силу изменения настроения аудитории и ситуации. С одной стороны, четыре года спустя слово terrorists не вызывает столь широкого спектра ассоциаций, а слово enemy потеряло свою однозначность: в 2005 году общественность стала оспаривать прежнюю идентификацию врага США. С другой стороны, с начала иракской кампании распался синкретичный образ врага, сформированный в 2001 году: проявления террора стали разнообразнее и начали осуществляться разными группами лиц. Более того, привлечение дополнительных дескриптивных элементов придает конкретность объекту высказывания и позволяет создать иллюзию того, что борьба ведется исключительно против указанных лиц и группировок, а не против абстрактных «террористов». Указание на врага производится также при помощи дейксиса, отсутствовавшего в 2001 году. Содержащийся в дейктичееких формах компонент дистанцирования, кроме прочего, позволяет провести грань между врагом и американскими войсками, которых все чаще называли оккупантами, и действия которых критиковали.
Отсутствие в обоих случаях маркеров умаления значимости, пейоративных форм и других средств выражения агональности объясняется их нерелевантностью в рассматриваемых аргумеїггативньїх ситуациях. Общее количество знаков агональности в речи 2005 года выше, чем в 2001 году. Тем не менее, речь 2005 года носит более спокойный характер за счет того, что знаки агональности сосредоточены, в основном, в начале речи и включены в прагматический, нежели эмоционально-идеологический контекст.
Знаки ориентации представлены в виде политических терминов, названий политических институтов, ссылки на которые придают дополнительную легити мацию действиям президента. Приведенная таблица отражает количественное выражение только проявлений институциональной роли президента, т.к. именно эти знаки представляются наиболее важными для жанра обращения к нации. В 2001 году преобладает указание на внутриполитические организации, тогда как в 2005 году - на внешнеполитические, поскольку значение позиции международного сообщества возросло в глазах аудитории. То же самое справедливо и в отношении вновь созданных служб и организаций: в 2001 году их направленность указывала на приоритет работы правительства и характер программы действий внутри страны, в 2005 году преобразования в Ираке указывают па достигнутые результаты, значимость которых повышается прямой связью демократического прогресса с окончанием военной операции. В широкой трактовке все выступление президента может рассматриваться как ориентирующее аудиторию в задачах и принципах его программы.
Роль мифологической составляющей речи, соотносящейся с более широким контекстом трехкомпонентной семиотической организации, заключается в актуализации в сознании аудитории более сложных ассоциативных комплексов. Таблицы показывают организацию обращений Дж. Буша к нации в отношении использования ведущих социально-политических и национальных мифов США. Поскольку рассмотренные в Главе I классификации социальных мифов (см.: нль 2.2.2.) отражают различные аспекты данного явления, представляется возможным осуществить их комплексное применение к анализу организации речи на уровне мифов.
Мы видим, что изменения аргументативной ситуации не внесли глобальных изменении в набор мифов, которыми оперирует президент, ввиду их универсальности и эффективности их воздействия на аудиторию. Мифы-высказывания и антропонимы создают внешнюю организацию высказывания вокруг ключевых слов и словосочетаний и обеспечивают актуализацию необходимых институциональных понятий и связанных с ними ассоциаций. Необходимо обратить внимание на качественные и количественные различия мифов-антропонимов в рассматриваемых обращениях. Если в 2001 году президент упоминал только враждебные организации, то в 2005 году он включает в речь собственно антропонимы, причем как с положительными, так и с отрицательными коннотациями. Показателен также сам выбор антропонимов, идентифицируемых аудиторией как положительные: выступая перед военными с речью, посвященной проводимым операциям, Дж. Буш апеллирует к боевому генералу, и, принимая во внимание недовольство граждан напряженностью международ 98 ных отношений, президент апеллирует к канцлеру Германии. Личность генерала Вайнса в данном случае релевантна не только в силу рода его деятельности, по и в силу его должности (командующий операциями коалиции в Ираке). Цитирование Г. Шредера актуализирует существующие представления о Германии как противнице действий США с тем, чтобы на примере динамики мнения Германии убедить аудиторию в справедливости своей программы. В то же время оперирование названиями организаций в 2001 году позволило Дж. Бушу закрепить обобщенный образ врага, которому впоследствии можно придать необходимую степень детализации.