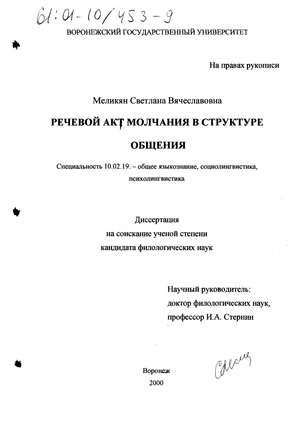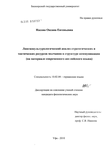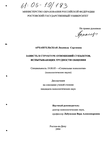Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Молчание как речевой акт
1. Структура и семантика речевого акта молчания 17
2. Прагматические функции речевого акта молчания 26
Глава II. Восприятие речевого акта молчания носителями языка
1. Восприятие молчания в письменном тексте 94
2. Восприятие молчания в устной речи 125
Заключение 140
- Структура и семантика речевого акта молчания
- Прагматические функции речевого акта молчания
- Восприятие молчания в письменном тексте
Введение к работе
В настоящее время в современной науке о языке наметился поворот от изучения языка как системы к изучению речи говорящего человека, фактов повседневного речевого обихода и, таким образом, целью изучения становится природа человеческого общения (Арутюнова, Падучева, 1985; Андрющенко, Батов, Белянин и др., 1989; Вежбицкк^а, 1985; Винокур, Головинская, Голанова и др., 1993; Грайс, 1985; Жельвис, 1990; Зернецкий, 1989; Кожина, 1987; Кол-шанский, 1984; Крестинский, 1994; Леонтьев, 1997 Сёрль, 1986; Сорокин, Тарасов, Шахнарович, 1979; Столкнейкер, 1985; Сусов, 1980, 1987, 1989). Лингвистическая прагматика изучает функционирование единиц языка в реальных коммуникативных процессах. В круг интересов исследователей попадают проблемы, связанные с самыми разными аспектами общения. Одной из таких проблем является изучение молчания как коммуникативного явления.
Молчание всегда было одним из важнейших элементов мифопоэтической картины мира.
Молчание как элемент культуры в русском сознании укоренилось давно. В православном контексте мотив молчания тесно связан, с одной стороны, с понятием «несказанного», с другой стороны, с концептом жертвы, страданием. Сергей Аверинцев в статье «Иисус Христос - русскими глазами» упоминает о текстах Книги Исайи об «Отроке Господнем», которые изображают молчание Страждущего как логический предел ненасильственности. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих...» (Исайя 53,7). Такое молчание, говорит он, связано с «кеносисом» - добровольно принятым на себя уничижением. С другой стороны, молчание связано с «апофатикой» - способом рассуждения, исходящим из того, что тайна Божья невыразима в человеческом слове, в каких бы то ни было рационалистических формулировках. «Молчание апофатично, ибо оно лучше всего иного отвечает сокровенной сути таинства. Но оно имеет также кенотическую мотивацию как атрибут Страстей Христовых, как радикальный отказ от всякого, хотя бы чисто словесного ответа ударом на удар». (Аверинцев, 2000)
Наблюдения над молчанием в русской христианской культуре мы находим у А.К. Михальской (Михальская, 1998). Она касается вопросов «безмолвия» и «греха многословия». Упоминая о 2-ой части Нагорной проповеди, А.К. Михальская указывает на то, что значимым принципом духовной жизни является принцип тайны добродеяния и молитвы, и именно это оказалось впоследствии основанием значительности категории безмолвия в христианской системе ценностей. Безмолвию принадлежит также особый статус в христианских принципах речевого поведения. Об этом мы находим в «Лествице» Св. Иоанна: «молчаливый муж есть сын любомудрия» и кротости. Поэтому ужасным по своим последствиям представляется грех многословия: «Многоглаголие есть признак неразумения, дверь злословия, руководитель к смехотворству, слуга лжи, истребление сердечного умиления, призывание уныния, предтеча сна, расточение внимания, истребление сердечного хранения, охлаждение святой теплоты, помрачение молитвы» («Лествица» Св. Иоанна, 1991).
Высокая оценка молчания в христианской литературе наложила свой отпечаток и на русский фольклор. В пословицах и поговорках молчанию придает- ся огромное значение. (Даль, 1993): «Не спорь, молчи: рассердишь - круче перевру», «Доброе молчанье - чем не ответ?», «Молчанье - знак согласия», «Красна речь слушаньем (а беседа смирением)», «Много знай, да мало бай! Много баять не подобает», «Лучше недосказать, чем пересказать», «На что перевирать, лучше смолчать», «Молчи, глухая, меньше греха!», «В добрый час молвить, в худой промолчать», «Умей сказать, умей и смолчать! Не все вслух, да в голос», «Молчанкой никого не обидишь. Кто молчит. Не грешит», «Не стыдно молчать, коли нечего сказать», «Доброе молчанье лучше худого ворчанья», «Кто молчит, тот двух научит», «Молчок - сто рублей», «Сказанное словцо - серебренное, не сказанное - золотое», «Кстати помолчать, чтобы большое слово сказать», «Кстати смолчал, да и вымолчал».
Это позволяет сделать вывод о том, что молчание в русской культуре традиционно имеет высокую значимость как элемент речевого общения. Молчание, несомненно, является фактом речевой культуры.
В поэзии языку мыслей и слов традиционно противопоставляется язык чувств - часто им оказывается молчание. По мнению Г.И. Берестнева, главным образом разочарование в слове и языке заставляет поэта обратиться к молчанию. Примером может служить «Silentium» Тютчева. Здесь мы находим и номинативную недостаточность слова (Как сердцу выразить себя?), семантическую его недостаточность (Другому как понять тебя? (...) Мысль изреченная есть ложь), и возможный выход из этой ситуации (молчи...), предполагающий истинное понимание (Берестнев, 1996).
О соотношении, взаимоотношении языка (слова) и молчания задумывались в той или иной степени многие исследователи (Хайдеггер, 1993; Богданов, 1997; Арутюнова, 1994; Крестинский, 1994).
Нельзя не согласиться, прежде всего, с мнением К.А. Богданова, который считает, что существуют неговорящие члены общества, но не существуют таких, которые бы никогда не молчали. «Можно сказать поэтому, что молчание доминирует над словом и довлеет слову: оно очевидно и - в этой очевидности -не менее парадоксально, чем слово» (с.4).
Феномен молчания заключается в том, что, онтологически предшествуя слову, в структурном отношении оно противопоставлено ему как немаркированный член оппозиции: молчание (-) - слово (+). Исходный элемент молчания (тьма, хаос, смерть, покой и т.д.), порождая свою противоположность - слово (свет, космос, жизнь, движение), становится зависимым от производного. Именно такую ситуацию имел в виду М.Хайдеггер, когда писал, что тьма не есть просто отсутствие света, как это может представляться нашему обыденному сознанию, и не ее отрицание, но «тьма есть открытое, хотя и непрозрачное, свидетельство о сокровенности свечения», а покой «не такая противоположность движению, которая исключает движение, ибо только подвижное может покоиться» (с. 267). В этом смысле и молчание надо рассматривать либо как исток слова, либо, с другой стороны, как его глубину.
Другие исследователи рассматривают молчание через сопоставление с говорением. Н.Д.Арутюнова указывает на молчание как на отрицательный феномен, т.к. значение глагола «молчать» трактуется через отрицательную форму наиболее общего и неспецифицированного по коммуникативной цели предиката речи - глагола «говорить». Поэтому и концепт молчания, который формируется на основе понятия говорения, вторичен по отношению к нему. Таким образом, прагматика молчания формируется на фоне прагматики говорения. Н.Д.Арутюнова считает, что в значение глагола «молчать» и его производных входит отрицание, что «уже само по себе является важным фактором, определяющим экстенсионал глагола молчать». Однако, «маркируя отклонение от нормы, внутреннее отрицание приравнивает отрицательный феномен к положительному, неслучившееся к случившемуся, несказанное к сказанному, а несказанное к выразимому. Недействие становится эквивалентом действия (антидействием). Оно приобретает собственные характеристики» (с. 106). И действительно, нельзя «озадаченно» («угрюмо», «красноречиво») «не говорить», но можно «озадаченно» («угрюмо», «красноречиво») «молчать». Таким образом, «молчать» обычно предполагает контролируемость действия, а отрицательная форма «не говорить» лишена сознательности. В данном подходе к молчанию оно воспринимается как дескрипция нулевого речевого акта, осуществляемая средствами языка - глаголом «Молчать» и его производными.
Надо отметить, что исследователи по-разному подходят к проблеме молчания. Некоторые указывают на жанровую природу молчания (Данилов, 1998), подчёркивая при этом на вариативность коммуникативной цели молчания, устойчивые образы адресата, будущего, прошлого, событийное содержание и языковое воплощение - нулевую вербализацию.
Довольно много писалось и о различных видах умолчаний, т.е. об отсутствии определенных вербальных составляющих в тех местах, где их можно было бы ожидать (Груздева, 1993; Человеческий фактор в языке, 1992). Исследуя проблему фигуры умолчания, Е.Ф.Груздева обращается к сути молчания вообще, молчания как явления, как значимого компонента коммуникации. Молчание, считает она, вместе с речью составляет единую базу коммуникации. «Будучи обусловленным и произвольным действием высказывающегося, умолчание представляет собой пропуск смысла, восстанавливаемый с большей или меньшей легкостью из (чаще) микро - или (реже) макроконтекста» (с.62). В работе «Человеческий фактор в языке» упоминаются «фигуры умолчания». Это те случаи, когда человек должен был бы сообщить некоторую (вполне определенную) информацию, но не сообщил. Хотя отмечается, что «акт умолчания» принадлежит по преимуществу сфере устного общения, указывается также на его адресованность, точно так же, как отрицательных форм «не говорить», «не ска-зать», «не сообщить».
Наиболее подробно акт молчания был исследован СВ. Крестинским (1994), который подошел к нему с позиций теории речевых актов. Рассматривая акт молчания в дискурсе, он приходит к выводу, что акт молчания - это сложная коммуникативная единица, которая обладает признаками знака и речевого акта, имеет коммуникативно-прагматическую структуру речевого акта. Основным свойством акта молчания является способность передавать некоторую (определенную) информацию в соответствующем контексте.
Одной из наиболее важных проблем, которые возникают при изучении молчания, является разграничение молчания коммуникативно значимого и коммуникативно незначимого. На это указывают многие исследователи (Богданов, 1986; Почепцов, 1986; Крестинский, 1989, 1991; Груздева, 1993 и другие). Необходимо отметить, что во всех работах по молчанию, включая нашу, речь идёт о коммуникативно значимом молчании.
В.В. Богданов проводит разграничение следующим образом: если человек находится в состоянии сна, молчаливо гуляет в парке или, если он занят какой-либо работой, не требующей вербальной коммуникации, то его молчание не имеет функциональной нагрузки, то есть это коммуникативно незначимое молчание.
Наиболее общее разграничение видов молчания сделал Б.Ф. Поршнев (1974), выделив доречевое молчание и молчание как перерыв в речевом общении. Доречевое, животное молчание исключает ситуацию общения и, следовательно, какую-либо коммуникативную значимость: оно эквивалентно доисторической тишине. Доречевое молчание может стать актом молчания в ситуации общения, если выступит в качестве ответа, реакции на речевой ход собеседника.
М. Савиль-Труак, выделяя типы молчания, тоже разграничивает молчание как отсутствие звука вне ситуации общения и молчание как часть коммуникативного процесса (Savill-Troike, 1985). Затем, будучи включенным в структуру общения, молчание может быть структурообразующим компонентом и собственно коммуникативным актом. В качестве структурообразующего ком- понента молчание может быть регулятором отношений между коммуникантами.
Кроме того, такое молчание может участвовать в конструкции сценария взаимодействия, быть показателем смены коммуникативных ролей. На это указывает С.А.Аристов (1999), который подчеркивает, что смена коммуникативных ролей может осуществляться с помощью как речевых, так и неречевых действий.
Далее, рассматривая само коммуникативно значимое молчание (КА), М. Савиль-Труак различает акт молчания без пропозиционального содержания («паузы-хезитации внутри речевого кода и между речевыми ходами», имеющие преимущественно эмоциональный характер) и собственно коммуникативный акт молчания с пропорциональным содержанием. Собственно акт молчания выступает заместителем соответствующего речевого хода, он является частью коммуникативного процесса - от микродиалога до дискурса.
Говоря об условиях знаковости (значимости) молчания, Г.Г. Почепцов указывает на три обязательных условия:
Осознанное и намеренное использование молчания со стороны отправителя.
Осведомленность получателя о намеренном характере молчания.
Обладание отправителем и получателем общим знанием относительно значения молчания.
С этим можно согласиться, однако в непосредственном диалоге выполнение молчанием всех этих условий может оказаться проблематичным. Проявле- п ниє молчания может быть своего рода окказиональным, поэтому может не восприниматься одним из коммуникантов как намеренное ввиду отсутствия общего (взаимного) знания смысла возникшего молчания. А кроме того получатель может иметь некоторые затруднения в правильном истолковании молчания отправителя. Это отмечает СВ. Крестинский (1989).
Можно сказать, что коммуникативно значимым является молчание, посредством которого передается информация от отправителя к получателю. Эта информация может быть расшифрована адресатом на основе знания контекста, ситуации и всех прочих обстоятельств процесса общения.
Таким образом, молчание является предметом исследования не само по себе, а как элемент дискурса, часть диалога.
Наблюдая над вербальным общением, легко заметить, что речевая деятельность не представляет собой сплошного говорения. Вербальная часть речи содержит вставки коммуникативно значимого молчания. «Диалог есть такой способ языкового общения людей, при котором обязательным признаком является мена коммуникативных ролей, т.е. чередование минимум двух речевых ходов. В определении диалога можно допустить наличие двух ходов, один из которых является неречевым» (Сусов, 1987: 13). А.А. Кибрик (1994), рассматривая проблему абсолютного молчания («отсутствие дискурса со стороны субъекта коммуникации в тот момент, когда дискурс ожидается» (с.49)), в качестве основного его вида выделяет отсутствие очередной реплики в диалоге. Н.К.Кънева (1997), исследуя нарушения коммуникативных обязательств в диалоге, подчеркивает, что они не обязательно обсуждаются на вербальном уров- не, т.к. можно «ответить» молчанием. Поэтому можно согласиться с СВ. Кре-стинским, что молчание становится коммуникативным актом только в дискурсе, в процессе общения (1990).
В ряде работ по молчанию затрагивается вопрос о соотношении молчания и невербальных средств коммуникации (Аристов, 1998; Богданов, 1987; Кре-стинский, 1993, 1998; Savill-Troike, 1985). Большинство исследователей относят коммуникативно значимое молчание к невербальной сфере, наряду с фонацией и кинесикой. Однако мы считаем, что молчание нельзя отнести к внешним факторам, так как молчание не обладает автономностью от языка, его значимость проявляется только в языковом контексте.
В традиционном понимании молчание противостоит слову, т.е. сущест- W вуют следующие оппозиции: знак - нулевой знак речь - молчание речевой акт - нулевой речевой акт.
Термин «нулевой знак» в лингвистике известен давно. Однако в боль шинстве работ, посвященных нулевому знаку, нуль рассматривается прежде всего на уровнях фонетики, грамматики, морфологии и синтаксиса, т.е. речь идет о нулевой форме и нулевой морфеме (Кибрик, 1997; Мельчук, 1974; Ши ряев, 1973; Якобсон, 1985). В частности, Р.О.Якобсон считает, что функциони- рование системы языка основано именно на «противопоставлении некоторого факта ничему» (с.224). Так, например, в русском языке совершенный вид глагола указывает на абсолютную законченность действия, по противопоставле- нию с несовершенным видом (нулевым), который не касается вопроса о временной границе действия. То же самое относится к настоящему времени (нулевому), которое указывает на различие по лицам, в противоположность прошедшему, которое не различает формы лица. В синтаксисе давно известна нулевая связка в конструкциях типа «изба деревянная», в противоположность «изба была деревянная», «изба будет деревянная». Кроме того, считает Якобсон, можно говорить и о нулевом порядке слов, при котором «сказуемое стоит после подлежащего и перед прямым дополнением, а эпитет предшествует имени» (с. 227). «Люди умирают» - обобщенное высказывание; в противоположность этому - «Умирают люди» - это указание на определенный контекст или ситуацию.
Более того, в некоторых работах (Баранов, Крейдлин, 1992) встречается понятие «нулевой реплики». При рассмотрении минимальной диалогической единицы исследователи приходят к мнению, что «...отношение иллокутивного вынуждения может связывать друг с другом не только речевые действия, но и речевые с неречевыми» (с.88). Для того чтобы подчеркнуть значимое отсутствие вербальной лексемы, они предлагают ввести нулевую лексему, выражающую согласие или фатический сигнал, что информация принята к сведению.
По мнению В.Б.Касевич (1999) то, что обычно трактуется как нулевой знак, в действительности должно интерпретироваться как «знак с нулевым экспонентом». Появление такого нулевого экспонента, по мнению исследователя, это следствие определенного свойства языковой единицы, а именно, ее стандартной, канонической формы. Из стандартности следует обязательность, а из обязательности - значимость отсутствия. «Только обязательное, будучи не представлено материально, своим отсутствием создает специфический знак с нулевым экспонентом» (с.69).
Применительно к нашей теме можно сказать, что молчание несомненно является знаком, но знаком, представленным нулевой звуковой оболочкой.
Н.Д.Арутюнова (1994), рассматривая молчание, подчеркивает, что оно значимо преимущественно в семиотическом смысле. Молчание - это знак определенного, стоящего за ним содержания, которое слито с молчанием как означаемое с нулевым означающим.
Говоря о молчании как о знаке, о значимом элементе коммуникативного процесса, необходимо разграничить молчание и паузу, с одной стороны, и молчание и тишину, безмолвие, с другой стороны (Крестинский, 1991, Арутюнова, 1994, Бахтин, 1986).
Отличие паузы от молчания в том, что пауза - это кратковременное прерывание речи (в письменной форме обычно обозначаемое многоточием), которое обозначает различного рода заминки в речи одного говорящего, либо мену коммуникативных ролей. Молчание же - более длительное отсутствие вербального компонента общения, причем отсутствие значимое, намеренное. Пауза -знак препинания на уровне речевого потока, общения. Молчание - единица общения.
Отличие молчания от тишины, безмолвия основывается на их принадлежности: первого - миру человека, второго - миру природы.
Молчание - индивидуально, у каждого свое. Тишина - на всех одна. По-нятие безмолвия объединяет черты тишины и молчания, мира человека и мира природы. Тишина ассоциируется с целью, говорит о внимании присутствующих. Молчание ассоциируется с мотивом, свидетельствует об удивлении, растерянности и т.п. (Арутюнова, 1994).
Имеющиеся и появляющиеся в последнее время работы по молчанию свидетельствуют о повышенном интересе и активном исследовании этой темы. Неизученными аспектами проблемы молчания в структуре коммуникации остаются следующие:
Не показано, что молчание является речевым актом.
Не разработана методика определения значения речевого акта молчания.
Не разграничено молчание говорящего и слушателя.
Не уточнены функции речевого акта молчания.
Не исследован аспект восприятия речевого акта молчания носителями языка.
Предметом нашего исследования является коммуникативно значимое молчание как элемент дискурса. Такое молчание, как и любой речевой акт, имеет свою структуру и семантику, в непосредственном диалоге способно выполнить определенную функцию.
Целью нашего исследования является выявление и описание специфики функционирования речевого акта молчания в структуре общения. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: разграничение молчания говорящего и слушателя; уточнение функций речевого акта молчания; выявление отдельных разновидностей реализации каждой функции; выявление характера восприятия речевого акта молчания носителями языка; создание методики определения значения акта молчания по формальным маркерам.
Исследование проводилось на материале классической и современной прозы и драматургии. Было проанализировано более 1200 актов молчания.
Структура и семантика речевого акта молчания
Акт молчания выступает заместителем соответствующего речевого хода в ситуации, когда не реализуется какой-либо речевой акт, а коммуникативное намерение сохраняется. Такой силенциальный акт (термин использует ряд исследователей молчания: С.В.Крестинский, 1990; В.В.Богданов, 1987; С.А.Аристов, 1998 и др.) может иметь почти все характеристики речевого акта, нести самую разнообразную информацию и выражать самые разнообразные психологические состояния человека.
Акт молчания, являясь по форме антиподом вербальному акту, на самом деле обнаруживает с последним много общего. Речевой акт в традиционном понимании (Михальская, 1998) имеет определенную структуру, в которую входит говорящий, произносящий в определенной коммуникативной ситуации некое высказывание, выражающее его интенции (или намерения). Говорящий производит действия 4-х типов: 1) действие собственно произнесения; 2) пропозициональное действие (осуществление референции и предикации); 3) иллокутивное действие - выражение намерения говорящего, которое направлено на адресата - просьбы, обещания, приказа и т.п. (Исследователи отмечают наличие «иллокутивной силы; действие считается осуществленным, если адресат адекватно интерпретировал намерение говорящего в данном РА» (Михальская, 1998: 326); 4) перлокутивное действие - определенное воздействие иллокутивного акта на адресата, тот эффект, который производит иллокутивный акт в конкретной ситуации общения.
Характеризуя по этой схеме акт молчания, можно сказать, что он содержит иллокутивный и перлокутивный акты, то есть молчащий человек имеет некоторые намерения, интенции, которые он сообщает собеседнику и, естественно, молчание определенным образом воздействует на адресата, на его дальнейшее поведение. На это указывает и С.В.Крестинский (1990). Что же касается акта локуции, то, как известно, у разных типов традиционных речевых актов (сообщений, вопросов, просьб, советов и т.п.) семантические структуры различны. Поэтому некоторые исследователи речевых актов (например, Вежбицка, 1985) считают, что присутствие или отсутствие в конкретном высказывании эксплицитного выражения (типа «я сообщаю...», «я прошу...» и т.п.) несущественно с точки зрения его семантической структуры, если при этом можно сказать, что выражение этого типа составляет имплицитную, но интегральную часть высказывания. Специфика же акта молчания и заключается в отсутствии локутивного акта. В связи с чем, применительно к молчанию целесообразно ввести новые термины: «интрасиленциальное содержание» и «постсиленциаль-ный эффект». (Термины предложены С.В.Крестинским: от англ. Silence - молчание.) Кроме того, как и вербальный акт, акт молчания может иметь пресуппо-зицинальное, пропозициональное и импликативное содержание. Нам кажется удачной пятиуровневая структура акта молчания, предложенная СВ. Крестин-ским (1993):
Прагматические функции речевого акта молчания
Акт молчания является полноправным компонентом процесса общения. Как и традиционный речевой акт, будучи включенным в структуру коммуникации, он способен выполнить определенную коммуникативную функцию.
Функции актов молчания поддаются определению, хотя количество функций, выделяемых разными авторами, существенно не совпадает (Богданов, 1987; Крестинский, 1989; Данилов, 1998; Jensen, 1973). Что касается трудностей анализа механизма интерпретации, то можно согласиться с А.А.Кибрик (1991), что «в каждом конкретном случае при фиксированных коммуникативных параметрах (социальные и диалогические роли коммуникантов, жанр и сценарий диалога, структура коммуникативных намерений, предшествующая реплика), молчание не более многозначно, чем любая ненулевая реплика» (с.49).
Понимание молчания осуществляется следующим образом. Интерпретирующий имеет в своем распоряжении:
а) сам факт молчания в контексте ожидания ненулевого речевого дейст вия;
б) знание вышеперечисленных коммуникативных параметров.
На этом основывается эвристическая процедура поиска вероятностной гипотезы. Такого рода процедуры, кстати, характерны и для понимания ненулевых реплик.
Для исследователя интерпретация актов молчания в письменном тексте представляет некоторые трудности, если автор не дает каких-либо комментариев, не указывает причин молчания и его характера, не раскрывает каким-либо образом смысл молчания. В таких случаях имплицированный семантический компонент может быть восстановлен с большей или меньшей вероятностью. Очень часто в таких случаях следующий за прерванным высказыванием текст (одна фраза, комплекс фраз) изменяет ситуацию коренным образом.
Однако при интерпретации смысла нельзя полностью полагаться на вербальное окружение молчания. Иногда оно дублирует значение акта молчания; иногда - напротив, значение молчания прямо противоположно значению слов, его окружающих.
Попытки классификации функций молчания уже предпринимались исследователями. Например, СВ. Крестинский выделял следующие коммуникативные функции молчания:
1. Контактная функция. Она проявляется при условии полной взаимной идентификации коммуникантов; такое молчание является маркером близости людей, их взаимопонимания.
2. Дисконтактная функция. Такое молчание изолирует людей, свидетельствует об их отчужденности, негативном отношении друг к другу, отсутствии общих интересов, в ситуации, когда людям не о чем говорить друг с другом.
3. Эмотивная функция. Молчание может передавать различные эмоциональные состояния человека: страх, удивление, восхищение, радость и др.
4. Информативная функция. Молчание может сигнализировать о согласии и несогласии, одобрении и неодобрении, о желании или нежелании что-либо выполнить, осуществить какое-либо действие.
5. Стратегическая функция. Такой тип молчания выражает нежелание говорить; когда преследуется определенная цель: чтоб не показать свою некомпетентность, нежелание признаться в чем-либо, не выдать кого-либо и т.д.
6. Риторическая функция. Молчание может способствовать тому, чтобы привлечь внимание слушателя, заинтересовать его, придать особую весомость последующему высказыванию.
7. Оценочная функция. Молчание может выражать оценку действиям, словам собеседника, отношение к нему, например, презрение, неодобрение и пр.
8. Акциональная функция. Она проявляется при молчаливом выполнении какого-либо действия: извинения, прощания, примирения и т.д. Такое молчание часто сопровождается параязыковыми средствами общения - жестами и мимикой (Крестинский, 1989: 96-97).
Восприятие молчания в письменном тексте
Важным аспектом исследования речевого акта молчания является изучение механизмов его восприятия носителями языка. Необходимо выявить, как и насколько эффективно и однозначно воспринимается носителями языка то или иное значение речевого акта молчания.
С целью изучения восприятия молчания носителями языка нами был проведен психолингвистический эксперимент. При проведении эксперимента учитывалось также, как понимание молчания зависит от факторов возраста и пола.
Эксперимент проводился следующим образом: реципиентам были предложены письменные тексты, представляющие собой отрывки из художественных произведений, в которых молчание выполняет различные функции, и список возможных значений речевого акта молчания (чтобы не загружать опрашиваемых терминами («аттрактивная», «дисконтактная» и т.п.), давалось описание функций молчания). Испытуемым предлагалось выбрать из предложенного списка значений то, которое, по их мнению, реализуется в данном случае.
Для рассмотрения были предложены два типа отрывков, в которых молчание выполняет одну и ту же функцию: одни представляли собой типичную реализацию функции - с явным маркером функции; другие не содержали явных маркеров и представляли некоторые трудности для определения значения.
В ходе пилотажного эксперимента было опрошено 40 человек: 26 женщин, 14 мужчин; 25 человек - до 30 лет и 15 человек - старше 30 лет.
Были получены следующие результаты (после соответствующего примера приводятся данные в %, обобщающие ответы испытуемых по определению значения акта молчания в данном примере).