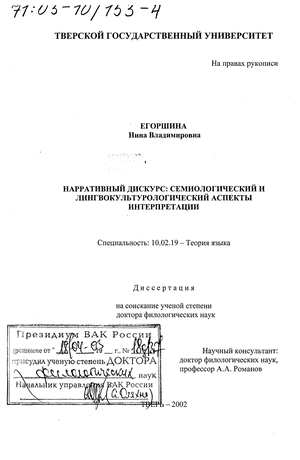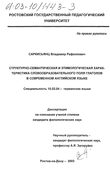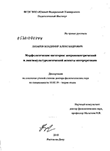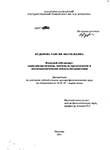Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Общие принципы описания нарративной дискурсии в социокультурологическом контексте 23
1.1. Влияние различных гипотез на разработку проблемы взаимосвязи языка и культуры 23
1.2. Культура как способ и результат человеческой жизнедеятельности 29
1.3. Характерные черты национальной культуры 35
1.4. Природа языка и основные его функции 42
1.5. Национально-культурная специфика языка 48
1.6. Роль культуры в процессе социализации личности 51
1.7. Языковая личность как центральное понятие лингводидактики 54
1.8. Роль культурологического аспекта в обучении иностранным языкам 57
Глава 2. Дискурс в системе актов межкультурной коммуникации . 63
2.1. Дискурс как объект научного исследования 63
2.2. Основные характеристики дискурса 67
2.3. Понятие дискурса в лингвофилософской концепции М.М.Бахтина 70
2.4. Дискурс как диалогическая встреча двух субъектов 75
2.5. Сущность текстовой деятельности 81
2.6. Дискурс как феномен человеческой культуры 88
2.7. Дискурс него прецедентность 97
Глава 3. Нарративный дискурс в парадигме семиозиса: структурносодержательная характеристика . 104
3.1. Сфера действия понятия «нарратив». Родовые категории нарратива и дискурса 104
3.2. Существующие трудности определения границы вокруг смысла понятия «нарратив» 109
3.3. Постоянно встречающиеся заблуждения в нарратологическом анализе 113
3.4. Нарратив как дискурсивная реальность 116
3.5. Нарративные конвенции и человеческая деятельность: проблема эффективности 119
3.6. Некоторые специфические преимущества нарратологического подхода к социальному пониманию 121
Глава 4. Функциональная специфика интерпретативного механизма нарративного дискурса 131
4.1. Основные уровни процесса понимания 131
4.2. Механизмы смыслового понимания нарративного дискурса 140
4.3. Основные закономерности восприятия нарративного дискурса 149
4.4. Внутренняя речь как средство материального закрепления мысли 155
4.5. Управление процессами понимания нарративного дискурса 157
4.6. Подход к пониманию и интерпретации письменного текста как предмета исследования 162
4.7. Письменный текст как социокультурный феномен 171
Глава 5. Ситуативная модель восприятия и интерпретации нарративного дискурса (экспериментальный анализ) 186
5.1. Обоснование выбора объекта исследования 186
5.2. Цель и задачи эксперимента 190
5.3. Ход эксперимента 192
5.4. Методика проведения экспериментального исследования и его результаты 203
5.5. Выводы, полученные в результате эксперимента 239
Заключение 250
Список литературы 265
Приложение 287
- Влияние различных гипотез на разработку проблемы взаимосвязи языка и культуры
- Дискурс как объект научного исследования
- Сфера действия понятия «нарратив». Родовые категории нарратива и дискурса
- Основные уровни процесса понимания
Введение к работе
В языкознании второй половины XX века центральные позиции занимают когнитивная и коммуникативная парадигмы, описывающие базовые отношения между языком и человеком как мыслящим социальным объектом. Широкое понимание когнитивной науки позволяет включать речевую деятельность в интерактивную картину языка, мышления и поведения говорящего субъекта. Мышление и язык как базовые концепты человеческого бытия экстраполируются в коммуникативном процессе. Последнее, наряду со способностью к абстрактному мышлению и использованию моральных категорий как основы существования человеческого общества, и определяет уникальность человеческого поведения - в широком смысле - в мире.
Изменение парадигмы современного - как отечественного, так и зарубежного - языкознания выражается прежде всего в увеличении объема работ антропоцентрического направления, что в свою очередь влечет за собой, с одной стороны, освоение новых научных сфер, а с другой - переосмысление старых теоретических посылок и устоявшихся постулатов относительно «человеческого фактора» (говорящего субъекта, языковой личности или homo loquens) в языке. Увеличение внимания к роли феномена «говорящей /языковой личности» позволяет исследователям осознать не только важность проблем описания языковой структуры, но и значимость задач всестороннего исследования названного феномена, когда языковая личность, непосредственно «человек говорящий» в его способности совершать определенные речевые поступки, выступает в качестве интегрального объекта изучения различных направлений науки о языке, таких как когнитивная лингвистика, социо - и психолингвистика, прагма - и этнолингвистика и т.п.
В научной литературе отмечается, что за прошедшее десятилетие резко возрос интерес к изучению человеческого поведения как в плане организации информационно-коммуникативной деятельности, так и в плане реализации других видов общечеловеческой деятельности, что обусловило появление «новой нарративной парадигмы, нарративного поворота» в научной деятельности, которая обещает, по заключению ряда ученых, «нечто большее, чем создание новой лингвистической, семиотической или культурологической модели» понимания и интерпретации проявления человеческой деятельности в широком смысле этого термина (см.: Брунер, 1988; Britton, 1977; Брокмейер, Харре,2000 и др.).
Практически то, что уже получило в психологии (особенно, в когнитивной психологии - см.: Солсо, 1996, С.32 - 45), философии и других гуманитарных науках название нарративного поворота, должно рассматриваться и в антропологическом языковедении (в лингвистике) как часть более значительных тектонических сдвигов в культурологической архитектуре знания о говорящей личности и ее речевом (коммуникативном) поведении.
Антропологическое языковедение - как показали работы по изучению речевых проявлений (или дискурсии) личности - обнаруживает много «белых» пятен, открывая новые неизведанные области научного пространства, одну из которых составляют проблемы «социального бытия», структурированности и динамичности смысловой реальности нарративной дискурсии как совокупности речевых практик, когда информационный манифестант в виде нарративного дискурса (или просто нарратива) отражает специфику форм речевого и - шире - коммуникативного поведения говорящего субъекта, связанную с отражением (совпадением или несовпадением) его картины (языковой и внеязыковой) мира и картины мира объекта (адресата), воспринимающего информативный манифестант.
Именно исследование специфики форм нарративной дискурсии позволяет выявить природу этнокультурной особенности «ментального вместилища», «ментального пространства» говорящей личности, по Дж. Лакоффу и М. Джонсону (1987, С.129; а также см.: Лакофф, 1995, С.147 -159; Динсмор, 1995, С.386), охватывая как культурные лакуны, знание лингвострановедческих феноменов и различных видов культурной деятельности с учетом специфики массового сознания (термин в понимании Б.А. Грушина (Грушин, 1987)), так и лингвопрагматическую особенность функционирования ее конкретных видов и форм, манифестирующих ту или иную разновидность речевого, коммуникативного и человеческого поведения.
Проблема объяснения, интерпретации и комментирования специфики динамических образцов человеческого поведения на материале такого фиксированного эмпирического лингвистического материала как нарративный дискурс (рассказы, сказки, мифы, сказания, дискуссии за обедом в различных социальных кругах, воспоминания о путешествиях за границу или о болезни, автобиографии, обсуждение научных проблем и т.п.) является предметом большого числа современных исследований, что дает основание ряду ученых говорить о «новом теоретическом подходе», о «новом жанре в философии науки» (см.: Брокмейер, Харе, 2000, С.29; White, 1980 и др.), о нарративной дискурсии как акте высказывания в социально-семиотическом процессе, где под «дискурсией», следуя идеям М. Фуко (Фуко, 1996), понимается совокупность речевых практик, оказывающих влияние на формирование представлений об объекте, который они подразумевают. И тогда нарративный дискурс как реальный результат таких речевых практик выступает как вид знания, как то, что люди говорят о социально-институциональной практике.
Как показывают исследования отечественных и зарубежных ученых, все возрастающий интерес к интерпретационным исследованиям, фокусирующим свое внимание на социальных, дискурсивных и культурных формах человеческого поведения, открывает новый горизонт в изучении дискурсивной включенности повествовательных форм любого порядка (и устных, и написанных манифестантов), которые составляют фундаментальную лингвистическую, психологическую, культурологическую и философскую основу жизнедеятельности говорящего субъекта (Богин, 1982; Богин, 1984; Караулов, 1987; Караулов, 2000; Кубрякова, 2001; Пеше, 1999; Романов, 1992; Wilson, 1990 и др.). И осознание роли указанной основы в жизнедеятельности говорящего субъекта позволяет ему прийти к соглашению с окружающим миром и условиями его существования, что создает возможность для понимания и создания смыслов, которые говорящий субъект находит в своих формах жизни.
Больше того, в той мере, в какой это касается описания и интерпретации человеческой деятельности в ее широком понимании, анализ нарративного дискурса как результата специфической деятельности говорящего субъекта позволяет осмысливать более широкие, более дифференцированные и более сложные контексты человеческого опыта. В сущности, обращение к анализу природы нарративного дискурса (также: нарратив, нарративные образования, нарративные конструкции) позволяет обобщить, расширить и специфизировать широкий спектр вопросов, ответы на которые помогут выработать представления о способах организации человеческой памяти, о целеустановках, намерениях и идеях личности, национально-культурной «самости» или «персональной идентичности».
Смещение определенного акцента в исследовании речи и текста проявляется в переосмыслении того, что речь рассматривается не только как источник данных о языке, но и как индивидуальная реализация системы языка, неразрывно связанная с мыслительной деятельностью, и, тем самым, неотделимая от человека, порождающего и воспринимающего (интерпретирующего) речь.
В настоящее время расширение сферы воздействия средств массовой коммуникации в нашей стране, всё возрастающая информационная сложность социума, развитие общения в разных направлениях, включая межъязыковое общение, выводят на необходимость более глубокого анализа именно нарративного дискурса как средства межкультурной коммуникации. Изучение данной проблемы является перспективным направлением, имеющим большое значение для совершенствования обучения иностранным языкам в высшей школе. Анализ обширной литературы по теории вопроса показывает, что сам феномен нарративного дискурса как средства межкультурной коммуникации еще изучен недостаточно.
Здесь важно отметить, что в дальнейшем изложении при реализации поставленных задач в работе наряду с термином «нарративная дискурсия» для обозначения совокупных речевых практик будет использоваться достаточно известный в лингвистической прагматике термин «дискурс», понимаемый не просто как связный текст (коммуникат), а как «сложное коммуникативное явление, которое включает в себя и социальный контекст, дающий представление как об участниках коммуникации (их характеристики), так и о процессах производства и восприятия» (V.Dijk., Kintsch, 1983; ср. также: Водак, 1997, С.10-12).
В этом смысле нарративный дискурс как целостное образование выступает в виде определенного, т.е. построенного по определенному образцу (схеме, фрейму) комплексного речевого действия. И его надлежит рассматривать как форму социального действия, всегда определяемую конкретными ценностями и социальными нормами, условностями и социальной практикой, всегда ограниченной и находящейся под влиянием конкретных институциональных структур в социуме и реальных исторических (временных) процессов. Включение историческо-социальной перспективы в объем понятия нарративного дискурса позволяет в большей степени отразить динамику социальной природы языкового знака (понимаемого как язык в действии) на любом уровне и рассматривать его в качестве результата социальных процессов, мотивированных единством формы и значения. Такое включение отражает динамическую природу «социального бытия» нарративного дискурса, обусловленную функционированием нарратива в определенном обществе и спецификой прагматического контекста устно-повествовательного (нарративного) речевого жанра: особенностями его создания и воспроизведения, целеустановкой, ориентированностью на адресата, психотипом языковой личности и т.д.
Нарративная дискурсия реализуется как целостное комплексное образование с типовой архитектоникой в виде фреймового образования с вершиной - «Я описываю Р, чтобы тем самым сообщить Тебе/Вам, что имеет место/есть в действительности Q». Данное определение содержит одновременно указание как на направление предпринимаемого анализа, так и, в известной степени, на его методику, поскольку, в отличие от лингвистических работ, посвященных анализу собственно языковых объектов разных уровней (например, от фонемы до текста), предлагаемое исследование посвящено анализу когнитивных процессов - т.е. структуре процессов, происходящих в уме носителя языка, принадлежащего к определенному направлению общественной мысли, при производстве им конкретного коммуникативного манифестанта, а также процессам, обусловливающим его понимание и зависимость восприятия данного коммуниката от избранной формы речевого воздействия. Вполне очевидно, что предлагаемое исследование носит интегративный характер, отражающий взаимодействие и взаимосвязь ряда областей научных исследований - речевое воздействие, лингвориторику, психопрагматику и когнитологию. Данная диссертация находится в русле лингводидактических исследований, осуществляемых в неразрывном единстве методики преподавания иностранного языка с опытом и динамикой развития таких наук, как коммуникативная и когнитивная лингвистика, психолингвистика, этнопсихология, философия языка и других смежных с ними дисциплин.
Не вдаваясь в подробности характеристик указанных направлений, важно, тем не менее, отметить следующее: в отличие от предшествующих работ по риторике, неориторике, герменевтической риторике и теории аргументации (подробнее см.: Абельсон, 1987; Баранов, 1986; Богин, 1982; Богин, 1984; Варзонин 1999; Малиновская, 1974 и др.) в данном исследовании анализируется не столько сам языковой объект - нарративный дискурс в своей структурной ипостаси, сколько процесс его порождения от интенции, ставшей стимулом к созданию типового нарратива, до ее вербализованного воплощения в конкретном нарративном коммуникате любого (письменного или устного) порядка.
Диссертация посвящена проблемам реализации именно лингвострановед-ческого аспекта преподавания иностранного языка. Изучение научно-методической литературы по данной проблематике дает возможность утверждать, что наиболее ослабленным звеном в учебном процессе остается вопрос обучения адекватному декодированию инокультурного текста при чтении. Проблемы, поставленные в данной диссертации, ориентированы на создание целостной концепции обучения восприятию и пониманию нарративного дискурса на основе теоретического исследования общих закономерностей функционирования текста в культуре или культуры в тексте, а также на экспериментальное изучение процессов его восприятия и понимания на практических занятиях. Предложенная нами концепция представляет собой одно из перспективных направлений оптимизации и индивидуализации процесса преподавания иностранного языка. В диссертации даётся характеристика процесса и результатов смыслового восприятия инокультурного текста на понятийном, межпонятийном и более высоком уровнях.
Цель проведенного исследования формулируется следующим образом: в ходе работы над нарративным дискурсом выработать навыки и умения воссоздания национально-специфических образов, выраженных языковыми средствами. Мы ориентируемся на то, чтобы весь процесс изучения иностранного языка построить таким образом, чтобы обучаемые овладевали не одной грамматикой и лексикой как новым кодом знаковых единиц, а одновременно проникали в национальную культуру, национальную психологию народа - носителя изучаемого языка, приобщались к его достижениям во всех областях жизни, постигали вклад нации в общечеловеческую цивилизацию, что даст им возможность ориентироваться в разнообразных, порой даже довольно сложных ситуациях межнационального общения, вобрать в себя опыт человечества, избежать непонимания, добиться взаимопонимания и тем самым расширить и обогатить диапазон общения с носителями языка. Необходимо выработать у обучаемых навыки и умения для комплексного и социально достаточного владения иностранным языком, подготовить их к полноценной межкультурной коммуникации. В наши дни вопрос заключается не в том, вводить или не вводить страноведческие знания, а в том, когда и как, в какой форме, с соблюдением каких пропорций, на каком материале следует обучать, какие приемы использовать при обучении иностранным языкам.
Эта проблема является весьма актуальной. В диссертации мы обращаемся к поиску объективных критериев определения того, насколько адекватно авторскому замыслу тот или иной реципиент понимает нарративный дискурс, как родная культура реципиента, его опыт, национальные традиции влияют на успешность общения на иностранном языке, которое может быть достигнуто лишь тогда, когда у обучаемых будет сформировано умение воспринимать нарративный дискурс с позиций участника и посредника не только межъязыковой, но и межкультурной коммуникации. Адекватное осмысление инокультурного текста или его понимание происходит только тогда, когда у реципиента, являющегося представителем иной социокультурной общности, знания о мире адекватны знаниям отправителя информации. Поэтому обучение пониманию текстовой деятельности с позиций иной лингвосоциокультуры является особенно актуальным, что способствует свободному участию обучаемых в межкультурном общении. Речь идет о формировании умений обучаемых распознавать социально-культурную специфику как плана содержания, так и плана выражения инокультурного текста, который рассматривается не как внеситуативный, а как носитель двух ситуаций - авторской и читательской, как знак определенной культуры, являющийся одновременно и средством межкультурной коммуникации, в процессе которой происходит диалог культур.
Таким образом, интенсивное развитие антропологического направления в языкознании, сосредоточившего внимание не столько на описании языка как системы знаков, сколько на самом человеке говорящем, показывает необходимость теоретических разработок именно в области дискурсивной деятельности человека как социального феномена. Теоретическая неразработанность проблемы и практические потребности современной лингводидактики позволяют говорить об актуальности исследования процесса совершенствования дискурсивной деятельности, чему и посвящена данная диссертация.
Подчеркивая теоретическую неразработанность обсуждаемой проблемы, нельзя, однако, не отметить тот факт, что ее отдельные аспекты - в частности, вопросы речевой и социальной дискурсии, вопросы нарратологии, вопросы структурной организации речевого произведения (текста, коммуниката, дискурса) - широко обсуждались в различных сферах гуманитарной парадигмы научного знания и с различных теоретических позиций.
В этой связи следует, прежде всего, отметить работы английского исследователя Майкла Хэллидея (Halliday, 1970; Halliday, 1971), который еще в 1970 году описал взаимосвязь между грамматической системой и социальными и личностными потребностями, которые реализуются говорящим субъектом при использовании языка. Он разграничил три взаимосвязанных метафункции языка: 1) идеационную функцию, связывающую языковые структуры с опытом (идеационная структура диалектически связана с социальной структурой, отражает ее и оказывает на нее влияние), 2) интерперсональную функцию, определяющую взаимоотношения между участниками общения, и 3) тексто- вую функцию, обеспечивающую смысловую и формальную связность текстов (coherence and cohesion).
Эти идеи были подхвачены исследователями и получили свое дальнейшее развитие. Так, в частности, Т. Хоффманн, разрабатывая социально-семиотическую модель знаковой деятельности, пришел к выводу о том, что «специфика знаковых форм в любой среде соединяется (взаимосвязана) со спецификой социальных организаций и социальной истории» (Hoffmann, 1986; С. 76), в результате чего язык рассматривается как семиотическая система, в которой значение создается непосредственно, а не как языковая система, в которой значение опосредованно связано с языковой формой.
И хотя современные исследования речевой - в том числе и нарративной -дискурсии не мыслятся без анализа личностного фактора, тем не менее, широко используемые термины «языковая личность» (В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Г.И. Богин, Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, A.M. Шахнарович), «языковое сознание» (Л.С.Выготский), «языковая картина мира» (А.Н. Леонтьев, Ю.Д. Апресян) критикуются, оспариваются, но при всем при том исследователи все же привлекают и учитывают знания о психологических особенностях говорящего субъекта, что способствует развитию новых идей и поиску новых решений.
Появившиеся в последние годы работы показывают несомненную плодотворность нарративного (описательного, устно-повествовательного) подхода к анализу психологической и коммуникативной установок говорящей личности (Брокмейер, Харре, 2000; Вежбицкая, 1996; Водак 1997; Романов, Черепанова, 1999; V.Dijk, 1983 и др.), которые создают конкретную ситуацию, непосредственно мотивирующую коммуникативный процесс участников нарративной дискурсии.
Дискурс выступает одним из важнейших способов выражения говорящей личности. Поэтому предметом изучения в настоящей работе стал нарративный дискурс в его стилевых разновидностях, понимаемых как комплекс вербально реализуемых когнитивных процедур обработки знаний, стратегий обработки информации и ее оценок.
Объектом исследования является повестовательно-описательное (нарративное) речевое событие (произведение, рассказ, описание) о личных целеустановках и установках личности говорящего субъекта.
Основная цель исследования - выявление закономерностей становления структуры нарративного дискурса и создание на этой основе многоаспектной модели эволюции коммуникативной компетенции личности после овладения языком. Настоящая работа позволяет дополнить сведения, получаемые будущими референтами-переводчиками из теоретических языковых курсов по вопросам, составляющим лингвострановедческий аспект преподавания иностранного языка. Она также может быть полезна всем тем, кто по роду своей практической деятельности составляет и обрабатывает тексты. Данная диссертация может дополнить и содержание курса общего языкознания сведениями о национально-культурной специфике языка, об основных закономерностях смыслового восприятия и понимания нарративного дискурса.
Цель работы обусловливает постановку и решение следующих задач:
Выявить функционально-семантическую специфику нарратива как типа речевой дискурсии говорящей личности;
Разработать параметры комплексного представления структуры нарративного дискурса в системе категорий семиозиса: синтактико-манифес-тационного уровня, семантического уровня, прагмалингвистического уровня, а также психо- и социолингвистического уровня;
Рассмотреть теоретические разработки, относящиеся к проявлениям индивидуального в речевой дискурсии;
Осуществить комплексный анализ нарративов с целью определения индивидуального речевого стиля (поведения) отправителя, а также эмоционально-смысловой доминанты его дискурса;
Описать стилевую разновидность отправителя с учетом его типовой (экстравертной и интравертной) установки личности по отношению к объекту и предложить систему параметров для типологии языковых личностей в ракурсе их дискурсивных нарративных историй;
Определить закономерности становления функционально-стилевой дифференциации нарративного дискурса в ходе овладения отправителем языковыми навыками;
Выявить особенности формирования жанрового мышления языковой личности;
Провести сопоставительный анализ дискурсных образований говорящих субъектов с целью выявления характера становления текстовой референции (особенностей выражения локально-временной актуализации дискурса и референции имен);
Осуществить на основе экспериментальных данных анализ нарративных образований для определения особенностей становления дискурсной структуры (лингвистических форм реализации когезии и композиционной завершенности).
Материалом исследования послужили фрагменты зафиксированных в художественной литературе нарративов, полученных методом сплошной выборки, и фиксированные нарративы испытуемых, полученные в процессе эксперимента (всего в работе использовались данные речи более чем 280 информантов). Кроме того, использовались наблюдения за нарративной дискурсией билингвов (английский и французский языки), сделанные автором во время стажировки в Канаде.
Сопоставительно-описательный метод служил основным методом исследования. В процессе обработки экспериментального материала использовались также методы нарративного анализа (выделение структурных элементов, предложенных в «бриллиантовой схеме» У. Лабова), метод лексико-семантического анализа нарративного дискурса и метод создания и сравнения прототекстов, разработанных Е.Ф. Тарасовым, Н.В. Уфимцевой, Ю.А. Сорокиным и В.П. Беляниным. Для обработки значительного материала широко применялся метод таксономии, в дополнение к которому применялись количественные методы.
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем предпринято комплексное изучение нарративной дискурсии на основе описания жанровой специфики типа текста, основанного как на внутриструктурных, так и на коммуникативно-прагматических характеристиках входящих в него дискурсных единиц. Более того, системного описания анализа (выявления) регулярной зависимости между разными уровнями нарративного дискурса на базе нарративных категорий темпа повествования и точки зрения и установки говорящей личности в отечественной лингвистической науке не проводилось. Впервые по результатам психолингвистического эксперимента выявлены особенности влияния психологических характеристик отправителя на структуру, семантику и лексику типа нарративного дискурса. Также впервые предлагается типология участников нарративной дискурсии на основе особенностей их речевых стилей. В целом можно говорить о том, что предлагаемое исследование открывает одно из направлений в антропоцентрической лингвистике, исследующее стилевую особенность говорящей (языковой) личности.
Теоретическая значимость предлагаемого исследования определяется обобщением и описанием такого малоизученного в отечественной науке понятия как «нарратив» с учетом его структуры, семантики и механизмов производства. Самостоятельное научное значение имеет выработка номенклатуры и критериев определения психологических особенностей говорящей личности по его речевой продукции. Кроме того, в работе предложена методика позитивного описания жанровой специфики типового дискурса, основанного как на внутриструктурных, так и на коммуникативно-прагматических характеристиках входящих в него единиц. Теоретическую значимость имеют также предложенная автором и использованная в работе методика анализа составляющих личности в аспекте социогенеза, что может использоваться для решения разнообразных исследовательских задач антропоцентрической лингвистики.
Практическая ценность исследования определяется возможностью использования его результатов в лингводидактике: выявленные закономерности речевого поведения типа личности можно использовать для развития коммуникативно-нарративных навыков при обучении родному и иностранному языку, а также для изучения курсов по риторике и теории речевого воздействия. Материалы работы могут также найти применение в курсах по общему языкознанию, лингвистике дискурса, интерпретации и истолковании текста, психо-, социо-, онтолингвистике, стилистике.
Наиболее существенные результаты работы сформулированы в следующих основных положениях, выносимых на защиту:
1 .Основным способом самовыражения языковой личности является дискурсивная деятельность и - шире - дискурсивное поведение. Поэтому анализ строения порождаемых говорящим субъектом речевых произведений (дискурсов) позволяет выявить индивидуальные особенности носителя языка, уровень развития его коммуникативной компетенции. При этом индивидуальный стиль проявляется ярче и отчетливей в формах устной нарративной дискурсии, чем в зафиксированном дискурсе (в его письменном проявлении). С феноменологической точки зрения дискурс представляет собой реализацию определенного типа культуры в контексте парадигмы «социокультурного взаимодействия».
2. Нарративная дискурсия как совокупность атомарных коммуникативных проявлений реализуется в виде целостного комплексного знака (нарративного дискурса, нарратива) с типовой архитектоникой в виде фреймового образования, сформированного на базе семантической конфигурации типа «Я описываю Р, чтобы тем самым сообщить Тебе/Вам, что имеет место/есть в действительности Q».
Изложенная в нарративном дискурсе история (его тематическое пространство) на макроуровне отражает специфику взаимодействий индивидуумов или социальных институтов, а на микроуровне она выступает в качестве маркера дискурсивных изменений, представляющих трансформации смысловых пространств участников нарративной коммуникации.
Историческая (временная) перспектива нарративного дискурса отражает динамическую природу его «социального бытия», обусловленную функционированием нарратива в определенном обществе и спецификой прагматического контекста устно-повествовательного (нарративного) речевого жанра: особенностями его создания и воспроизведения, целеустановкой, ориентированностью на адресата, психотипом языковой личности и т.д.
В процессе становления нарративного дискурса наиболее значимы следующие аспекты: грамматический (синтаксический), прагмалингвисти-ческий, когнитопсихологический и социолингвистический. Последовательное (по аспектное) описание становления структуры нарративного дискурса. способствует анализу глубинных когнитивных механизмов дискурсивного мышления и индивидуальных особенностей социально значимой дискурсивной деятельности говорящей личности.
Нарративная доминанта дискурсивной деятельности индивидуума обусловлена особенностями типа личности и психологической установкой, которая может быть выявлена и установлена при анализе речевого стиля говорящего субъекта.
Стилевая разновидность нарративной дискурсии типа личности характеризуется набором лексических, синтаксических и семантических характеристик и набором коммуникативных стратегий. В рамках типового речевого стиля, например, экстраверсии и интраверсии, выделяются подтипы, которые характеризуются собственным идеостилем, который, в свою очередь, находится в определенной зависимости от других психологических составляющих структуры говорящей личности.
8. Отличия языковых личностей в их дискурсивном поведении обусловлены также многообразием воздействия моделей социогенеза (в широком смысле), включая как ранние коммуникативные впечатления, так и осознанное строительство языковой личности в определенном институционально-культурном пространстве.
Апробация результатов исследования проводилась главным образом в виде докладов на семинарах межвузовской проблемной группы «Алогический анализ языка» при секторе психолингвистики и теории коммуникации ИЯ РАН (г. Москва), на более чем 15 международных симпозиумах, всероссийских, региональных и межвузовских конференциях и совещаниях, включая: 3-й Международный симпозиум «Человек: язык, культура, познание» (Украина -Россия 1999), the 10-th Symposium of the Austrian Association for Semiotics OeGS/AAS «Myths, Rites, Simulacra. Semiotics Viewpoints» (Univ. Of Applied Arts Vienna/Austria); Международные конференции: «Проблемы писхолингвистики и теорий коммуникации» (Украина - Польша - Россия, 2000), «Проблемы имиджелогии» (Украина - Россия - Польша, 2000), «Pragmatika vyjadrovacich prostriedkov umenia» (Nitra, 2000), первая Международная конференция «Кирилло - Мефодьевские чтения» (Луга, 1998); Всероссийские конференции и совещания: «Понимание и рефлексия» (Тверь, 1992, 1993, 1995; 1998), «Форматы непонимания» (Москва, ИЯ РАН, 2000); Региональные: «16-ая научно-методическая конференция: Повышение качества преподавания в вузе в современный период» (Тверь, 1998), «17-ая научно-методическая конференция: Методы активизации учебного процесса и практической подготовки студентов в современных условиях» (Тверь, 2000).
Кроме того, большинство положений исследования были использованы в практической работе студенческого семинара «Интерпретация устного рассказа».
Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Она включает 20 таблиц, список литературы и приложение.
Влияние различных гипотез на разработку проблемы взаимосвязи языка и культуры
Проблема взаимосвязи языка и культуры имеет большое значение для эффективного прогнозирования социокультурных процессов, развития межъязыкового и межкультурного общения. Как известно, язык является универсальным средством общения, в котором выражается познавательный опыт народа, его идеалы, его восприятие и оценка окружающей действительности.
Нельзя понять язык, не имея представления об условиях, в которых живет народность, говорящая на этом языке. Если иметь в виду универсальный характер функционирования языка в жизни общества, то представляется очевидным положение, согласно которому одной из целей, одним из непременных результатов деятельности определенного общества, говорящего на определенном языке, является созидание своей национальной культуры. И всё же, при всей кажущейся очевидности, вопрос этот достаточно сложен. Много споров в научных исследованиях вызывает проблема того, в какой мере язык связан с культурой.
Лингвистика располагает рядом интересных, хотя и в разной степени аргументированных, попыток решения данного вопроса, которые, однако, весьма противоречивы. Так, одни ученые отрицают причинную зависимость между языком и культурой: "...лучше будет, если мы признаем движение языка и движение культуры несопоставимыми, взаимно не связанными процессами" (См. Сепир Э., 1934).
Другие же признают несомненной связь между языком и культурой, историей языка и историей культуры (Schmidt, 1975; Вежбицкая, 1996 и др.). При этом, с одной стороны, они определяют язык как нечто, беспрерывно создаваемое народом, то, что больше всего связано с действительностью, в которой живет народ, с его настоящим. С другой стороны, язык определяют и как то, что связывает народ с его прошлым, и в чем своеобразие национальной культуры и характера или, как говорили романтики, "духа народа".
Таковы крайние суждения, выдвигающие альтернативные решения проблемы. Мы исходим из постулата, что язык является своеобразным "генофондом" национальной культуры, выполняющим в жизни народа этнодифференцирующую и этноинтегрирующую функции, занимая не побочное, второстепенное место, а одно из ведущих мест, выступая в качестве носителя духовной самостоятельности нации. Более того, язык - это основная «духовная территория народа». Не случайно в Древней Руси у слова "язык" было еще и другое значение - "народ". Язык, вернее речь /речевое поведение/, является средством передачи социального опыта индивидом, и в рамках этого опыта социальные нормы поведения, будучи одним из устойчивых фрагментов культуры, представляют собой специфически национальную форму проявления универсальной и "организационной" функции культуры (Маркарян, 1969, С.76-77; Бромлей, 1973, С. 20).
Таким образом, язык отражает в себе самом национальную культуру, закрепляет в некоторой степени достижения познавательной деятельности людей.
Идея взаимосвязи языка и культуры исследовалась еще философами античного мира, которые заложили основы ее изучения, а также сформулировали свое понимание целого ряда вопросов, касающихся роли языка в развитии культуры, взаимосвязи языка и культуры с природой, а таюке с материальной и духовной деятельностью людей.
Уже в античности была ясно сформулирована идея о том, что мир познается человеком через язык и благодаря языку, сущность которого заключается не только в передаче информации от человека к человеку, но и в функции быть носителем и хранителем мысли, опыта в индивидуальном и коллективном сознании человека. Так, Гераклит Эфесский /4-5 в.в. до н.э./, греческий философ-материалист, один из основоположников диалектики, считал язык, в частности слово, "седалищем", вместилищем знания об обществе. Достижения античной философии сопровождались и изучением социальной роли языка, а также познанием культуры как системы правил, регулирующих отношения между людьми в обществе. Линия Гераклита была продолжена Платоном, который признавал язык орудием познания, указывая при этом на тесное взаимодействие языка с внеязыковой действительностью. Обсуждение данного вопроса продолжалось непрерывно вплоть до настоящего времени. В истории развития лингвистической мысли существовали различные школы и направления, оказавшие влияние на разработку проблемы языка как компонента культуры (См.: Локк Д., Декарт Р., Гегель Г., Гельвеций К., Гердер И., Кант И. и др.). Так, например, известный философ Р.Декарт показал роль языка в познании, закреплении духовных ценностей и передаче их последующим поколениям. Он также развил положение о функциональном единстве языка и культуры. Заслугой другого философа И.Гердера явилось дальнейшее исследование проблемы взаимосвязи языка и культуры, ее соотнесение с периодизацией общества и развитием личности. Далее, И.Кант обосновал связь языка с культурой и его детерминированность материальными, естественными, социальными факторами, что позволило глубже познать сущность языка и культуры, их качественное совершенствование, а также роль языка и культуры в антропосоциогенезе человека, их связь с образом жизни, мировосприятием, умственной деятельностью людей и т.д.
Дискурс как объект научного исследования
Теоретическими исследованиями дискурса вообще и нарративного дискурса, в частности, занимается когнитивная психология (См. Gaesser 1981; Van Dijk, Kintsch 1983; Marslen-Wilson, Tyler 1980; Flores d Arcais 1982; Carpenter, Just 1976; Rumelhart 1977). До 70-х годов XX века фундаментальные исследования по данной проблематике практически отсутствовали. Американские лингвисты ограничивались лишь анализом фонологических, морфологических, синтаксических и позже семантических структур изолированных, несвязанных между собой предложений и игнорировали дискурс как самостоятельную единицу речи.
В современных представлениях лингвистов и психолингвистов на дискурс указывается на сложную и многоаспектную природу этого феномена: дискурс понимается ими как основная единица коммуникации, способ отражения определенного фрагмента действительности, форма существования и способ трансляции культуры.
Специфика психолингвистического подхода состоит в рассмотрении дискурса как коммуникативной единицы, как результата речевой деятельности субъекта /коммуниканта и коммуникатора/, как знакового образования, существующего только в процессе его восприятия и производства. Лингвистика текста пытается найти текстообразующие закономерности, присущие всем дискурсам, представить систему грамматических категорий дискурса с содержательными и формальными параметрами.
Сложная и многоаспектная природа дискурса обусловила появление целого ряда направлений и подходов к его изучению, среди которых можно выделить следующие: коммуникативный (Исследования по теории текста, 1979; Москальская, 1978); прагматический (Дридзе, 1976, 1984); структурно-семантический (Структура текста, 1980; Текст: Семантика и структура, 1983; Исследования по структуре текста, 1987 и др.); семиотический (Лотман, 1981; 1985; Структурализм: "за" и "против", 1975); стилистический (Виноградов, 1963); денотатный (Жинкин, 1982; Новиков, 1982).
В ряде работ по изучению особенностей дискурсов испытуемым предлагается осуществить смысловую компрессию дискурсов, пересказать дискурс, ранжировать дискурс по стилистическим особенностям, представить дискурс в виде набора заголовков, аннотаций, вопросных планов. На основании ответов испытуемых делаются выводы относительно смысловой структуры дискурсов и характера их восприятия /безотносительно к тем или иным реципиентам/. Новые концепции меняют традиционно сложившееся представление о дискурсе, вскрывают в нем живую природу речи в ее основной коммуникативной функции, представляют нам каждый дискурс как феномен текстовой коммуникации, характерной для всех сфер человеческой деятельности, в процессе которой дискурсы становятся знаками/символами культуры, самостоятельно функционирующими на диахронном и синхронном уровнях культуры. Дискурс, появившийся в определенную историческую эпоху и находящийся на диахронном уровне, "перемещается" во времени и пространстве культуры и коррелирует всякий раз особым образом с дискурсами, находящимися на ее синхронном уровне.
Однако определение дискурса, которое можно было бы считать исчерпывающим и которое носило бы терминологический характер, еще не выработано, ибо это - "междисциплинарное" явление и здесь важно не то, какой терминологией пользуется разработчик метода, на каких теоретических позициях он находится, а важен сам результат, к которому он приходит.
Следует отметить, что дискурс понимается исследователями очень широко: он есть проявление, отражение, явление культуры: быть дискурсом - значит принадлежать к особому миру, миру социальной коммуникации, в которой осуществляется трансляция опыта человеческой чувственной деятельности. Оперируя с дискурсами по нормам коммуникации, присущим определенной культуре, субъект присваивает этот опыт, внедряет его в собственное сознание. Тем самым он понимает дискурс. Понимать, таким образом, всегда означает с кем-то коммуницировать. С одной стороны, дискурс понимается как одна из форм фиксации речи и является превращенной формой речевого общения, несущей определенную информацию посредством контекстуальных значений языковых знаков (Тарасов, 1975, С.241-253). Однако речевым образованием его можно назвать, лишь имея в виду процесс использования языковых единиц низшего уровня для построения дискурса и передачи его получателю, а также как результат этого процесса. С другой стороны, дискурс принимается за единицу языка, состоящую из нижестоящих языковых единиц и идет в речевой акт в готовом виде, будучи уже оформленным в мозгу человека. На наш взгляд, наиболее удачным можно назвать определение дискурса как "произведения речетворческого процесса, обладающего завершенностью, объективированного в виде письменного документа, литературно обработанного в соответствии с типом документа, состоящего из названия произведения и ряда особых единиц (сверхфразовых единств, объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи), имеющего определенную направленность и прагматическую установку" (Гальперин, 1981, С. 18).
Сфера действия понятия «нарратив». Родовые категории нарратива и дискурса
Так же, как и в случае с понятием дискурса, использование понятия "нарратив" стало довольно быстро весьма широким, несмотря даже на то, что оно появилось в контексте гуманитарных наук сравнительно недавно. Это расширение довольно удивительно, если учесть существование длительной традиции исследования нарратива в теории литературы и лингвистики. Вследствие такого расширения концептуальная и аналитическая сила этого понятия остается неясной. Для начала мы попытаемся определить более четко нашу точку зрения относительно этого понятия. Мы попробуем провести границу, пусть неопределенную, которая бы отдифференцировала нарратив от других дискурсивных образцов.
Мы уже указывали на то, что лингвистическая организация различных типов дискурсов уже была предметом многих исследований, начиная от тех, которые концентрировались на фонологических аспектах и, кончая теми, которые анализировали синтаксические, семантические, прагматические, логические и эстетические аспекты. Использовалось много разных способов вычленения единиц языка: анализировались смыслы слов, выражений, предложений, речевых актов, текстов и разговорных форм дискурса; изучалась логика наименований, предложений, метафор и лексических сетей. Однако ни одна из единиц, неявно предполагавшаяся во всех этих анализах, не смогла обеспечить возможность определить уровень структуры, на котором убеждающая сила дискурса могла бы быть увидена как хорошо обоснованная. Скорее, как показывают многочисленные исследования, само объяснение этих возможностей должно также ссылаться на нарратологические аспекты лингвистических и когнитивных аспектов убеждающего дискурса.
Что делает тот или иной дискурс историей? В качестве необходимых условий должны наличествовать действующие лица и сюжет, который эволюционирует во времени. Большое число разнообразных дискурсов удовлетворяют этим минимальным условиям. Виды нарратива удивительно разнообразны и многоцветны: фольклорные истории, эволюционные объяснения, басни, мифы, сказки, оправдания действий, мемориальные речи, объявления, извинения и т.д. Бесчисленны жанры и формы нарративных текстов. Вместе с тем, все они имеют некоторые общие особенности независимо от того, сообщаются ли они в монологах или диалогах, в литературных или обычных историях, устных или письменных текстах. В своем общепринятом и обобщенном смысле нарратив — это имя некоторого ансамбля лингвистических и психологических структур, передаваемых культурно-исторически, ограниченных уровнем мастерства каждого индивида и смесью его или ее социально-коммуникативных способностей с лингвистическим мастерством. (Д. Брунер называет это протезными приспособлениями (Брунер, 1988).) Не последнюю роль играют здесь также личностные характеристики, как любознательность, страсть и иногда одержимость. Когда сообщается нечто о некотором жизненном событии — затруднительном положении, намерении, когда рассказывается сон или сообщается о болезни или состоянии страха, обычно это принимает форму нарратива. Сообщение оказывается представленным в форме истории, рассказанной в соответствии с определенными соглашениями.
Хотя нарратив может очерчивать сугубо индивидуальные и ситуационно-специфические версии реальности, он используется в общепринятых лингвистических формах, таких как жанры, структуры сюжета, линии повествования, риторические тропы. Таким образом, рассказываемая история, вовлеченные в нее рассказывающие и слушающие, и ситуация, в которой она рассказывается, оказываются связанными с базовой культурно-исторической структурой. Иными словами, наш локальный репертуар нарративных форм переплетается с более широким культурным набором дискурсных порядков, которые определяют, кто какую историю рассказывает, где, когда и кому. Определяют ли эти пан-культуральные формы общечеловеческую форму жизни? Положительный ответ на этот вопрос не кажется неестественным, однако нуждается в более широких компаративистских исследованиях. То, что действительно верно, так это то, что каждая культура, о которой мы знаем, была культурой, рассказывающей истории.
Здесь мы должны уточнить два главных понятия, которыми мы оперируем: "нарратив" и "дискурс". Дискурс является наиболее общей категорией лингвистического производства. Человеческие существа общаются посредством большого числа способов, включая вербальный. Как правило, вербальное общение происходит одновременно и независимо от других материальных и символических способов, и именно в этом смысле мы называем лингвистический продукт (как процесс, так и результат) дискурсом.
Нарратив же мы рассматриваем как подвид дискурса, но как вид наивысшего уровня или классифицирующего понятия в таксономии нарративных форм более низкого уровня. Этим понятием охватываются различные типы нарратива, некоторые из них являются частными случаями наиболее общей литературной категории "жанр". Но существуют и такие дискурсы, которые охватывают большое число различных субкатегорий или жанров одновременно.
Основные уровни процесса понимания
Проблема понимания дискурса за последние годы вошла в число "мировых проблем", исследуемых специалистами из разных областей науки. Научная литература по этой проблеме настолько обширна и разнообразна, что с трудом поддается обозрению даже в рамках отдельных отдельных научных подходов.
Приблизительно в 70-е годы XX века исследования понимания дискурса оформились в независимую область языкознания (Van Dijk 1973; Van Dijk & Petofi 1977; de Beaugrande & Dressier 1981; de Beaugrande 1981). С признанием дискурса (70-е годы XX в.) ученые приходят к выводу, что изучать язык только как абстрактную систему, ограничиваясь лишь грамматическим анализом языка, нельзя. Необходимо эмпирическое изучение процессов функционирования языка с учетом социального контекста. В этот период времени появляются различные научные подходы к изучению этого вопроса (от лингвистического анализа до социологического). Кроме того, во многих лабораториях психологических исследований предпринимаются попытки экспериментального изучения понимания дискурса с помощью компьютера. Однако наибольшую популярность получила модель познания, впервые разработанная Ван Дейком и Кинчем (Т.Van Dijk, W.Kintsch, 1978), суть которой состоит в следующем: в ходе познания в мозгу человека происходит создание определенной системы знаний. Эта система не является неизменной. Она видоизменяется, усовершенствуется, т.е. с помощью слов и предложений в сознании человека выстраивается некая система смыслов или значений. Эта своего рода база данных дискурса состоит из двух источников информации: самого дискурса как системы знаков и фоновых знаний, необходимых для понимания этого дискурса. Для формирования смысла дискурса из системы фоновых знаний, а именно, из отдельных ячеек этой системы, должен быть взят соответствующий фрейм. Тогда определенные пробелы (лакуны) в восприятии восполняются и тем самым обеспечивается понимание дискурса. Как исключение, возможно понимание дискурса людьми с минимальным объемом фоновых знаний в случае, когда в дискурсе дана необходимая интерпретация информации, что обеспечивает общий смысл дискурса. Сущность процесса понимания дискурса заключается не только в том, что реципиент при чтении (восприятии) дискурса воссоздает определенную ситуативную модель, но и в том, что эта модель базируется на определенном фундаменте фоновых знаний о культуре, традициях, опыте участников общения или коммуникантов. Отсюда следует, что процесс понимания во многом зависит не только от фоновых знаний реципиента, но и от его непосредственного опыта, от культурных традиций заложенной в дискурсе информации.
Итак, дискурс является некой системой, состоящей из определенных связей. Для того, чтобы сформулировать то, как идет процесс восприятия субъектом определенной информации, необходимы сведения о том, каким объёмом фоновых знаний располагает реципиент, что даст возможность прогнозировать процесс понимания дискурса данным субъектом. Следовательно, коммуниканты в ситуации общения не только передают собственно текстовую информацию, но также и свой опыт, своё мнение, своё отношение к этим событиям, к этим людям. Таким образом, процесс расшифровки скрытых кодовых смыслов дискурса идет от поиска смысла слов к смыслу предложения, установления смысловой связи между их определенными значениями и, наконец, воссоздания смысла макроструктуры, коей является дискурс. И конечно, результатом этих субъективно контролируемых процессов является зарождение некоего вторичного дискурса в кратковременной памяти субъекта.
Данная модель помогает глубже понять сущность протекания процесса понимания дискурса.
Во время восприятия, например, художественного произведения слушающий или читающий сосредотачивает свое внимание на отдельной части передаваемой информации, и лишь малая часть информации остается в активной или рабочей памяти. Дискурс вмещает в себя часто как эксплицитно выраженную, так и имплицитно выраженную информацию. Причем, следует учесть, что автор текста излагает информацию с определенных позиций, акцентируя внимание на той информации, которая наиболее важна. Разработка моделей познания дискурса является фундаментом для разработки в будущем модели восприятия и понимания инокультурного текста. В ней тщательным образом описана технология порождения дискурса с учетом различных аспектов проблемы понимания дискурса и его эксплицитных структур.
Однако слабым моментом данной модели является то, что анализ процесса понимания дискурса идет на когнитивном уровне, а чисто лингвистический аспект дискурса игнорируется. Но несмотря на указанные недостатки, теория Кинча и Ван Дейка сыграла значительную роль в развитии исследований по проблемам понимания дискурса.