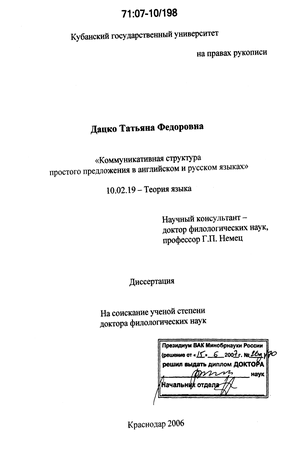Содержание к диссертации
Введение
Глава I Методологаческий корпус конституирующих категорий
1. Формально-грамматическая структура: интенсионал проблематики 21
2. Обусловленность категорий грамматики и логики -позиционный ракурс лингвистических учений 47
3. Структурная семантика грамматических категорий -теоретический контекст современной англистики 68
Глава II Концептуальная полярность грамматики текста 96
1. Контрастивный план коммуникативной организации высказывания 96
2. Концептуальная организация синтаксиса речи: модус высказывания 119
3. Актуальный синтаксис - коммуникативная перспектива интерпретации 136
Глава III Коммуникативная интерпретация текста: репрезентация предикемы высказывания 156
1. Синтаксический потенциал 157
2. Лексико-синтаксические параллели 220
3. Лексические маркеры 266
Заключение 292
Приложения
Библиографический список 314
- Формально-грамматическая структура: интенсионал проблематики
- Обусловленность категорий грамматики и логики -позиционный ракурс лингвистических учений
- Контрастивный план коммуникативной организации высказывания
- Синтаксический потенциал
Введение к работе
Положение о том, что грамматика является результатом длительной абстрагирующей работы человеческого мышления, никогда не подвергалось сомнению, а это, естественно, ставит вопрос о том, каким образом в структуре и функции грамматической категории находит отражение основной закон человеческого познания - его диалектика.
Если правомерно говорить о «языковой природе специфического человеческого мышления» (А.Леонтьев), о «речевом мышлении» (С.Кацнельсон), то в равной, а, может быть, и в еще большей мере следует говорить о неизбежном и глубоком проникновении законов познания в ткань языка и его грамматическую структуру.
Язык не просто отражение действительности в сознании человека, это, прежде всего важнейшее средство общения людей. Отсюда все его сущностные характеристики: это язык человека и, следовательно, он органически связан с мышлением; это средство общения между людьми и, следовательно, это общественное явление, предполагающее говорящего и слушающего - он двусторонен; будучи существом общения, язык по своей природе не статичен, а динамичен; единственной формой существования языка является речь, речевая деятельность, а деятельность всегда функциональна, это всегда процесс.
Однако уже из утверждения, что язык есть система речи, логически следует, что в системе обязательно должна прослеживаться связь языка с человеком, его мышлением. Это представляется бесспорным, т.к. любое иное допущение неизбежно предполагало бы принципиальное различие в природе языка от речи, полный отрыв языка от речи, в то время как ясно, что у лингвистики один (хотя и двойственного характера) объект изучения. "Language is the best window into man's mind" («язык - лучшее окно в мышление человека»), - утверждал Моррис Галле.
Средства языка определяются их назначением: функция определяет структуру, следовательно, к лингвистическому анализу следует подходить с
функциональной точки зрения; язык есть система средств выражения, служащая какой-то цели - важнейший принцип отечественного языкознания... «Мы всегда говорим зачем-нибудь, с какой-нибудь целью (А.Пешковский). Как известно, позже этот тезис являлся основополагающим Пражского лингвистического кружка (1929). Будучи продуктом человеческой деятельности, язык имеет целевую направленность, отсюда -функциональный подход: язык есть система средств выражения, служащая какой-то цели, ни одно явление в языке не может быть принято без учета системы, к которой этот язык принадлежит. Только функциональный анализ позволяет более полно раскрыть структуру и семантику, функционирование уже известных грамматических категорий, а также обосновать существование и новых, до сего времени не описанных категорий, в том числе категорий синтаксиса и категорий текста.
В современной науке и языкознании в частности широко используется метод моделирования как абстрактного представления системы; модели являются средствами интерпретации содержания теоретического знания, а, следовательно, и его развития. Мы исходим из следующих определений системы, структуры и модели. Система - это целостное образование, объект, состоящий из элементов, находящихся во взаимных отношениях [Солнцев: 1971, 11]. Всякая система обладает структурой. Структура - это внутреннее построение системы, сеть отношений между элементами системы. Модель -это система некоторых объектов, структура или поведение которой соответственно воспроизводит структуру или функцию другой системы объектов (оригинала модели). Модель используется как средство изучения состояния и динамики оригинала, она никогда не претендует на полное описание оригинала, т.к. имеет обобщенный характер, что дает возможность различной интерпретации одной и той же модели. Поскольку модель обладает эвристической силой, она является источником новых идей; практическая ценность любой модели измеряется ее результатами: метод моделирования - опосредование теории и практики.
Потенциал, как теоретических, так и практических возможностей, заложенный в сопоставлении и противопоставлении (фокус контраста) языков, и послужил причиной выбора темы исследования.
Необходимость разработки и отбора концептуального аппарата описания и проверки его соответствия языку наряду с затрагиваемыми явлениями касалась семантических категорий (с установлением тождества или различия) и, прежде всего, области приложения теории актуального членения. В исследовании аргументируется необходимость разграничения, по крайней мере, трех явлений: информативной структуры («данное»/«новое», «новое»/«новое»...); коммуникативной перспективы; коммуникативной членимости/нечленимости. Уточняются также понятия состояния, результата и ряд других. Рассматривается проблема выделения синтаксических моделей - структурных схем. Таким образом, параллельно собственно сопоставительному аспекту исследования, разрабатываются и уточняются используемые метапонятия.
Этапу непосредственного сопоставления в большинстве случаев предшествовало независимое исследование изучаемых явлений в каждом из сравниваемых языков, что и нашло свое отражение в структуре построения работы.
Если для всех языков универсальным средством выражения является интонация (Смирницкий), то постольку же во всех языках существует и действует закон единства коммуникативной перспективы и структуры предложения. При этом следует иметь в виду, что перемещение предикативного ударения по структуре предложения не создает всякий раз новое предложение (как считалось общепринятым с 50-х гг.), а создает новое высказывание в словесной оболочке одного и того же формально-грамматического предложения. Вследствие этого в рамках одного предложения обнаруживается одна потенциально-синтаксическая единица, но несколько коммуникативно/актуально-синтаксических величин -высказываний (в прямой зависимости от количества членов/матриц
5 предложения плюс высказывание, подаваемое как новая информация логически нераселененным предложением). И, потенциально, на логико-коммуникативном уровне мы имеем дело фактически не с предложением, как с обычным синтаксическим понятием, а с высказыванием как понятием и единицей коммуникативного синтаксиса. Именно высказывание непосредственно соотносится на этом уровне с суждением. Отсюда возможно говорить, что на основе действия единства КПП и интонации и благодаря изменению того или другого изменяется всякий раз высказывание, выражаемое предложением.
Следовательно, логические категории субъекта и предиката (S и Р) соотносятся с членами высказывания, а не с членами предложения. Отсюда представляется обоснованным рассматривать термин Аристотеля «протасис» как обозначающий высказывание, а не суждение, не предложение и не посылку силлогизма (в ранних переводах) [Фохт, 1952; Соболевский, 1958; Ланге, 1994], а его определение речи относить лишь к конкретной инстанции коммуникации.
Требование детальной разработки концептуального аппарата, естественно включающее в себя условие однозначности понимания вводимых метатерминов, не противоречит проводимой в работе мысли о существовании семантических категорий, в основе которых лежат недостаточно четкие, «размытые» концепты. Существование таких категорий, однако, заставляет рассматривать условия однозначности толкования не как абсолютное, а как относительное и говорить о степени однозначности. При этом существенно, что степень неопределенности языкового концепта не бесконечна, и, таким образом, должны быть установлены границы его допустимых интерпретаций.
Проведенное исследование определенно, на наш взгляд, подтверждает мысль лингвистов, указывающих на важность выбора при сопоставлении достаточно больших семантических группировок языковых единиц. С одной стороны, это позволяет раскрыть типы сходств и различий, а с другой -
установить обуславливающие их факторы. Следует еще подчеркнуть, что в качестве объекта сопоставления принципиально важно брать группу в целом, а не только объединяющий ее семантический признак. Если интегральные семантические признаки исследуются в отрыве от дифференцирующих компонентов, на этом фоне резко повышается вероятность неверного их выделения.
В настоящее время существует недостаточно полностью удовлетворительных семантических описаний микро- или макро-систем отдельных языков. Вследствие этого при сопоставлении лингвист обычно сталкивается с недостаточно полно и/или точно описанными языковыми данными. Отсюда вытекает еще одно методологическое требование, которое, вероятно, актуально в рамках проводимых лингвистических исследований. Это требование - соединять этап сопоставления с самостоятельным исследованием каждого из выбранных языков, что мы и пытались экземплифицировать нашей работой.
Из указанных трех исходных для нас разделов синтаксиса (традиционного, коммуникативного и структурного) в первые два раздела включаются также языковые единицы больше предложения - синтаксическое (сверхфразовое) единство и текст. Предложение можно рассматривать в таком случае в качестве минимальной языковой единицы текста (наряду со словом, поскольку предложение может состоять из одного слова) и, в то же время, в качестве основного выразителя высказывания, т.к. коммуникация письменная и устная осуществляется только на основе текстов и речевых отрезков (ряда высказываний).
Поскольку предложение является исходной и языковой формой выражения мысли, его построение и смысл требуют обращения к логическому анализу, к логике как науке, изучающей законы построения мысли. Именно в коммуникативном синтаксисе непосредственно прослеживается взаимосвязь и соотношение мышления, языка и речи и их единиц. При этом предложение подвергается не просто синтаксическому
7 разбору по членам предложения, а членению по смыслу, на элементы по важности подачи информации. Такое членение получило название актуального [Матезиус: 1967, 239], т.е. действительного, первичного, смыслового.
В современной трактовке текста, как максимальной единицы языка, на первый план выдвигаются вопросы именно коммуникативной значимости, задачи условий «правильной», удачной коммуникации, обеспечивающей однозначное толкование единиц текста [Николаева: 1978, 18], [Хэллидэй: 1978, 138]. Все это предопределяет необходимость описания, изучения и практического овладения грамматическими средствами актуального членения предложения современного английского языка.
Формально-грамматическое членение предложения (синтаксический разбор) имеет большое значение для изучения структуры, но нельзя отрицать того, что для точного и однозначного выражения мысли еще большее значение приобретает актуальное членение, непременно предполагающее логическое (предикативное) выделение того или иного члена предложения как нового в высказывании, предиката суждения. Отсюда и возникает проблема соотношения логических членов суждения (элементов мысли) с грамматическими членами предложения (элементами языка) и с членами высказывания (элементами речи).
Актуальность исследования определяется вариативностью способов выражения мысли, которые с развитием человеческого сознания и общества совершенствуются, иногда одни понятия и средства выражения заменяются другими в силу исторических сдвигов, приобретают новые качества, отражая переход от конкретного первобытного мышления к абстрактному, предполагающему наличие строгой логической последовательности и точности выражения. В связи с этим И.И. Мещанинов указывал, что «меняющиеся условия трудовой жизни общества должны были отразиться и на средствах общения» [Мещанинов: 1967, 7]
В индоевропейских языках, в частности в германских, и из славянских, особенно в русском, формально-грамматические показатели субъектно-предикатных отношений постепенно превратились в показатели интонационные, вырабатывая или не вырабатывая при этом явно выражаемые словесные или иные неявные формы их выражения.
На протяжении истории английского языка способы выражения смыслового предиката (по терминологии Б.А. Ильиша) подвергались изменениям в связи с развитием науки о языке, в ходе которого открываются новые аспекты в изучаемом объекте и формируются новые предметы исследования, отсюда закономерно появление новых явлений в языке, новых разделов в грамматике, таких как коммуникативный синтаксис.
Предметом исследования является системная теория коммуникативного синтаксиса современного английского языка, опирающаяся на идею принципиально возможного разнообразия высказываний в рамках одного и того же формально-грамматического предложения и его членимости соответственно, на идею обусловленности этого членения контекстом и конситуацией, идею особого логико-грамматического уровня в семантике предложения и наличие в нем информативных, т.е. коммуникативных центров высказывания.
Объектом исследования выступают простые повествовательные предложения из произведений английской и американской художественной литературы XIX - XX вв. Лишь в отдельных случаях в сравнительных целях для анализа привлекались предложения из произведений других функциональных стилей (общественно-политические и научно-технические тексты). Выбор объекта и предмета научной работы обусловлен стремлением изучить и описать реальные связи в предложении, что, в свою очередь, означает выявление, изучение и описание способов актуального (т.е. действительного, смыслового, а не формально-грамматического) членения предложения, его членение на новом нетрадиционном уровне.
Цель исследования - дальнейшее развитие теории об актуальном членении предложения, как нового направления в языкознании, о соотношении предложения с высказыванием и суждением, о структурно-семантическом анализе предложения, как основной и исходной языковой единицы, на трех уровнях: синтаксическом, логико-грамматическом и логико-коммуникативном. На первом из них делается синтаксический разбор по членам предложения, на втором уровне определяется выражение субъекта и предиката суждения, на третьем - членов высказывания, терминов смыслового (актуального) членения.
На основании этих исходных положений ставилась задача выявить и описать по возможности все наличествующие в современном английском языке формально-грамматические средства и способы предикативного выделения членов простого повествовательного предложения. Сложные предложения, в которых наличествует ряд способов актуального членения одновременно, оказываются менее подходящими для формализации и моделирования актуального членения.
Задача исследования в более широком лингвистическом плане состояла в том, чтобы показать на конкретном языковом материале, как это считал необходимым сделать В. Матезиус, «соотношение формального и актуального членения предложения» (с. 254), в данном случае на материале современного английского языка. При этом в качестве исходной основы использовалась модель членов предложения, при помощи которой в рамках нашего исследования достигалась определенная последовательность, система изложения и описания выявленных способов выделения членов предложения в качестве коммуникативных центров высказывания.
Другой основной целью было изложение точки зрения и концепции автора относительно соотношения логических, грамматических (номинативных) и коммуникативных категорий, о соотношении понятий мышления, языка и речи и разработка понятий коммуникативного
10 синтаксиса, принципов и модели актуального членения простого повествовательного предложения современного английского языка.
В связи с этим в данной работе по-новому обосновывается тезис о соотношении понятий и единиц мышления, языка и речи. Если основные исходные понятия языка и речи не являются взаимоисключающими, то равным образом их основные единицы - предложение и высказывание - не являются также взаимоисключающими. Они беспрепятственно переходят (при анализе, проводимом исследователем) одно в другое, с одного уровня (синтаксического) на другой (логико-коммуникативный) и наоборот. Это означает, что синтаксическая единица языка - предложение - может рассматриваться как неинтонационная величина (при синтаксическом разборе по членам предложения) и как интонационная - при разборе по членам высказывания, т.е. при актуальном членении. А высказывание (по диалектическому закону о переходе одних явлений в другие) всегда превращается из чисто интонационной речевой величины в статико-синтаксический языковой знак, т.е. в предложение как синтаксическую единицу. Поэтому возможно говорить о членении этого синтаксического знака, т.е. предложения на логико-коммуникативном уровне как интонационной величины, т.е. высказывания, не впадая при этом в противоречие или непоследовательность. Всякое минимальное высказывание есть предложение (или непредложенческая структура). Следовательно, предложение - это языковой знак высказывания, а высказывание -реализатор предложения в речи. И только высказывание непосредственно соотносится с суждением.
Состояние научной разработанности темы. Впервые вопрос об актуальном членении предложения в общем плане и, в частности, в применении к английскому языку, был поставлен пражской лингвистической школой (В. Матезиус, Я. Фирбас, Ф. Данеш, И.Вахек). Однако в синхронном плане данная проблема на материале английского языка еще мало разработана. В трудах ряда англистов находим лишь постановку вопроса, но
специального исследования всей проблемы в целом в их работах не предпринималось. Г. Суит, О. Есперсен, Г. Поутсма и др. отметили, что грамматическое подлежащие и сказуемое в ряде случаев не соответствует членам суждения. Этот вопрос зачастую рассматривался ими попутно с порядком слов, интонацией, при определении слова, предложения, подлежащего и сказуемого. Вместе с тем толкование соотношения предложения и суждения, выраженного каким-либо данным предложением, имело непоследовательный и противоречивый характер.
Концепция о тождестве суждения и предложения не раз подвергалась всесторонней критике в истории общего и русского языкознания (Г. Габеленц, Ф. Вегенер, В.В. Виноградов, П.С. Попов).
Вопрос о соотношении грамматических и логических категорий, суждения и предложения в отечественном языкознании поставлен и признан актуальным в ряде работ (В. Виноградовым, И.И. Мещаниновым, А.И. Смирницким, Р.А. Будаговым, Б.А. Ильишом, И.П. Распоповым, Т.П. Ломтевым). В связи с этой проблемой предметом дальнейшего и пристального рассмотрения в публикациях являлось соотношение предложения и высказывания, интонации и высказывания, характеристика и организация высказывания, проблемы функционального и коммуникативного синтаксиса, его системного описания на материале английского (Пумпянский А.Л., Шевякова В.Е., Чахоян Л.П., Торсуева Ч.Г., Демьянков В.З., Слюсарева Н.А., Николаева Т.М.), русского и других языков(Кацнельсон С.Д., Золотова Г.А, Падучева Е.В., Колшанский Г.В., Арутюнова Н.Д., Аракин В.Д., Москальская О.И.). В частности, Л.П. Чахоян и Н.А. Слюсарева отмечают, что проблема выделения темы и ремы до сих не получила формализованного представления [Чахоян: 1979, 12] и что анализ простого повествовательного предложения с позиций актуального синтаксиса не исчерпан до конца [Слюсарева: 1981,138].
Значимым событием явился «Краткий курс грамматики английского языка» 3. Кверка и С. Гриинбаума, где впервые в английской грамматике
12 введена в учебных целях глава о смысловом выделении членов предложения (Глава 14 - Focus, Theme and Emphasis). Авторы данной грамматики приходят к весьма оригинальному выводу о том, что по мере конкретизации вопросов сужается объем новизны в сообщении. Однако трактовка некоторых положений вызывает возражения. Так, например, представляется неправомерным утверждение о том, что тема высказывания является наиболее важной частью предложения с точки зрения последовательной подачи информации [Quirk R., Greenbaum S.: 1973, 411]. Обстоятельство места в начальной позиции предложения, интонационно выделяющееся, квалифицировано, поэтому как тема высказывания: Adverbial theme -обстоятельственная тема. In London I was born. In London Г11 die (p. 413). - В Лондоне я родился и в Лондоне я умру. Здесь обстоятельства места являются выразителями коммуникативных центров высказываний, а не их темами.
Из содержания указанной главы становится очевидным, насколько еще нет ясности во многих логико-грамматических вопросах, насколько не разработана теория коммуникативного синтаксиса современного английского языка.
Научная новизна диссертационной работы и полученных результатов проявляется в генерализации закономерности, ранее представлявшихся разрозненно и обусловлена недостаточной изученностью предмета на фоне узкой направленности и противоречивости рассмотрения семантических концептов и аспектов всей проблематики в целом с позиций формализации и логико-коммуникативной аспектуальности.
Концепция о соотношении актуального и формально-грамматического членения предложения выдвигалась В. Матезиусом в качестве одной из основных задач в разработке теории коммуникативного синтаксиса. Актуальное членение предложения выступает, по его мнению, более отчетливо в разговорном языке, нежели в обработанной письменной речи. Однако за основу исследования возможно брать письменный язык, так как материал из художественных произведений служит «надежным источником
13 для изучения основных словесно-грамматических форм, свойственных разговорной речи [Шведова: 1960, 25; Сиротинина: 1974, 144; 1983, 80]. В связи с этой особенностью письменной речи представляется также правомерным исходить при актуальном членении отобранных предложений из различения в структуре английского и русского предложений традиционно выделяемых членов: подлежащего, сказуемого, дополнения, обстоятельства и определения, и соотносить их с членами высказывания и суждения. Но на современном этапе развития синтаксической теории нет еще ясности в определении самих концептов предложения и высказывания. Нередко под определение высказывания подводится понятие предложения, хотя последнее является лишь грамматической единицей, формально-грамматической оболочкой, состоящей из слов (или одного слова) и служащей для оформления завершенного высказывания. Предложение как единица языка принадлежит синтаксическому уровню и подвергается синтаксическому разбору по членам предложения без помощи интонации, ибо она не указывает, где подлежащее, сказуемое или второстепенные члены. Однако в конкретной речевой ситуации возникает предложение, основанное на реальных связях (Матезиус) и выступающее как единица речи, т.е. высказывание, подвергающееся членению только по интонационному принципу, при помощи базисного распределения степеней коммуникативного динамизма (Фирбас).
Изучение и описание реальных связей в предложении означает не что иное, как выявление, изучение и описание способов актуального (т.е. действительного, смыслового, а не формально-грамматического) членения предложения, его членение на новом нетрадиционном уровне.
Выявление способов выражения логического субъекта и предиката в языке непосредственно связано с актуальным членением предложения, в конечном счете - с проблемой соотношения суждения и предложения, ибо там, где нет актуального членения, там нет и суждения [Панфилов: 1963,36].
Формально-грамматическое членение предложения (синтаксический разбор) имеет очевидное значение для изучения структуры, но нельзя отрицать того, что для точного и однозначного выражения мысли еще большее значение приобретает актуальное членение, которое непременно предполагает логическое (предикативное) выделение того или иного члена предложения как нового в высказывании, предиката суждения. Отсюда и возникает проблема соотношения логических членов суждения (элементов мысли) с грамматическими членами предложения (элементами языка) и с членами высказывания (элементами речи).
Основой методологического ориентира выступает философское учение о единстве языка и мышления. Методами исследования явились структурно-семантический и описательно-экспериментальный, с учетом приемов лингвистических наблюдений в течение многолетнего опыта преподавания практического и теоретического курсов современного английского языка, а также метод перевода (ссылки на издательские переводы), статистический (частотность употребления предложений определенного типа).
Термин «высказывание» (англ. utterance) употребляется во всей работе и как понятие в аристотелевском определении протасиса (как единицы речи, утверждающей или отрицающей что-либо о чем-либо) и как интонационно-смысловая единица речи вместо термина «фраза» (в понимании и терминологии СИ. Карцевского, Л.В. Щербы), чтобы избежать многозначности термина «фраза» (в словарях лингвистических терминов и англо-русских словарях даются четыре значения, одно из которых - «то же, что простое предложение», «то же, что сложное предложение»), а в английском языке слово phrase имеет еще значение «словосочетание».
Методологическую и теоретическую базу исследования составили труды известных отечественных и зарубежных ученых: Мещанинов И.И. «Соотношение логических и грамматических категорий» (М., 1967), Ильиш Б.А. «Развитие способов выражения смыслового предиката в английском
15 языке» (М. - Л., 1961), Ярцева В.В. «Исторический синтаксис английского языка» (М. - Л., 1961); лингвистические исследования Гака В.Г., Слюсаревой Н.А., Шевяковой В.Е., Александровой О.В., Золотовой Г.А., Багрецова В.Н., Николаевой Т.М., Шведовой Н.Ю.; теоретические разработки в области грамматического строя английской и русской речи Блоха М.Я., Солнцева В.М., Шаляпиной З.М., Шутовой Е.И., Быковой Е.М., Леонтьева А.А., Виноградова В.В., Немца Г.П.; коммуникативного синтаксиса Матезиуса В., Фирбаса Т., Габеленца Г., Вегенера Ф., Панфилова В.З., Виноградова В.В., Пумпянского А.А., Чахояна Л.П. «Синтаксис диалогической речи современного английского языка» (М., 1979), Торсуевой И.Г., «Интонация и смысл высказывания» (М., 1979), Демьянова В.В., «Формализация и интерпретация в семантике и синтаксисе (по материалам американской и английской лингвистики)» (М., 1979), Кацнельсона С.Д., «Типология языка и речевое мышление» (Л., 1972), Падучевой Е.В., «О семантике синтаксиса» (М., 1974), Линг Дж. и Свартвик Я., «Коммуникативная грамматика английского языка» (Лондон, 1975) и др.
В качестве материала для исследования послужили произведения современной английской и американской художественной литературы XIX -XX веков и отчасти XVII - XVIII веков. Английский язык художественных произведений XIX, а также XVIII и XVII веков, тоже относится к современному английскому языку, так как за последние 200 лет английский язык, хотя и представляет собой (как и любой язык) изменяющуюся и движущуюся систему, не претерпел таких изменений, которые вызывали бы необходимость перевода произведений этих веков на английский язык XXI века.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Предпринятое автором системное описание способов предикативного выделения всех членов предложения имеет, по нашему мнению, не только теоретическую направленность, но и чисто практическую, причем в значительной мере. Данное исследование фактически представляет собой
расширенный спецкурс по теоретической грамматике современного английского языка, апробированный в нашей практике преподавания в более сокращенном объеме на английском языке в течение ряда лет.
В частности, без овладения способами предикативного выделения членов предложения на материале чужого языка не может быть и речи об обучении интонационно-правильному и выразительному чтению, устной речи и полноценной передаче истинных предикативных отношений при переводе с одного языка на другой, особенно с родного на иностранный.
В нашей работе осуществлен первый опыт соотнесения понятий и единиц мышления, языка и речи в виде двух схем (Переходная система логико-лингвистических элементов и Схема соотношения логики и грамматики и единиц мышления, языка и речи), приведена таблица частотности предикативного выделения главных и второстепенных членов предложения, впервые составлен перечень формально-грамматических средств и способов актуального членения простого повествовательного предложения, наличествующих в современном английском языке, дана их сводная схема и классификация.
Однако, главные стратегии нашего исследования были направлены на то, чтобы показать на конкретном материале современного английского языка, наряду с выявлением и описанием способов предикативного выделения всех членов предложения, «соотношение формального и актуального членения предложения», по выражению В. Матезиуса, а в связи с этим показать соотношение логических, номинативных и коммуникативных категорий - единиц мышления, языка и речи - суждения, предложения и высказывания, обосновать их переходность друг в друга и формализовать актуальное (смысловое) членение предложения на отдельно выделяемом логико-коммуникативном уровне.
В представленном исследовании дана своего рода последовательная система смыслового (актуального) членения простого повествовательного английского предложения с выделением пяти членов высказывания
17 (элементов логико-коммуникативного уровня) в соотношении с пятью членами предложения (номинанты синтаксического уровня).
Эта система может быть принята в качестве спецкурса по изучению объемной и важной для теории языка и практически насущной проблемы соотношения грамматики и логики и в учебных курсах теоретической грамматики современных германо-романских и славянских языков, может быть использована в лекциях и на семинарах по общему языкознанию, а также в подготовке устных и письменных переводчиков на лингвистических факультетах.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Основные единицы языка и речи - предложение и
высказывание (как и другие единицы языка и речи) - не являются взаимоисключающими. Они беспрепятственно переходят одно в другое, с одного уровня (синтаксического) на другой (логико-коммуникативный) и наоборот. Это означает, что синтаксическая единица языка - предложение - может рассматриваться как не интонационная величина (при синтаксическом разборе по членам предложения) и как интонационное - при разборе по членам высказывания, т.е. при актуальном членении. А высказывание (по диалектическому закону о переходе одних явлений в другие) всегда превращается из чисто интонационной речевой величины в статико-синтаксический языковой знак - в предложение как синтаксическую единицу. Поэтому возможно говорить о членении этого синтаксического знака - предложения - на логико-коммуникативном уровне как интонационной величины - высказывания, не впадая при этом в противоречие или непоследовательность. Наличие некоторого или явного противоречия является непременным условием для диалектических переходов.
18 Термины синтаксиса речи - тема и предикема высказывания как единица членения предложения на логико-коммуникативном уровне полностью соответствуют логическим категориям субъекта и предиката, в то время как традиционные синтаксические категории - подлежащее, сказуемое, дополнение, определение и обстоятельства -показывают фрагментарное соотношение как с субъектом, так и с предикатом суждение, т.е. этими членами предложения может быть выражен субъект или предикат в зависимости от цели высказывания, обусловливающей применение тех или иных грамматических средств предикативного выделения членов предложения.
КПП наиболее точно отражает сущность языка речи, соответствует диалектическому принципу отражения действительности и позволяет сформулировать закон единства КПП, интонации и структуры. Этот закон определяется как единство интонации, семантической значимости, структурно и грамматически правильного линейного расположения НС высказхывания.
Критериями членения предложения на логико-коммуникативном уровне выступают семантический (от содержания к выражению) и синтаксический (от формально-грамматических показателей к содержанию) при помощи ретроспективной, интроспективной и проспективной связей, т.е. логико-грамматических связей с предыдущим предложением, внутри самого предложения и с последующим предложением соответственно.
Основным принципом актуального членения предложения является принцип базисного распределения степеней коммуникативного динамизма (КД), по которому единицы
19 синтаксиса речи - исходный пункт, тема, переходный элемент, предикема и ситуативный элемент - имеют разные степени КД. При этом, безусловно, принимается во внимание лексическая значимость и последовательность всех составляющих элементов высказывания, определяющих семантических и интонационный вес НС высказывания и обозначающих его коммуникативный центр - предикему высказывания. Новая информация, содержащаяся в любом высказывании, или соотносится со словесно выраженной темой высказывания как исходной информацией, или подается без темы высказывания как простая констатация. В этом случае высказывание неделимо на фраземы и предстает как констатирующая предикема. На синтаксическом уровне - это двусоставное предложение на логико-коммукативном - трехчленное высказывание с нулевой темой и нулевым переходным элементом, на логико-грамматическом - трехчленная структура суждения, где языковыми средствами выражен только предикат, а субъект и связка представлены нулевыми вариантами.
Все выявленные способы (33) выражения предикемы в структуре простого повествовательного английского предложения возможно классифицировать по сходным признакам и разделить их на три группы. Преобладающую роль в выражении предикемы обнаруживают синтаксические и лексико-синтаксические способы (14 и 12 соответственно), в то время как лексических способов оказывается всего 7. Простые повествовательные предложения в современном английском языке нередко выступают в речи как выразители одного (цельного) элемента новизны в высказывании, когда оба главных члена предложения, подлежащее и сказуемое
20
вместе со второстепенными членами, если они имеются,
выражают одно новое сообщение, нерасчлененное или
логически неделимое высказывание. Монопредикатные
предложения, как указывает на это само их наименование,
являются бестемными, т.е. с нулевым выражением темы
высказывания.
9. В английском языке существуют для организации предложения
действительно разные синтаксические построения, но не разные принципы их логико-грамматической организации (подлежащно-сказуемостный и тема-предикемный). Принцип один - логико-грамматический, только проявляется он в разных синтаксических структурах по-разному: в двусоставном предложении по линии непосредственного соотношения субъекта и предиката теме и предикеме в большинстве случаев, а в абсолютной конструкции - предикату и предикеме однозначно.
Формально-грамматическая структура: интенсионал проблематики
Всякая речемыслительная деятельность человека осуществляется при помощи определенных единиц мышления, языка и речи, которые и составляют логические, номинативные (или языковые) и коммуникативные (речевые) категории соответственно.
Понятия и единицы мышления, языка и речи взаимосвязаны и в них, как в природе вообще, все обусловлено переходами. Но в то же время, каждое из этих понятий (и явлений, которые обозначаются этими понятиями) имеет относительную самостоятельность. В связи с этим В. 3. Панфилов отмечает, что «поскольку в объективном мире существует различие того, что переходит, от того, во что оно перешло, постольку взаимозависимость в объективном мире не стирает различия между отдельными предметами и явлениями, и, поскольку в сфере мысли не должны смешиваться понятия на том основании, что все они взаимообусловлены, взаимозависимы и переходят одно в другое [Панфилов: 1971,89].
Переход одного явления, вещи, одного понятия в другое находит свое выражение в сфере мышления в том, что различным моментам этого перехода соответствуют разные понятия. Этот переход можно показать на относительных и в то же время абсолютных географических понятиях «север, юг, восток, запад», а также на других физических понятиях. Например, в предложении «Я еду в дом отдыха на север, точнее говоря, в город Луга на горе Ленинградской области» оказывается, что я еду одновременно на север и на юг (имеется в виду, что я еду из города Калуги). Такой двоякий смысл проистекает из соотносительности понятий «север» и «юг», обусловленной точками отсчета на местности, которыми здесь являются город Калуга и Ленинградская область. Следовательно, без относительной точки отсчета в пространстве или местности нельзя сказать, где кончается запад и где начинается восток. В зависимости от точки отсчета понятие «запад» неизбежно переходит в свою противоположность — «восток». Например, город Нью-Йорк находится на западном побережье Атлантического океана, но в то же время на восточном побережье США. Однако на географических картах и сетках параллелей и меридианов понятия частей света определены границами как абсолютными величинами.
Подобным же образом обстоит дело с понятиями языка и речи (и с явлениями, которые обозначаются этими понятиями), которые можно рассматривать в теории грамматики, в частности, в теории коммуникативного синтаксиса как в абсолютном, так и в относительном, а также в соотносительном плане.
В зависимости от «грамматической, коммуникативной или логической» точки отсчета, т. е. от уровня анализа, одна и та же формально-грамматическая структура может рассматриваться одновременно как предложение, высказывание и суждение. Однако в теории грамматики эти единицы языка, речи и мышления определяются как абсолютные величины.
Поскольку коммуникация осуществляется в основном не предложениями, а текстами (в качестве речевых отрезков), то текст является основной и максимальной номинативной единицей языка [Москальская: 1981, 12]. Текст — это первичный, однословный или многословный переменный языковой знак отрезка речи, выражающего одно, несколько или множество мыслей (суждений, умозаключений). Можно дать и несколько другое определение. Текст — это буквенно-знаковая ткань из одного слова или ряда последовательно членимых и логически не членимых предложений, обеспечивающих однозначную ( «правильную») линейную коммуникацию (автор — читатель). А речевой отрезок (регема) определяется нами как интонационная единица одного или множества высказываний.
Другой номинативной единицей языка после текста является логико-синтаксическое единство. Оно структурно объединяет одной общей, выражаемой им мыслью, два и более предложений. А в речи оно соотносится с абзацем, выражающим ряды суждений. В письменной речи абзац (немецк. absatz—уступ, отступление, красная строка и остановка, пауза) обозначается отрезками текста от одной красной строки до другой, а в устной речи выделяется длительными паузами (остановками в речи) и соответствующими перепадами в интонации. Поэтому вполне приемлемо относить абзац и к единицам речи устной, а не только к письменной, как это делалось прежде по традиции. И ничего неправильного в новом определении абзаца, как единицы речи, фактически нет.
Закон коммуникативной преемственности предложений в тексте выявил и текстообразующую роль коммуникативной перспективы предложения и логико-синтаксического единства (как микротекстов) и самого текста (как макротекста, макродиалога автора с читателем).
В связи с этим следует отметить, что именно теория актуального членения предложения оказалась продуктивной для развития лингвистики текста, на основе которой возник ряд идей (идея разнообразного членения предложения по смыслу, информационной роли порядка слов, коммуникативных центров высказывания и др.), в том числе идея о моделях членения текста, в частности идея Ф. Данеша о тематической прогрессии, согласно которой темы высказываний скрепляют текст, а ремы передают новую информацию [Николаева: 1978, 22]. Отсюда следует понятие о коммуникативной цельности текста, основанной на преемственности его составляющих элементов. Суть этого явления заключается в том, что каждое последующее предложение в логико-синтаксическом единстве или тексте опирается на предшествующее, продвигая выражаемое им высказывание от данного к новому, вследствие чего образуется тема — рематическая цепочка, имеющая конечный характер и определяющая границы логико-синтаксического единства и текста в целом.
Обусловленность категорий грамматики и логики -позиционный ракурс лингвистических учений
В античной грамматике теория предложения и теория суждения переплетались, а иногда прямо смешивались. Это смешение выражалось в самом термине propositio, который употреблялся то для обозначения предложения, то для обозначения суждения или посылки силлогизма (исходного положения для умозаключения). Заимствованный из латинского французским и английским он (в форме proposition — основное положение, предпосылка) продолжал сохранять те же значения и в этих языках, а, например, в русском долгое время служил для обозначения как суждения, так и формы его словесного выражения. Этимологически латинское proposition восходит к греческому протасис [Aristotelis: 1831, 24], которым пользовался Аристотель при определении высказывания.
Смешение логических и грамматических категорий в структуре суждения и предложения было присуще и грамматистам александрийской школы, которые первыми дали «классическое» определение предложения как «соединения слов, выражающих законченную мысль». Это определение удерживалось в течение весьма длительного времени, особенно в школьной грамматике, языковым знаком высказывания, грамматической формой или средством для словесного выражения мысли или суждения.
Средние века в Европе характеризуются застоем в языкознании, как и в других науках, поэтому они ничего не прибавили к разрешению проблемы соотношения грамматических и логических категорий.
После эпохи возрождения, которая знаменует переход от средневековья к новому времени, в центре внимания ученых-филологов остается латинский язык, к которому, однако, теперь присоединяется также греческий. В период с XIV по XVII вв. в ряде стран Европы, в том числе и в России, была возрождена через латинских грамматистов античная грамматическая теория, достигшая высшей точки своего развития у А. П. Дискола (II в. н.э.).
В зависимости от того, рассматривался ли язык, в частности, предложения, с чисто логической, биологической, психологической или формально-морфологической точки зрения в период с XVIII до XX в. в истории общего (индоевропейского) и русского языкознания последовательно выделялись четыре основных лингвистических направления: логическое, натуралистическое, психологическое или логико-психологическое и младограмматическое.
Логическое направление получило развитие как на западе, так и в России. На протяжении XVII и XVIII вв. проблемами языка занимались на антиисторической основе [Энгельс: 1953, 303] такие философы, как Декарт, Лейбниц, Кондорсэ и другие, которые тщетно трудились над созданием универсальной, единой для всех языков грамматики по схеме латинской.
В первой четверти XIX в. в разных странах Европы почти одновременно появляется ряд работ посвященных проблеме сравнения языков в лексико-грамматическом и историческом аспекте (Ф. Шлегель, Р. Раек, Ф. Бопп, В. Гумбольдт). Много работ вышло на протяжении века по германской филологии. Однако в первой фундаментальной грамматике немецкого языка Я. Грима (1837) логические категории не затрагивались.
Первые опыты построения логической грамматики на Западе были сделаны представителями так называемого психологического направления в языкознании. Однако представители этого направления Г. Штейнталь, В. Вундт и логист К. Беккер не придерживались единого мнения по вопросу о соотношении грамматических и логических категорий в языке.
В. Вундт в работе «Язык» отличал буквально следующее: «То, что суждение состоит из субъекта и предиката, есть результат анализа, сделанного еще Аристотелем. В таком виде оно непоколебимо вошло в новую логику. Субъект есть предмет высказывания (der Gegenstand der aussage), в основе его лежащий, а предикат — содержание высказывания (der inhalt der aussage)» [Wundt: 1911,266].
Натуралистическое направление в языкознании, представленное в основном А. Шлейхером, характеризуется биологическими воззрениями на язык как на естественный организм, подчиняющийся тем же закономерностям функционирования и развития, что и прочие создания природы. Теория синтаксиса не была предметом изучения Шлейхера. В русском языкознании натуралистическая концепция языка не нашла последователей, несмотря на знаменитую теорию «родословного древа» происхождения языков и басню, написанную им на реконструированном им же индоевропейском праязыке.
Вторая половина XIX в. знаменательная появлением нового направления в языкознании, известного под названием лингвистической школы младограмматиков. Оно возникло в Германии в 70-х годах (А. Лескин, Г. Остгоф, К. Бругман, Б. Дельбрюк, Г. Пауль, Г. Габеленц, Ф. Вегенер). Они впервые ввели в грамматику понятия психологического субъекта и психологического предиката.
И только на основе рассмотрения лингвистических трудов нового направления, последовавшего за психологизмом в языкознании, мы подходим к вопросу о том, кто и когда положил начало различию грамматического подлежащего и сказуемого от логического субъекта и предиката.
Как отмечает В. Матезиус, мысль о том, что порядок слов, собственно говоря, передает последовательность мыслей, впервые была высказана французским филологом А. Вейлем в его работе о сравнении порядка слов в древних (латинском и греческом) и новых языках.
Контрастивный план коммуникативной организации высказывания
В настоящее время, вероятно, значительная часть исследователей разделяет мысль о том, что синтаксис строится не только из свода правил, но и из набора единиц, структурных схем, моделей, имеющих свой план выражения и свое значение. В работах Н.Ю.Шведовой понятие структурной схемы предложения трактуется следующим образом: «Структурная схема-это абстрактный синтаксический образец, по которому может быть построено отдельное минимальное относительно законченное предложение. Структурные схемы разграничиваются по совокупностям следующих признаков: формальное устройство схемы; семантика схемы; парадигматические свойства построенных по этой схеме предложений; система регулярных реализаций; правила «распространения». Семантика структурной схемы предложения рассматривается как результат взаимодействия следующих факторов: 1) грамматического значения компонентов в их отношении друг к другу; 2) специфическими для данной схемы лексико-семантическими характеристиками слов, в конкретных предложениях занимающих позиции ее компонентов.
Наряду с приведенным толкованием в РГ дается и несколько иная трактовка структурной схемы, в соответствии которой в ее значение, кроме грамматических характеристик компонентов, входят только правила заполнения лексическими элементами позиций. При этом вводится и еще одно понятие - семантической структуры предложения. Под этим понятием понимается «значение, представляющее собой отношение семантических компонентов, формируемых взаимным действием грамматических и лексических членов предложения». Это значение рассматривается как языковое, а не речевое и приписывается не отдельному индивидуальному предложению, а целому классу предложений. Иными словами, здесь утверждается, что есть особый "слой" синтаксического значения, который характеризует структурную схему предложения при ее заполнении различными классами слов. Так, схема "NjVj," (где Nj — имя в именительном падеже, a Vb — спрягаемый глагол), которой приписывается следующее общее значение — "отношение между субъектом и его предикативным признаком — действием или процессуальным состоянием", выступает в том или ином варианте своего значения в зависимости от лексических заполнителей: Ученик пишет — "отношение между субъектом и его конкретным действием"; Ребенок радуется — "отношение между субъектом и его эмоциональным состоянием". Различные уровни в семантической структуре разграничивают и другие лингвисты.
Задача выделения структурных схем (моделей) не является, по существу, принципиально новой — она непосредственно связана со старой проблемой классификации типов предложения. Эта преемственность проявляется и в сохранении старых споров, связанных, например, с вопросом о том, строить ли классификацию и выделять ли структурные схемы, прежде всего, опираясь на формальные критерии, или, напротив, семантические. Далее, старый спор о роли предиката в семантической структуре предложения сохранил свою значимость при решении вопроса о том, следует ли структурные типы выделять преимущественно в зависимости от типа предиката. Вместе с тем современная постановка проблемы связана с изменениями угла зрения, что в значительной степени меняет, и сам переход и заставляет вводить более жесткие критерии. Так, возникает необходимость найти критерии, позволяющие решить, представляют ли собой те или иные наблюдаемые высказывания реализацию одной и той же структурной схемы или, напротив, разных схем. Далее, новая постановка проблемы требует и ответа на вопрос, как именно "записаны" в памяти структурные модели.
В настоящее время, как нам представляется, делаются лишь первые шаги в разработке критериев выделения структурных схем. Относительно полное, хотя и не окончательное решение получает вопрос о различии между распространителем структурной схемы и ее обязательными компонентами. В качестве критерия обычно указывают на то, сохраняет ли предложение коммуникативную осмысленность при опущении того или иного члена предложения. Точнее, здесь, как представляется, следовало бы говорить о том, сохраняют ли остальные члены предложения исходные семантические отношения друг с другом, и сохраняется ли общее содержание информации за вычетом вклада, вносимого опускаемым членом предложения. Так, информацию предложения. На столе книга нельзя вывести из предложения Книга (например: Книга. Какую огромную роль играет она в жизни человека) плюс локатив. Вследствие этого локативный член принадлежит к структурной схеме предложения На столе книга. Однако если опущение того или иного актанта делает предложение неотмеченным, это еще не обязательно означает, что данный актант относится к структурной схеме. Так, если не считать, что сказуемое обязательно определяет тип структурной схемы, то многие запреты на опущение второстепенных членов предложения могут быть объяснены лексическим типом предиката, а не самой структурной схемой. Еще более сложно найти критерии сведения высказываний к одной структурной схеме, если речь идет не о расширении, а о разных заполнениях одной и той же позиции. Часто принимаемое решение либо чисто интуитивно, либо строится только на формальных критериях, хотя в теории утверждается необходимость учитывать и семантические. Так, к структурной схеме" Nj—N2 или Adv" (где N — имя в именительном падеже, а N2 — имя в косвенном падеже, схема характеризуется отсутствием координации между компонентами) относятся, например, следующие высказывания: Отец на работе; Скатерть — необычайной белизны; Сабля — покойного отца; Он — за начальника; Девочка — с косичками; Деревья — в дуплах, шрамах (Мохов); Песня — о тебе; Мой младший брат меня сильнее (Шкловский); У нее слезы — рекой; У него фигура — медведя. Вероятно, объединение этих столь разных, в семантическом отношении предложений определяется только отсутствием координационной связи, что, однако, необязательно является существенным признаком модели. Авторы, правда, выделяют и некоторое общее значение структурной схемы: "Отношение между субъектом и его предикативным признаком — состоянием, свойством или качеством". Такое широкое определение значения вряд ли раскрывает специфику данной модели. Тем более, что очень близкие толкования даются и многим другим структурным схемам.
Синтаксический потенциал
Интонация Интонация (предикативное или синтагматическое ударение, зачастую не обозначенное в письменной речи каким-либо способом) выступают в качестве универсального средства выражения предикемы. Ее универсальная функция в предикативном выделении как главных, так и второстепенных членов предложения. Например, Mrs. Sanders then appeared, Leading in Master Bardell (Ch. Dickens). Группа подлежащего предикативно выделяется здесь при помощи фразового ударения, по ритму и смыслу предложения. А отнесенный к концу предложения и обособленный причастный оборот выражает второй элемент новизны. Следовательно, P-See-P. В двух переводах на русский элементы новизны следуют друг за другом: а) Затем появилась м-с Сандерс, ведя под руку юного Бардля (Пер. И. Введенского, 1905—1909); б) Затем появилась м-с Сендерс, ведшая мастера Бардля (Пер. А. В. Кривцовой и Е. Ланна, 1933 г.). Что касается порядка слов при выделении подлежащего интонацией как единственным способом, то следует отметить, что передняя позиция подлежащего имеет значение еще в том отношении, что оно в передней позиции произносится более высоким тоном, чем в конечной позиции (Васильев, 1962). Это же наблюдается в констатирующих предложениях, А Low murmur went through the assembly (W. Scott. Ivanhoe.) — а) Глухой ропот пробежал по собранию (Пер. В. Владимировна, 1896); б) По всему собранию прошел тихий ропот (Пер. Е. Г. Бекетовой, 1936). И в русском предложении подлежащее «ропот», как ударное слово в передней позиции, произносится более высоким тоном по сравнению с этим же подлежащим в конечной позиции во втором варианте перевода, который имеет более плавный ритм. Выражение предикемы сказуемым при помощи интонации нередко обусловлено контекстом. Why? But she did not need to ask herself why. She knew now (Th. Dreiser. The Titan). В переводе сказуемое тоже выделено предикативно, а обстоятельство времени опущено: Она знала — почему (Пер. В. Курелла и Т. Озерской, 1952). В структуре предложения с однородными членами (сказуемого) роль контекста нейтрализуется, т. к. в большей степени проявляют себя интроспективные связи, как это видно в следующем примере с двумя группами сказуемых. The Grand Master then raised his voice, and addressed the assembly (W. Scott. Ivanhoe). — а) Великий магистр возвысил голос и обратился к собранию (Пер. В. Д. Владимирова, 1889); б) Затем генерал возвысил голос и обратился к собранию (Пер. Е. Г. Бекетовой, 1936). Эти два перевода представляют интерес еще в том отношении, что словосочетание Grand Master в разные эпохи переводилось по-разному. Поэтому кроме нашей цели (перевод как метод доказательства), «сопоставительное изучение различных переводов имеет, следовательно, значение для истории литературы и истории мысли, истории идей» В тех предложениях, в которых подлежащее (или его группа) ничем предикативно не выделено и выражает тему высказывания, предикема бывает выражена в большинстве случаев сказуемым (или его группой). При этом единственным способом выражения предикемы является сама глагольность и интонация (предикативное ударение). Частотность таких предложений самая большая. Она составила в наших подсчетах 45,7 %. Далее обычно и в большинстве случаев образует один интонационный центр высказывания со сказуемым, особенно сложное дополнение. Однако нередко КПП требует предикативного выделения прямого дополнения отдельно от сказуемого. В структуре простого повествовательного предложения для этой цели применяется ряд грамматических средств, первым из которых является также интонационное универсальное средство. Например, Really - really - she had everything (К. Mansfield. Selected Stories). В структуре данного предложения наибольшая степень КД несомненно приходится на прямое дополнение everything, на ударном слоге которого и происходит изменение основного тона. В переводе выделено также прямое дополнение, но при помощи наречия и проспективной связи с последующим предложении, а именно: В самом деле, в самом деле, у нее есть абсолютно все. Она молода (Пер. П. Охрименко). Анализ примеров этого типа показывает, что прямое дополнение (или его группа) предикативно выделяется интонацией как единственным способом в тех случаях, когда оно выражено именем собственным, местоимением и числительным, существительным при нулевом артикле. Например, John saw Mary (Джон видел / увидел Марию); Man possesses memory (Человек обладает памятью): Being determines consciousness (Бытие определяет сознание). Отграничение прямого дополнения от сказуемого при этом происходит только благодаря краткой интонационной паузе между ними. В таких случаях проявляют сопутствующую роль противопоставление, уточняющее члены предложения, ретроспективная и проспективная связи, в том числе в предложениях при наличии неопределенного и определенного артикля перед прямым дополнением. Например, She had an adorable baby (К. Mansfield). T - Те - P. В переводе: У нее чудесный ребенок (Пер. П. Охрименко): Т = П. He had the third place in navigation and pulled stroke in the first cutter (J. Conrad). — По навигации он занимал третье место и был гребцом на первом катере (Пер. А. В. Кривцовой). Еще более отчетливо ощущается интонационное отграничение от сказуемого предложного дополнения как при нулевом артикле, так и при наличии неопределенного и определенного артикля. Например: а) при нулевом артикле: Tom decided that he could be independent of Becky Thatcher now. Glory was sufficient. He would live for glory (M. Twain). — ... Достаточно ему одной славы. Он будет жить для славы (Пер. Н. Л. Дарузес); в) при наличии неопределенного артикля: And now you leave me with an ampty bed (A. Maltz. The Jorney of Simon McKever). — И теперь ты оставляешь меня с пустой кроватью; с) при наличии определенного артикля: The choice had fallen upon the right man (J. Conrad). T - Те - P. В переводе имеем те же элементы высказывания: Выбор пал на достойного (Пер. А. В. Кривцовой). Т - Пэ - П. Статистические подсчеты показали, что употребление неопределенного или определенного артикля или отсутствие артикля при предложных дополнениях, предикативно выделяемых интонацией как единственным способом, наблюдается примерно равномерно. Предикативное выделение предложного дополнения интонацией как единственным способом происходит в конечной позиции предложения, непосредственно после глагола-сказуемого, которое становится в силу меньшей степени КД выразителем переходного элемента высказывания.