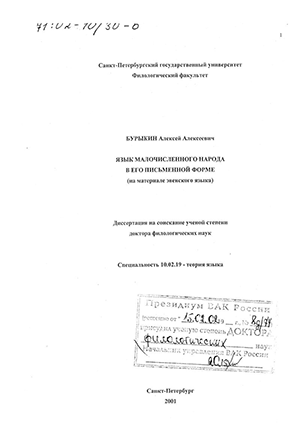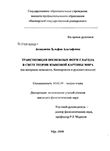Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Язык, этнос, социум и письменность. Проблемы функционирования письменной формы языков малочисленных народов Севера в условиях двуязычия 17
1.1. Письменная форма языка и ее специфика по отношению к устной форме языка 17
1.2. Письменная форма языка и социально-комуникативная система 23
1.3. Активное, полуактивное и пассивное пользование письменной формой языка 23
1.4. Основные понятия функционального описания письменной формы языка .26
1.5. Функциональная классификация письменных текстов 30
1.6. Инвариантная максимальная функциональная модель письменного языка и ее разновидности 34
1.7. Способы и виды создания документов или типы операций с письменным текстом 38
1.8. Профессиональные типы пользования языком и разновидности пользования письменной формой языка 44
1.9. Основные виды функционирования письменной формы языков малочисленных народов Севера РФ 53
1.10. Письменная форма языка и культурные стереотипы коммуникации 54
1.11. Письменная форма языка и языковая политика 56
1.12. Специфические особенности функционирования письменной формы языков малочисленных народов Севера 63
1.13. Основные признаки языковой ситуации, способствующие ограничению пользования языками малочисленных народов Севера в устной и письменной форме 65
1.14. Заключительные замечания 69
Глава II. Эвенский язык и его функциональные разновидности в устной и письменной формах 72
2.1. 0. Вводные замечания 72
2.1.1. Классификация диалектов и говоров эвенского языка 73
2.2. Функционально-стилистическая дифференциация эвенского языка 75
2.2.1. Особенности отдельных функциональных форм эвенского языка. Разговорная речь 77
2.2.2. Язык повествовательного фольклора 80
2.2.3. Язык песенных текстов 86
2.2.4. Язык малых, или афористических жанров эвенского фольклора 89
2.2.4.1. Загадки 89
2.2.4.2. Пословицы и поговорки 96
2.2.4.3. Запреты-обереги 98
2.2.4.4. Приметы 101
2.2.5. Язык обрядового фольклора 101
2.2.5.1. Язык заклинаний, обращенных к стихиям природы 101
2.2.5.2. Язык шаманских заклинаний 102
2.2.6. Общая характеристика функциональных разновидностей эвенского языка в устной форме .106
2.3. Процессы становления жанровых разновидностей эвенского письменного языка 108
2.3.1. Особенности стихотворного языка 108
2.3.2. Особенности языка художественной оригинальной прозы 117
2.4. Национальные печатные средства массовой информации как функциональная форма эвенского языка 126
2.5. Основные функциональные разновидности эвенского языка в устной и письменной формах 138
2.6. Соотношение морфологического состава эвенского письменного языка и ольского говора восточного наречия 139
Глава III. STRONG Функциональный статус письменной формы языка и проблема литературного языка
применительно к языкам малочисленных народов Севера STRONG 141
3.1. Общие замечания 141
3.1.1. Диалектная основа эвенского письменного языка и ранние письменные тексты 143
3.1.2. Письменная форма и проблема литературного эвенского языка 145
3.1.3. Функциональная характеристика литературного эвенского языка 156
3.1.4. Региональные варианты письменной формы эвенского языка и письменная форма диалектов 161
3.1.5. Современное состояние письменного эвенского языка в разных регионах проживания эвенов 166
3.1.6. К характеристике региональных письменных форм эвенского языка 168
3.1.6.1. Письменная форма языка эвенов Якутии: диалект или второй литературный язык? 168
3.1.6.2. Письменная форма языка эвенов Камчатки: второй литературный язык в стадии становления 174
3.2.1. Становление письменного эвенского языка и язык первого эвенского Букваря 1932 г 179
3.2.2. Некоторые типичные отступления от норм письменного эвенского языка 186
3.3. Заключительные замечания 188
Глава IV. Письменность малочисленных народов Севера и проблемы общей теории письма 191
4. 0. Вступительные замечания 191
4.1. О некоторых основных понятиях теории письма 194
4.2. Из истории изучения фонетики эвенского языка 215
4.3. Система фонем эвенского языка 224
4.4. Из истории эвенской письменности 234
4.4.1. Общие замечания 234
4.4.2. История письменности у эвенов в ХГХ-первой четверти XX века 234
4.4.3. Единый Северный Алфавит и письменность эвенов в 1931-39 гг 236
4.4.4. Эвенская графика на кириллической основе в 1937-1958 гг 240
4.4.5. Эвенская графика после 1958 г 244
4.4.6. Попытки реформы эвенской графики в 1970-е-80-е годы 247
4.4.7. Образцы разных графических систем эвенского языка 251
4.4.8. Региональные варианты эвенской графики 252
4.5. Алфавит и графика эвенского языка 255
4.5.1. Алфавит эвенского языка 255
4.5.2. Графика эвенского языка 258
4.5.3. Характеристика способов обозначения фонем эвенского языка на письме 267
4.5.4. Правила чтения букв эвенского языка 276
4.5.5. Общая характеристика норм графики эвенского языка 285
4.6. Орфография эвенского языка 288
4.6.1. Общие замечания 288
4.6.2. Основной принцип эвенской орфографии 290
4.6.3. Применение других орфографических принципов в эвенской орфографии 293
4.6.4. Проблемы кодификации письменной формы эвенского языка 296
4.6.5. Проблемы реформирования эвенской графики и орфографии 298
4.7. Общие проблемы реформирования графики и орфографии в социолингвистическом аспекте 303
4.8. Заключительные замечания 311
Послесловие 314
1. Соотношение письменной и устной форм эвенского языка в современном состоянии и исторической перспективе 314
2. Проблемы изучения письменной формы языка по материалам других языков малочисленных народов Севера 316
Библиография 322
Список источников 322
Список использованной литературы 325
- Инвариантная максимальная функциональная модель письменного языка и ее разновидности
- Особенности отдельных функциональных форм эвенского языка. Разговорная речь
- Региональные варианты письменной формы эвенского языка и письменная форма диалектов
- Образцы разных графических систем эвенского языка
Инвариантная максимальная функциональная модель письменного языка и ее разновидности
Как уже отмечено выше, максимальная функциональная модель письменного языка включает все 6 перечисленных типов текстов. Однако помимо исчисления типов текстов в максимальной функциональной модели письменного языка оказывается значимым противопоставление по крайней мере двух форм авторства текстов — индивидуального авторства и различных коллективных форм авторства (коллективное, кооперативное, коллективно-кооперативное авторство).
Данное противопоставление двух форм авторства согласуется с разграничением документов собственно письменной формы языка (индивидуальные авторские рукописи разных типов текстов) и документов печатной формы языка, представляющих повторные воспроизведения документов (издания книг, переиздания литературных произведений и т.п.), авторство которых считается кооперативным или коллективно-кооперативным.
Перечисленные характеристики письменных документов позволяют сформулировать 12 признаков, характеризующих инвариантную максимальную функциональную модель письменного языка — она включает все 6 типов текстов, которые были перечислены выше, и два вида авторства — индивидуальное и кооперативное.
Функциональная модель письменного языка
В условиях одноязычия соотношение реальной модели письменного языка и максимальной функциональной модели будет характеризовать развитие и условия функционирования письменности на данном языке. В условиях двуязычия характер заполнения каждого из обозначенных; в модели 12 микропространств разных типов текстов и разных форм авторства будет различаться: там могут быть представлены тексты на обоих языках или тексты на языке большинства (языке межэтнического общения).
Предлагаемая инвариантная функциональная модель письменного языка позволяет классифицировать все возможные ситуации функционирования языков в письменной форме с учетом небольшого числа значимых признаков. При этом функционирование письменной формы таких языков, как русский, английский, немецкий или китайский, которые полностью соответствуют инвариантной функциональной модели письменного язьжа, не позволяют видеть в письменной форме этих язьжов каких-либо значимых различий в структуре корпуса документов— очевидно, такие различия отсутствуют или лежат где-то за пределами соїщолингвистики. Частные функциональные модели письменных язьжов, предусматриваемые представленной инвариантной максимальной моделью письменного язьжа, включают не все возможные типы текстов: отсутствие каких-либо групп текстов порождает разнотипные "свернутые" варианты функциональной модели письменного язьжа, которые могут характеризоваться повторяемостью в зависимости от разных социальных факторов.. Во множестве "свернутых" вариантов модели письменного язьжа отсутствует индивидуальное авторство для большинства групп текстов — собственно говоря, это характерно для ситуации тождества письменного и печатного язьжов — что и определяет отсутствие устойчивых навьжов чтения и особенно письма у носителей язьжов малочисленных народов.
Характеристика типов печатных текстов на некоторых язьжах народов РФ приведена в таблице:
Варианты максимальной функциональной модели письменной формы языка в различных языках народов Российской Федерации Анализ соотношения письменной формы ряда языков народов РФ с инвариантной моделью письменного языка позволяет сделать интересные наблюдения и понять те процессы, которые происходят в письменной форме языков малочисленных народов при двуязычии. Для языков со значительным числом этнических носителей и с относительно развитой письменностью характерно отсутствие текстов группы 5 — текстов с номинативной функцией.
С уменьшением количества этнических носителей в письменных языках отсутствуют последовательно тексты групп 4, 3, 2 и 1, а присутствие текстов группы 6 (школьные учебники и лингвистические описания) оказывается результатом целенаправленной языковой политики. Хорошо заметна и следующая закономерность: отсутствие (или крайне ограниченное функционирование) каждой последующей группы текстов в обратном порядке нумерации предполагает отсутствие всех предыдущих групп текстов в обратном порядке, начиная с группы 5 — текстов с номинативной функцией (надписи, подписи, этикетки, вывески и др.).
Отсутствие ряда групп текстов в письменной форме языков малочисленных народов РФ, в частности, почти повсеместное отсутствие текстов групп 4 и 5, приводит к тому, что навыки чтения и письма на таких языках для большинства этноса утрачиваются после младших классов школы, а для меньшинства превращаются в профессию. Необходимо указать и на то, что такие особенности корпуса письменных текстов,, по нашему мнению, существенно осложняют возможности самостоятельного (внешкольного) обучения чтению на родных языках. По тем наблюдениям, которые мы имели возможность делать в разное время, ребенок, начиная с трехлетнего возраста, обучается чтению именно на материале подписей под картинками, вывесок, надписей на предметах, и только в возрасте 5-6 лет приступает к самостоятельному чтению более или менее объемных художественных текстов. В этом случае при отсутствии текстов групп 4 и 5 в письменной форме этнического языка возможность для обучения чтению на этом языке в дошкольном возрасте по существу не может быть реализована даже в том случае, если этнический язык функционирует в семье в устной форме.
Еще одним кризисным фактором для языков малочисленных этносов может быть названо преобладание переизданий старых книг над изданием новых литературных сочинений, учебных пособий, образцов фольклора — подобная практика в функциональном отношении подменяет спонтанное порождение письменных текстов повторным воспроизведением печатных текстов.
Особенности отдельных функциональных форм эвенского языка. Разговорная речь
Для языков малочисленных народов Севера разговорная речь как отдельная целостная функциональная сфера языка не была предметом исследования. Материалы, иллюстрирующие образцы разговорной речи, особенно диалогической речи, в соответствии со сложившейся традицией не только не публиковались, но и не фиксировались специально. Поэтому в данной работе особенности эвенской разговорной речи характеризуются в весьма конспективной форме, в основном с целью отметить некоторые явления, типичные исключительно для разговорной речи.
Самой яркой особенностью разговорной речи на эвенском языке является широкое использование частиц (см. Белолюбская 1997).
Лексика разговорной речи — это открытая система, и в лексическом отношении разговорная речь противостоит другим функциональным разновидностям эвенского языка прежде всего отсутствием какой-либо регламентации. Ниже мы изложим отдельные наблюдения над лексикой, характеризующие специфику устной речи по отношению к письменному языку.
Для эвенской разговорной речи характерно значительное количество разных типов неологизмов и калек русских слов. Примеры семантических неологизмов: нейкэ электричество, электрическая лампочка (ранее "лампа", "свеча", "светильник, жирник"), уси магнитофонная лента (также "ремень", "веревка", тулдэй устанавливать, настраивать (ранее "ставить, настораживать ловушку"), ададай включать (также "открывать"), нипкэдэй "выключать" (также "закрывать"), дукаддай учиться в школе (также "писать"), тан дай читать (у этого глагола сохранилось значение "пересказывать шаманское видение в предсказании будущего": значение "считать" принадлежит омонимичной глагольной лексеме), бадудай ехать на любом транспорте, лететь на вертолете, (также "ехать верхом") и т. п.
Примеры неологизмов устной речи: хупкучэк школа, бэгдэчэк больница, бэгдэчимдэ врач (русское слово доктур почти всегда имеет значение "ветеринар"), анцачак гостиница, интернат, додяк аэродром, вертолетная площадка, хирэдек молочно-тоеарная ферма (букв, "место, где доят"), терэдек радиостанция, бэлэтэк пенсия ("помощь"), хилкачилдывун стиральная машина, хананалдывун швейная машина, эвилдывун облигация ("предмет для игры"), минэдэй оперировать (собственно "резать") и т.д.
Разговорная речь хорошо сохраняет старые заимствования из русского языка: хяни сени, чомак замок, чакар сахар, килеб хлеб, бурдук мука ( якут. русск. продукт), чомпур шомпол, чивессэ календарь ( русск. святцы), и некоторые другие. Слова этой группы не характерны для письменного языка.
Только для устной разговорной речи характерны неологизмы, образованные на русской основе: числарук календарь, машинамна шофер, кинамна киномеханик, околаддай ходить (в поликлинику) на уколы, радикулдай болеть радикулитом, час часы (наручные или настенные), чайрудай пить чай, килебтидэй есть хлеб, картаматтай играть в карты, баниттай мыться в бане, киресэббеттэй креститься (одинаково "принимать крещение" и "осенять себя крестным знамением"), постидай причащаться (от эвенского пос "причастие" ( русск. пост: обратное словообразование вследствие ложной аналогии слога -ти- с эвенским глаголообразующим суффиксом -ти-, имеющим значение "есть что-л.") и т. п. Некоторое количество таких слов в наши дни проникает в язык национальных средств массовой информации вследствие стремления избежать чрезмерного употребления русских слов, характерного для газет 30-х годов.
В разговорной речи нередки кальки: аталдай "фотографировать ("снимать, удалять, снимать шкуру"); яруттай "проводить ревизию в магазине", ярудяк "ревизия", Ясал - прозвище специалиста-зоотехника с фамилией Глаз.
Одна из интересных синтаксических особенностей эвенской разговорной речи, составляющая резкий контраст с письменным языком — это способ передачи чужой речи. В разговорной речи перевод прямой речи в косвенную отсутствует и прямая речь передается как бы в виде цитаты: "Эмэптэм, генни,- "Яостался-, сказал он". Дюткий херли, эди хоиткил, гонни". "Иди домой, не мешай", - говорит" Тимина, генни, эмдим". "Завтра, — она сказала, — приду". Правила перевода прямой речи в косвенную, описанные для эвенского языка В.И.Цинциус (Цинциус 1981) действуют только для письменного языка.
В области синтаксиса надо также отметить в эвенском языке существование нескольких конструкций, характерных только для разговорной речи и редко проявляющихся в других функциональных формах эвенского языка. Одна такая особенность — это выделительный оборот с частицей -ккэ и десемантизованной отрицательной конструкцией. В приглагольном употреблении этого оборота отрицательная конструкция содержит обычно в качестве знаменательной части повторяемый глагол, например: "Харам-ккэ эсэм хар", "Я знаю, как оке не знаю", "Бисни-ккэ эсни бис" "Есть, как же не быть".
Данный оборот весьма часто подвергается эллипсису с устранением повторяющейся части — знаменательного глагола в отрицательной конструкции, харам-ккэ-эсэм, знаю, как же не знаю, генни-ккэ-эсни сказал, как оке не сказал, и т.п. На этом основании В.Д.Лебедев описал эту конструкцию как особый глагол кэдэй, который якобы спрягается по образцу отрицательного глагола (Лебедев 1978, 92-94). Тип спряжения отрицательного глагола эдэй не делать чего-л. в эвенском языке представлен единственной глагольной лексемой. Самостоятельность компонентов анализируемого оборота и присутствие в нем отрицательного глагола эдэй определяется, во-первых, по наличию повторяющейся знаменательной части, составляющей компонент отрицательного оборота (что само по себе выступает как аргумент против выделения глагольного корня кэ-). Во-вторых, имеется возможность вставки слова или группы слов внутрь данного оборота, например: Тадам-ккэ,- гонни,- эсэм... "Да, я узнаю, — говорит-, как же не (узнать)... — при пересказе чужой речи в монологе.
Другая особенность разговорной речи — употребление в функции частицы отглагольного имени на -кич, образованного от отрицательного глагола эдэй не делать чего-л.: "Хоя-кич-э" - "Ох, как много", Нэлэм-экич. - "Ох, как страшної". Отдельная частица -кич в грамматических описаниях эвенского языка не фиксировалась. Особенностью употребления отглагольного имени экич в функции частицы является то, что оно встречается в предложениях с именным сказуемым: хуннэ-экич "Ну и ветер, ну и пурга", удан-экич "ну и дождь", и не встречается при глагольных сказуемых.
Любопытной особенностью эвенской разговорной речи являются некоторые фразеологизмы, не встречающиеся в фольклоре и тем более в письменном языке. К числу немногих фразеологических единиц, извлекаемых в ходе наблюдений над устной речью являются словосочетания хексидук тердук "от горячей земли", кечукэндук тердук "от маленькой земли" — имеющие значение, "издавна", "от сотворения мира". Данные сочетания являются синонимами и имеют одно и то же значение. Нетрудно догадаться, что оба словосочетания имеют мифологические истоки и восходят к рассказам о происхождении земли, в которых земля либо была горячей, либо имела небольшие размеры. В фольклорных текстах такие единицы нам не встретились, чего в принципе можно было ожидать: единица текста, имеющая фольклорные истоки и сокращенная в объеме до словосочетания, едва ли может быть возвращена обратно в фольклор из обиходной разговорной речи.
Можно обратить внимание, что в письменном эвенском языке не отмечаются ни обороты, характерные для разговорной речи, ни устойчивые фразы-клише или фразеологизмы, имеющие фольклорные источники.
Региональные варианты письменной формы эвенского языка и письменная форма диалектов
Распространение письменности как самостоятельного культурного явления при ее приспособлении к родному языку пользователей в условиях диалектной дробности почти неизбежно приводит к появлению письменной формы у отдельных диалектов. Недостаточно интенсивный характер деятельности по распространению письменного эвенского языка, не во всем правильная политика в отношении литературы малочисленных народов и некоторые другие факторы привели к тому, что в условиях функционирования отдельных диалектов эвенского языка начала складываться собственная письменная форма эвенского языка, имеющая распространение в пределах какого-то замкнутого региона. Благоприятные условия для этого сложились прежде всего в Якутии. Причин для этого несколько — резкие отличия говоров эвенов Якутии от восточных говоров эвенского языка и как следствие этого трудности с восприятием литературного языка (особенно при несовершенстве методик преподавании родного языка в школе), относительная однородность и взаимопонятность эвенских говоров Якутии, однородность языковой среды даже при ее сложном составе (постоянное эвенско-якутское двуязычие или эвенско-русско-якутское трехъязычие), однородность этнокультурной среды, не характерная для восточных территорий расселения эвенов, где их этническое окружение в отдельных районах существенно различается. Решающими в этом процессе оказались социальные и социолингвистические факторы — характер норм письменного языка стал определяться не лингвистами и педагогами, а представителями интеллигенции, для которых пользование письменной формой языка на уровне порождения текстов повсеместно обнаруживает тенденцию к превращению в профессию.
Исходным материалом для новых языковых норм стали не письменные тексты общеупотребительного назначения как форма определенного языкового поведения и как результат спонтанной языковой деятельности носителей данных говоров (здесь всплеска активности не наблюдалось), не региональные средства массовой информации, как этого можно было бы ожидать (в этот период эвенский язык в них не использовался), и даже не учебно-методическая литература (в ней продолжал соблюдаться общефедеральный стандарт: ее языком оставался язык на основе восточного наречия эвенского языка) — таким материалом стала художественная литература, по условиям социальной конъюнктуры находившаяся в привилегированном положении перед другими видами деятельности, связанными с использованием родного языка в письменной форме.
В конце 60-х—70-е годы явственно начал формироваться второй эвенский письменный язык — язык западных эвенов, проживающих в Якутии (см. Новикова, Лебедев, 1980). Для его полноценного функционирования в данной республике в принципе существовали все условия, кроме одного — школьного преподавания, которое продолжало вестись на официально принятом письменном эвенском языке на базе восточных говоров.
Назревавший конфликт в условиях существовавшей языковой политики имел две возможные формы разрешения. Создатели новой письменной формации, в которой для эвенского языка использовался якутский алфавит и правила якутской графики, требовали ни больше и меньше как распространить ее на всю территорию расселения эвенов. Противники же существования этой формации (почти все специалисты-эвеноведы и часть прогрессивно мыслящей эвенской интеллигенции, в частности, В.А.Роббек) требовали полностью запретить функционирование данной литературной формы языка. Чрезвычайно характерно, что вопросы функционирования эвенского языка в устной форме, например, на радио и телевидении, или использования письменной формы в неофициальной сфере, в частности, в частной переписке, просто не ставились и не обсуждались. Не обсуждался и вопрос о соотношении письменного языка на основе западных эвенских диалектов с устной формой этих диалектов — ныне становится понятным, что расшатывание норм письменного эвенского языка в 60-е— 70-е годы привело не к образованию второго литературного языка, а к появлению письменной формы у группы западных диалектов эвенского языка: по предварительным данным, наддиалектный стандарт на уровне грамматики и лексики в этой языковой формации отсутствует. То, что изменение графической системы эвенского языка в этом регионе полностью упразднило какую-либо нормированность письменного языка на уровне морфологии, синтаксиса и особенно лексики, хорошо видно на примере перевода на эвенский язык статьи В.И.Ленина "Задачи союзов молодежи" (перевод А.В.Кривошапкина, Якутск, 1984). В языке этого издания не является нормированным даже сохранение заимствований из русского языка в том виде, в каком они существуют в языке-источнике, чего следовало бы ожидать хотя бы из бережного отношения к переводимому подлиннику. Хотя нормы письменного языка западных эвенов, в частности, нормы на уровне графики, сложились уже в 70-е годы, нормативный документ, а именно "Правила орфографии эвенского языка" К.А.Новиковой и В.Д.Лебедева, узаконивавший не орфографию (орфографические правила как раз в проекте реформы оставались без изменений!), а использование для эвенского языка якутского алфавита и правил якутской графики, был принят только в 1980 году. В 1987 году эти правила постановлением местного правительства были отменены, однако использование соответствующей графической формы продолжается и по сей день — правда, уже только для издания фольклорных текстов (см. Данилов 1991). Все тексты изданные с использованием данной графической системы, представляют те же самые говоры, для которых складывались соответствующие письменные нормы (говоры среднего наречия, по нашей классификации — западного). При единственном опыте транскрибирования ранее записанных текстов в новой графике (Эпос 1986) было допущено множество ошибок, исказивших графическую форму текста и приводящих к утрате адекватной передачи звучания в записи собирателя.
В конце 80-х годов в Якутии диалекты западного наречия начали в какой-то мере использоваться в местных средствах массовой информации (в Томпонском и Аллаиховском районах для соответствующих диалектов). Появился ряд учебных пособий, ориентированных на диалекты (Дуткин 19906), однако в силу каких-то причин — вероятнее всего, в силу существующей инерции, преподавание родного языка в начальной школе ведется по учебникам, написанным на основе восточного наречия, и вопрос о создании территориально адаптированных учебников не ставится даже там, где сохранение и развитие родного языка активно пропагандируется местными районными структурами и отдельными национальными общинами (так называемыми родоплеменными хозяйствами).
Образцы разных графических систем эвенского языка
В качестве образцов изменения написаний эвенских слов в разные периоды истории эвенской письменности мы приводим написания тех слов, которые демонстрируют различия в написании при применении разных правил графики, действовавших в разные годы.
Кириллографичные написания до 1932 г. даны по изданию Евангелия и "Краткому тунгусскому словарю", латинографичные — по "Эвенско-русскому словарю" В.И.Левина, другие материалы извлечены из соответствующих учебных пособий, литературы и словарей.
Последствия частых и не очень последовательных изменений эвенской графики проявились в процессе развития эвенской письменности двояко. Относительно устойчивые навыки письма на родном языке или преподаваемом языке при очередной смене правил эвенской графики приводили к искажениям графического облика слова либо вследствие использования отмененного написания, либо вследствие неадекватной коррекции графики при переиздании текста. Так, в частности, появилось вместо написания тык "сейчас", написание тик, никогда не существовавшее в эвенской графике. При переработке фольклорных текстов, записанных во второй половине 30-х годов Н.П.Ткачиком, форма гиркан идет, записанная по нормам графики 1938-39 гг. как геркан, оказалась транслитерированной как гиаркан, поскольку графический знак {е} позже использовался для обозначения долгого закрытого [е:] охотских говоров, соответствующего дифтонгоиду [иа] в других говорах эвенского языка. Разный уровень пользования письменной формой эвенского языка по отдельным регионам в разные временные периоды, составляющие 10-20 лет, привел к образованию нескольких региональных вариантов эвенского письменного языка, использующих различные варианты графики, имевшие официальный статус в разные годы.
Как уже отмечалось, с начала 60-х годов эвенская графика в местных изданиях на территории Якутии используется в несколько модифицированном варианте: вместо знака {ц} используется лигатура {w}. Одновременно с разработкой нового проекта эвенской графики 1980 г. в практике наблюдаются отступления от норм данного проекта — с одной стороны, обусловленные сохранением отдельных черт графики 1958 г., например, таких, как обозначение дифтонгоидных гласных с помощью букв {я}, {е}, с другой стороны — интенсификацией воздействия якутской графики: в эвенских текстах появляется знак {Y}, отсутствующий в предлагаемом эвенском алфавите, но используемый в той самой роли, в какой он мог бы быть применен при рациональном построении проекта и учете эвенско-якутской фонетической интерференции — для обозначения переднерядного [у]: любопытно, что спорадически встречается даже написание {YY}, изображающее переднерядный долгий [у:] (см. Эпос 1986).
С 1982 года Магаданское книжное издательство возобновило выпуск литературы на эвенском языке. При отсутствии возможностей для использования стандартного эвенского алфавита с тремя дополнительными знаками, принятого в 1958 году, первоначально использовались знак {н } для заднеязычного носового [н], вместо знака {е} применялись знаки {о} и {у}, (при этом написание отдельных слов выдерживалось довольно последовательно), вместо знака {ё} использовался знак {ё}. Постепенно в Магаданской области в обиход вошла ныне принятая эвенская графика 1958 г. в полном объеме, при этом отступления от действующих норм графики в сторону ранее действовавших принципов не составляют заметной величины. В местных изданиях, как, впрочем, и в учебниках для начальной школы, большинство случаев отступления от норм действующей графики приходится на использование дополнительных знаков, отсутствующих в русском алфавите.
В печатных изданиях, ориетированных на язык эвенов Камчатки, применяется весьма своеобразная графическая система, которая заметно отличается от эвенской графики 1958 г. Ряд ее черт — использование знака {у} вместо {е} и написание {о} для обозначения долгого переднерядного {е:}, использование знака {ы} после переднеязычных согласных для обозначения отодвинутых назад оттенков узких гласных [и] и [и] (в отличие от ранее принятой системы 1937-1959 гг., допускавшей такие написания в основном в первом слоге, это наблюдается в данном варианте во всех слогах слов и в суффиксальных морфемах), обозначение дифтонгоидного гласного [ие] знаками {и/ы}, и гласного [иа] знаком {е}, спорадически встречается обозначение заднерядного [и] знаком {е}. Однако для этой системы характерны некоторые индивидуальные черты — к их числу относится обозначение оттенков кратких [а] и [э] в непервых слогах знаком {ы} (иногда с заменой знака {а} на {э}), написание {е} после .{ч} — возможно, черта, заимствованная из чукотской или корякской графики. Написание отдельных слов, далее в тех случаях, когда оно уклоняется от нормативных написаний, оказывается достаточно устойчивым. В отношении появления этой системы можно утверждать одно: данная система сохраняет многие особенности кириллической графики эвенского языка 30-х-50-х годов (точнее, это графика 1940-1953 гг.). Этот факт свидетельствует об устойчивости навыков письма на эвенском языке, приобретенной в 40-е-50-е годы педагогами и представителями интеллигенции, о непрерывности традиции школьного обучения эвенскому языку, а также относительном удобстве данного варианта графики для носителей этого диалекта в силу того, что он дает возможность фиксировать на письме диалектные особенности произношения — это касается более открытого характера заднерядного [и], которое в диалектах Камчатки приближается к закрытому [е]. Одновременно с этим у пользователей данным вариантом эвенской письменности наблюдается стремление избежать контакта с нормированными формами письменного эвенского языка: школьные учебники эвенского языка используются с коррекцией на местные диалектные явления, а издаваемая в других регионах художественная литература на эвенском языке среди эвенов Камчатки не получает распространения.
С конца 80-х годов в чукотской окружной газете "Мургин нутэнут" выпускается страница на эвенском языке. При ее выпуске используется адаптированный к эвенскому языку тот вариант графики, который применялся к языкам Северо-Востока, в частности, к чукотскому и эскимосскому языкам, в 50-е-80-е годы, и в котором единственным дополнительным средством осложнения графических знаков для обозначения особых фонем служил апостроф. Заднеязычный носовой согласный [н] в этом варианте эвенской графики изображался как {н } или {н"} (последний вариант более типичен для машинописных текстов); обозначение гласных оставалось тем же, что и в графике 1954-1958 гг. Как уже говорилось, в полном объеме принятая ныне эвенская графика была введена в обиход на Чукотке лишь в 1993 г. с внедрением в редакции окружных газет компьютерного набора Любопытно, что при этом использование дополнительных знаков эвенского алфавита осуществлялось постепенно: почти сразу же после начала применения компьютерного набора вместо прежнего написания [н ] с апострофом или кавычками стала использоваться буква {ц}, затем в набираемых текстах обрела права гражданства буква {е} — ранее краткие и долгие заднерядные и переднерядные гласные [о] и [е] в принятом местном варианте графики обозначались одной буквой {о}, как в графике 1954-1958 гг., и в самую последнюю очередь в текстах стала использоваться буква {ё}. Причиной этого явилось особое расположение дополнительных знаков эвенского алфавита в клавиатуре компьютера — все дополнительные знаки были помещены в ее верхнем ряду вместе со вспомогательными знаками и не имели на клавиатуре специальных обозначений.