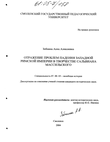Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Общие условия формирования концепции кризиса III в. н.э. в Римской империи у М.И. Ростовцева 34
1.1. Формирование исторических взглядов М.И. Ростовцева 34
1. 2. Основные черты методики и методологии научной работы М.И. Ростовцева 45
Глава 2. Концепция кризиса III в. н.э. в Римской империи М.И. Ростовцева и ее место в историографии античности 67
2. 1. Проблема падения Римской империи в историографии античности конца XIX - начала XX вв 67
2. 2. Концепция кризиса III в. в Римской империи в освещении М.И. Ростовцева 80'
2 .3. Место концепции М.И. Ростовцева в западной историографии античности 135
Глава 3. Концепция кризиса III в. в Римской империи М.И. Ростовцева в контексте западной историко-философской мысли первой половины XX в 158
3. 1. М.И. Ростовцев и модериизаторство 158
3. 2. «Философия кризиса» и М.И. Ростовцев: сравнительный анализ концепций упадка цивилизации 183
3. 3.М.И. Ростовцев и марксизм 196
Заключение 215
Список сокращений 222
Список источников и литературы 223
- Формирование исторических взглядов М.И. Ростовцева
- Основные черты методики и методологии научной работы М.И. Ростовцева
- Проблема падения Римской империи в историографии античности конца XIX - начала XX вв
- М.И. Ростовцев и модериизаторство
Введение к работе
В свете современного состояния исторической науки творчество М.И. Ростовцева (1870-1952) представляет интерес по двум основным причинам. Во-первых, интерес обусловлен со стороны истории исторической науки к Ростовцеву как ученому с уникальным личным опытом и жизненным путем, ученому, который всегда оказывался в центре взаимодействия различных сил: истории и археологии, на новом этапе развития последней; культуры русской и западноевропейской, русской и американской; ученому, по отношению к которому всегда остается актуальным один из базовых гносеологических вопросов: насколько рождение новых научных теорий предопределено окружающей действительностью? каков механизм рождения этих теорий? Вторая основная причина интереса к Ростовцеву кроется уже в нынешнем состоянии историографии истории античности. В современной историографии древнего мира ощущается определенное затишье, создающее ощущение исчерпанности методологических идей. После взлета теорий М. Финли (1912-1986)' не наблюдается никаких серьезных перемен в изучении социальной и социально-экономической сферы; происходит постепенный отход от идей Финли, но нет равноценной работы (или работ), которые бы знаменовали начало нового этапа. Можно сказать, что до известных пределов произошло и ослабление интереса' ученого сообщества к собственно социально-экономической проблематике в пользу социально-культурной истории античности или ее системного, социологического изучения. Необходимо признать также и измельчание тематики исследований:
Особую роль сыграла следующая работа: Finley M.I. The ancient economy. Berkeley-Los Angeles, 1973; см.: Безгубенко А.А. Античная экономика в творчестве М. Финли // Античный вестник. Вып. VI. Омск, 2002. С. 43-61; Он же. Категории зависимого населения в исторической концепции М. Финли // Исторический ежегодник. Спец. выпуск к 60-летию проф. Г.К. Садретдинова. Омск, 2000. С. 54-69.
2 См.: Крист К. История времен римских императоров. Ростов-н/Д, 1997. ТТ. 1-2; Бауэрсок Г. Римская империя в постимпериалистической перспективе// ВДИ. 1997. № 4. С. 86-93.
монументальные труды давно не в моде, но ведь именно такие труды давали теоретическую базу.
С другой стороны, в современной науке присутствует тенденция обращения к наследию «классического» этапа изучения древности последней трети XIX - первой трети XX вв. С этой точки зрения Ростовцев является последним представителем в ряду историков того периода, когда еще создавались фундаментальные истории, написанные одним автором. Ростовцев является создателем двух именно таких фундаментальных работ: «Социально-экономической истории Римской империи» (1926)3 и «Социально-экономической истории эллинистического мира» (1941)4. С другой стороны, он является историком нового типа - ибо период между двумя мировыми войнами является также временем первого взлета коллективных монографий и толстых всемирных историй, написанных коллективом авторов. Ростовцев тоже участвовал в такого рода изданиях5, таким образом, он оказывается своеобразной ключевой фигурой, стоящей между двумя этапами развития мировой исторической науки. Идеи Ростовцева о буржуазии в древности, о причинах гибели античной культуры снова обретают популярность: если их никто не готов воспринимать целиком, по меньшей мере многие считают нужным их снова обсудить и в чем-то скорректировать. Стало очевидным, что «феномен Ростовцева» оказался больше, чем его определяли до этого авторы многочисленных историографических очерков: идеи Ростовцева не просто вошли в фонд достижений исторической науки, но стали классикой не в смысле отживших и прошедших, но в смысле постоянно актуальных.
Тот факт, что творчество Ростовцева вновь стало пользоваться популярностью, нуждается в объяснении не меньше, чем необходимость понять, какие идеи несут его научные взгляды. Одна из важных
3 Rostovtzeff М. Social and Economic History of the Roman Empire. Oxford, 1926.
4 Rostovtzeff M. Social and Economic History of the Hellenistic World. Oxford, 1941.
5 Rostovtzeff M. Ptolemaic Egypt II Cambridge Ancient History. VII. 1928. Ch. IV. P. 109-154;
Ростовцев М.И. Птолемеевский Египет // ВДИ. 1999. № 4. С. 189-197.
составляющих непреходящей актуальности работ Ростовцева — его концепция падения античной цивилизации.
Основой нашей работы является анализ концепции социального кризиса III в. в Римской империи, которая, насколько нам известно, еще никогда не подвергалась подробному разбору, особенно в связи с общей концепцией античного общества у Ростовцева и в связи с его методологическими установками. В результате такого рода анализа нам представляется возможным подойти с более взвешенных позиций к некоторым сложившимся в историографии оценкам Ростовцева.
Таким образом, объектом нашего исследования будет концепция упадка античной культуры М.И. Ростовцева. Нужно сказать, что здесь нет и не может быть терминологического единообразия: сами по себе понятия «упадок культуры», «трансформация культуры», «гибель цивилизации» и т.д. для Ростовцева не были столь уж важными - он стремился передать сущность процесса, а не выдвинуть систему терминов. Важно, однако, выделить два процесса, которые Ростовцев все-таки разделял: системный кризис Римской империи в III в. н.э. и упадок античной культуры. Если второй был следствием первого, это не означает, что для Ростовцева оба процесса выступают в неизбежной связи. Сколько можно понять, Ростовцев в принципе не исключал даже для времени Диоклетиана возможности выбора другого пути развития: детерминизм в принципе не присущ его концепциям.
Кризис III в. для Ростовцева - это системный кризис Римской империи, оказавшийся предтечей упадка античной культуры. Если первый процесс имеет преимущественно социально-экономические характеристики, то второй процесс, гибель культуры - гораздо более сложный и всеобъемлющий - выходит на проблемы духовного развития, перемены психологии масс и т.д. Более того, процесс упадка античной культуры не имеет тех строгих хронологических рамок, какие имеет кризис III в.: если кризис в Римской империи - это 235-284 гг. (со всеми оговорками, включающими в себя существование особенного периода постепенного «вхождения» в кризис при
б династии Северов в 193-235 гг. и периода перехода к доминату в правление Диоклетиана и Константина), то черты упадка античной культуры проявлялись уже и в эллинистическую эпоху.
В нашем понимании, можно построить следующую иерархию объекта нашего изучения: научное творчество Ростовцева в целом может быть использовано для понимания его концепции социально-экономических отношений в античности; в эту концепцию составной частью входит концепция упадка цивилизации, в которую составной частью входит концепция упадка античности и кризиса III в. в Римской империи; мы исследуем преимущественно концепцию упадка античности, но, бесспорно, нам придется выходить иногда и на более высокие уровни.
Предметом нашего исследования является изучение концепции кризиса III в. в ее историографическом ключе. Нас будут интересовать преимущественно следующие вопросы:
влияние социально-политической среды на формирование изучаемой концепции;
какова сущность и основные положения изучаемой концепции;
в каком историографическом контексте появилась концепция и какое положение, таким образом, она заняла в мировой историографии.
Для того чтобы уяснить проблему (1) формирования концепции, мы считаем нужным рассмотреть (а) основные факторы, повлиявшие на формирование Ростовцева как ученого, охарактеризовать процесс складывания его научных воззрений, а также коснуться (Ь) методики и методологии его научной работы с целью дать представление об основах его работы на этапе зрелого творчества. Решение (2) задачи анализа концепции является стержнем всей нашей работы. Поскольку до сих пор эта концепция не получила подробного анализа, то оказывается необходимым дать (а) ее развернутое изложение, учитывая, что для этого нужно использовать не только «Социально-экономическую историю Римской империи», но и ряд других работ Ростовцева. Кроме того, анализ концепции будет в
значительной мере неполным, если не дать два хотя бы неполных и общих очерка: (Ь) состояния изученности проблемы кризиса III в. до Ростовцева и -(с) влияния концепции Ростовцева на изучение данной проблемы. Такого рода анализ позволит нам выйти на (3) проблему историографического контекста. Бесспорно, решение проблемы контекста в значительной мере зависит от субъективных предпочтений каждого исследователя и от стереотипов, сложившихся в науке, и поэтому нам представляются ключевыми следующие темы: (а) положение идей Ростовцева в исторической науке первой трети XX в., тесно связанное со знаменитой оппозицией «примитивизма» и «модернизаторства»; (Ь) место концепции Ростовцева в философских течениях мысли того же времени; (с) проблема взаимодействий и взаимосоотношений между видением античной истории Ростовцевым и марксистскими построениями, включая сюда и особенности отношения советского антиковедения к ростовцевскому наследию.
Кроме того, отдельной важной темой выступает «проблема 1918 г.» в творчестве Ростовцева. Содержание этой проблемы, которую мы обозначили годом эмиграции Ростовцева из России, сводится к следующему вопросу: каким образом происходило рождение новой концепции, каким образом действительность влияла на мышление историка? Сама возможность провести параллели между событиями двух революций и гражданской войны в России с одной стороны, и концепцией классовой войны крестьянского населения против буржуазии в Римской империи, с другой стороны, еще не является достаточным объяснением: в конце концов, такие параллели лежат на поверхности, они были доступны любому историку того времени, но воспользовался ими, в полном объеме, только Ростовцев. Объяснение, столь частое и чаще всего единственное, которое давала советская историография, в настоящее время стало явно неудовлетворительным, поскольку оно строилось на априорном положении о политической ангажированности Ростовцева, написавшего памфлет на Советскую Россию. Наконец, последнее по порядку, но не по важности: сам Ростовцев очень негативно относился к
такого рода трактовкам собственной концепции. Он не отрицал известного влияния на его видение истории со стороны недавних событий, но считал, судя по всему, это воздействие далеко не единственным фактором. Мы не посвящаем этой проблеме отдельного параграфа и не пытаемся разбирать ее отдельно, вне общего рассмотрения ростовцевской концепции: нам представляется, что эту проблему невозможно разрешить, оставаясь вне рамок анализа самой концепции. Краткий обзор основных мнений по этой проблеме будет нами дан в историографическом очерке нашей работы.
Работы самого Ростовцева в последнее время начинают все более активно издаваться в России, но все-таки многие, в том числе и наиболее важные из них, до сих пор остаются доступными лишь в зарубежных изданиях. Мы не ставили целью охватить все работы Ростовцева, так или иначе затрагивающие тематику Римской империи или проблемы социальных переворотов в античном мире, поэтому нам кажется необходимым дать очерк использованных нами источников.
Бесспорно, в начале этого списка стоит сама «Социально-экономическая история Римской Империи», выпущенная в русском переводе с немецкого издания 1931 г. под названием «Общество и хозяйство в Римской Империи»6. Текстуально русский перевод мало отличается от английского издания 1926 г., не считая тех небольших в целом изменений, которые внес сам Ростовцев при подготовке немецкого издания; некоторые из этих изменений послужили основой для нашего анализа.
Помимо этой и ряда других, меньших по объему но не по значению, работ, посвященных кризису III в. в Римской империи, мы использовали также работы, описывающие процесс становления Римской империи и, частично, упадок эллинизма7 - поскольку Ростовцев в этих темах также разрабатывал вопросы кризиса культуры и проблему борьбы классов, то
6 Ростовцев М.И. Общество и хозяйство в Римской империи. ТТ. 1-2. М., 2001.
7 Ростовцев М. Рождение Римской империи. Пг., 1918; Ростовцев М. Эллинистический
мир и его экономическое развитие // Современные записки. 1936. № 60. С. 325-345.
иногда для прояснения его точки зрения по вопросам III в. нам приходилось привлекать его мнения по другим кризисным эпохам античности.
Ряд работ имеет для нас особенную важность при определении теоретико-методологических установок Ростовцева, как в изучении социально-экономических процессов, так и вообще касательно теории исторического познания: это, прежде всего, его статьи «Капитализм и
народное хозяйство в древнем мире» (1900) и «Упадок древнего мира и его экономические объяснения» (193 О)9; особенную ценность представляют некоторые замечания о капитализме и буржуазии, высказанные в последней монументальной работе Ростовцева, в «Социально-экономической истории Щ эллинистического мира». Особенности ростовцевского понимания научности, его требования к научному труду наилучшим образом наблюдаются в ряде рецензий, написанных им.10
Большой интерес для нашего исследования представляет также анализ политических статей Ростовцева", которые позволяют узнать его взгляды на события революции и гражданской войны в России, и таким образом, сравнить, чем отличается его восприятие окружающей действительности от его видения истории. В отличие от, скажем, Э. Мейера (и возможно, в пику последнему), Ростовцев гораздо более скованно пользовался сравнениями с
прошлым с целью дать политический портрет настоящего; важным наблюдением является и то, что чтение политических статей заставляет пересмотреть некоторые сложившиеся стереотипы во взглядах на
Ростовцев М.И. Капитализм и народное хозяйство в древнем мире // Русская мысль. 1900. №3. С. 195-217.
9 Rostovtzeff М. The decay of the ancient world and its economic explanations II Economic
History Review. 1930. Vol. II. P. 197-214.
10 Ростовцев M. Рец. - Михаил Хвостов. Очерки организации промышленности и торговли
в греко-римском Египте. I. Текстильная промышленность в греко-римском Египте.
Казань, 1914. X + 264 с. // ЖМНП. 1914. Октябрь. С. 348-369; Rostovtzeff М. - Rev. - An
economic survey of Antient Rome. Vol. IV. Baltimore, 1938 II American Journal of Philology.
1939. Vol. 60. P. 363-379; а также ряд замечаний в: Он же. Скифия и Боспор. Критическое
обозрение памятников литературных и археологических. Л., 1925.
11 Rostovtzeff М. Proletarian Culture. L. 1919; Ростовцев М.И. Избранные публицистические
статьи. М., 2002; Он же. Политические статьи. СПб., 2002.
Ростовцева: например, на представление о том, что он всегда был поклонником «просвещенной монархии».
Говоря о складывании стереотипов и об их преодолении, мы должны также дать очерк литературы, посвященной Ростовцеву и составившей основную базу нашей работы. Очевидно, что при написании историографического исследования провести четкое различие между источниками и литературой сложно. Работы Ростовцева, охарактеризованные выше, играют роль источника, как и ряд трудов историков конца XIX -первой половины XX века, посвященных конкретным проблемам античной истории, позволяющих уяснить общий контекст науки в период появления и почти безраздельного доминирования концепций Ростовцева (1920-е — 1950-е гг.). Многие из них служат нам одновременно в качестве историографии второго порядка, поскольку в них содержится в той или иной мере полемика с Ростовцевым, изложение его теорий.12 Нам показалось более целесообразным дать характеристику упомянутых работ применительно к каждой проблеме, рассматриваемой нами в основной части нашего исследования; в данный момент мы остановимся только на анализе тех работ, которые изначально были написаны в историографическом ключе, представляя литературу по теме нашего исследования.
Можно выделить два направления в историографии Ростовцева: биографическое, строящееся на изложении деталей жизни Ростовцева и рассматривающее его концепции в связи с особенностями жизненного пути ученого; аналитическое, обращенное преимущественно к анализу сочинений, в которых эти концепции реализованы.
Первой такой работой была статья М. Рейнхольда «Историк классического мира: критика Ростовцева» (1946), в самом начале которой
12 Из общих трудов, так или иначе полемизирующих с позицией Ростовцева, можно привести: Frank Т.А History of Rome. N-Y., 1928; Gage J. Les classes sociales dans l'Empire Romain. Paris, 1964; Ste. Croix G.E.M. de. The Class Struggle in the Ancient Greek World. London, 1981. Из обобщающих развитие историографии античности статей подробно касаются концепции Ростовцева Baynes N.H. The decline of the Roman power in Western Europe. Some modern explanations II JRS. Vol. 33. 1943. P. 29-35; Starr Ch.G. The History of the Roman Empire. 1911-1960II JRS. Vol. 50. 1960. P. 149-160.
11 автор говорил о том, что «систематический анализ и критическая оценка исторической методологии Михаила Ростовцева, ведущего историка античности прошлого поколения, требовались давно»13. Работа, проведенная Рейнхольдом, строится на внимательном анализе сравнительно немногочисленных методологических замечаний, которые содержатся в трудах Ростовцева и которые позволяют обрисовать общие черты ростовцевской философии истории, а также на тщательном разборе употребляемой Ростовцевым терминологии и ее критическом анализе.
Рейнхольд находит в исторических сочинениях Ростовцева «постоянно существующее противоречие между объективным, критическим, научным подходом и субъективным, априорным методом»,14 понимая под субъективизмом то неограниченное твердыми теоретическими основаниями употребление Ростовцевым современных терминов применительно к античному обществу, которое всегда влекло за собой обвинение в «модернизации» истории. Сокрушительной критике подверг Рейнхольд также понятие «капитализма» в работах Ростовцева и понимание Ростовцевым античной буржуазии. Рейнхольд выдвинул один из самых серьезных аргументов против последнего: он полагал, что Ростовцев смешал понятия, и тот социальный слой, который он субъективно определил как «буржуазный средний класс», на самом деле был правящим классом как в эллинистических государствах, так и в Римской империи, чьи экономические интересы были сосредоточены почти исключительно на землевладении.15 Рейнхольд также увидел, что основным в ростовцевской философии истории является поиск главных причин упадка древних обществ и вообще кризисов во внеэкономических факторах — в социальной психологии, политической эволюции и т.д.16 Кроме того, Рейнхольд считал, что с точки зрения
Reinhold М. Historian of the Classic World: a critique of Rostovtzeff// Science and society. 10 (1946). P. 361. 14 Op. cit. P. 362. 15Op.cit.P.370. 16 Op. cit. P. 380.
имеющихся в методологии Ростовцева компонентов, она может быть поставлена в очень тесную связь с марксизмом.17
Анализ Рейнхольда проведен на бесспорно высоком уровне, однако его отличает специфический подход к рассматриваемому предмету: термины, употребляемые Ростовцевым, оцениваются с точки зрения их некоего условно общепринятого значения, а не с точки зрения внутренней гармонии ростовцевскои концепции; точно так же суть самой концепции, несмотря на ряд верных и проницательных наблюдений, от Рейнхольда ускользает, поскольку он, анатомически разложив ее на части, не находит ничего, кроме набора фундаментальных противоречий. В любом случае, именно эта статья заложила основы аналитического подхода к Ростовцеву, построенного на историографическом анализе его работ.
Основы совершенно другого, биографического подхода к Ростовцеву заложил А.Д. Момильяно (1908-1987), один из крупнейших современных историков антиковедения.18 Момильяно отнюдь не отказывался от анализа самих текстов Ростовцева,19 но при этом он сделал преимущественный акцент на понимании личности ученого, поставив важный вопрос: каким образом жизненный путь влияет на научную концепцию? Момильяно впервые сформулировал проблему влияния российского прошлого на американский этап научной деятельности Ростовцева.
Согласно Момильяно, Ростовцев был великим либеральным историком, который изучал античность не с сухим бесстрастием, а со всей увлеченностью сопоставляя ее с современностью. Ростовцев с первой своей поездки в Помпеи влюбился в юг Средиземноморья, а его умение с помощью археологических источников, казалось бы, видеть прошлое, заставило его со всей силой научного таланта идеализировать античные города, и увидеть в «просвещенной монархии» Римской империи идеальный вариант развития
17 Op. cit. Р. 388-389.
Лукиянов Ю.В. «Филипп Македонский» А. Момильяно в контексте эпохи // Древний мир и средние века. История. Историческая мысль. Уфа, 1993. С. 75. 19 См.: Momigliano A. Rostovtzeff s Twofold History of the Hellenistic World IIJHS. Vol. 63. 1946. P. 116-117.
царской России. Трагедия России потрясла его, и он увидел в крушении своих надежд на буржуазное развитие родной страны причину крушения Рима.
Ростовцев всегда оставался для Момильяно звездой первой величины в исторической науке,20 в какой-то мере даже личным примером, но при этом его концепцию Момильяно оценивал как в значительной мере предвзятую, прямо продиктованную собственным опытом. Как нетрудно заметить, в этом моменте оба направления изучения Ростовцева, аналитическое и биографическое, совпадают; кроме того, мы должны уточнить, что наше выделение этих направлений - условность, необходимая для логической
Ф подачи материала и отражающая скорее две тенденции одной историографии
проблемы: в любом случае, большинство историков работает в обоих направлениях, временное же преобладание же того или другого является следствием изменения в состоянии биографического материала или смены установок в мировой историографии античности.
Работы аналитического направления до сих пор не получили существенного развития после статьи Рейнхольда: можно сказать, что в этом смысле она была началом и вершиной работ такого рода. Когда в 1957 г. в Оксфорде было предпринято переиздание «Социально-экономической
истории Римской Империи», то это спровоцировало появление ряда работ, в
которых заново оценивался вклад Ростовцева в науку об античности.21 В целом, однако, излагались те же мысли, что и у Рейнхольда, только более или менее подробно аргументированные. В 50-е - 60-е гг. XX в. влияние Ростовцева было все еще сильным, но уже не таким безусловным, и интерес к его работам стал ослабевать.
Развернутый очерк биографии и основных трудов Ростовцева, близкий аналитическому подходу, дал известный немецкий историк и историк
^| 20 «Кто знал его, знал величие». Idem. Studies in Historiography. L., 1966. P. 104.
21 Dow S. The Social and Economic History of the Roman Empire: Rostovtzeff s Classic after Thirty Three Years II AHR. 1959. Vol. 65. P. 544-553; до известной степени эту же тенденцию выражает и статья Bowersock G.W. The Social and Economic History of the Roman Empire by Michael Ivanovitch Rostovtzeff// Daedalus. 103. 1974. P. 15-23.
исторической науки К. Крист в своей монографии «От Гиббона к Ростовцеву: жизнь и работы основных историков древности в период Нового времени» (1972)22. Для Криста, Ростовцев - фигура, сравнимая по собственной величине и по силе воздействия его работ разве что с Моммзеном. Будучи представителем русской интеллектуальной элиты, целью которой было повышение культурного уровня России, он в результате событий после революции оказался вне родины, и эмиграция оказалась тяжелом испытанием для него, однако, оказалась и благотворной в плане его научной известности и полезной для западной историографии. «Ростовцев знаменует начало новой эпохи в написании истории Древнего мира. Она построена на требованиях, которые Ростовцев предъявлял к исследованиям: основываться на археологических раскопках, возводя их к историческому синтезу».25
В 70-е гг. XX в. звезда М. Финли затмила Ростовцева, и с этих пор концепции последнего стали считаться устаревшими. Таким образом, когда с конца 80-ых гг. снова начал пробуждаться интерес к Ростовцеву, это был уже интерес по преимуществу биографический. Падение «железного занавеса» между Западом и СССР позволило западным ученым узнать немного больше о Ростовцеве в России и в целом побудило обратиться к архивам и особенно к эпистолярному наследию.
Работой, достойно реализовавшей завет Момильяно обратиться к российскому прошлому ученого, стала монография М.А. Веса «Михаил Ростовцев. Историк в изгнании: российские корни в американском контексте» (1990). Вес преимущественно останавливается на последнем году Ростовцева в России и первых годах эмиграции, причем интерес к России в его работе иногда доминирует над интересом к Ростовцеву: работа начинается со специальной, «нулевой» главы, рассказывающей о России во второй половине XIX в., возможно, слишком подробно, однако именно в ней
22 Christ К. Von Gibbon zu Rostovtzeff. Leben und Werk fuhrender Althistoriker der Neuzeit.
Darmstadt, 1972. S. 334-349.
23 Op. cit. S. 334.
24 Op. cit. S. 335.
25 Op. cit. S. 346.
Вес приходит к важному выводу о положении «классицизма» в России,26 таким образом выводя нас к вопросу о предрасположенности Ростовцева как историка к сравнению Российской и Римской империй.
Положение, что «всякая история есть современная история»27, оказывается определяющим для Веса, равно как и обаяние позиции Момильяно. Вес не дает четкой аргументации своих взглядов или четкой системы выводов, в которой одно следует из другого, он скорее с большим увлечением рисует картину жизни Ростовцева в России и за рубежом, и одновременно с этим широко цитирует выдержки из работ самого Ростовцева, предлагая им иногда очень смелые толкования. Так, Вес видит в работе «Рождение Римской империи» (1918) не просто явное влияние российских революций, о чем говорит и сам Ростовцев, но буквально прямые сопоставления Цицерона с Керенским, Ленина с Катилиной, а Корнилова с Августом. Данное Весом истолкование - ничто иное, как риторический прием, в работе Ростовцев не проводит ни этих сравнений, ни других в этом
же духе.
Вес затрагивает широкий спектр русской жизни, и приводит множество фактов и мнений русских мыслителей, политиков и историков о русской революции, однако его подход содержит в себе несколько допущений сомнительного характера. Во-первых, перед нами на самом деле просопографический подход: Вес рассматривает жизнь и произведения тех людей, которые так или иначе были связаны с Ростовцевым. Такой подход в том или ином виде всегда приходит к отождествлению или, по крайней мере,
26 См. об этом также: William М. Calder III. Rev.: Wes M.A. Michael Rostovtzeff. Historian in Exile: Russian Roots in an American Context (Historia Einzelschr. LXV). Stuttgart, 1990II Bryn Mawr Classical Review. V. 2. № 3. 1991. P. 158-162.
Wes M.A. Michael Rostovtzeff. Historian in Exile: Russian Roots in an American Context (Historia Einzelschr. LXV). Stuttgart, 1990. P. 61.
Очень симптоматичен тот факт, что точка зрения Веса очень быстро
трансформировалась у некоторых исследователей в точку зрения Ростовцева. Так, в
<^Р предисловии к современному изданию «Рождения Римской империи» А. Арсентьев
пишет: «Ростовцев проводил смелые исторические параллели: в Ленине он видел Катилину» и т.д. Арсентьев А. М.И. Ростовцев и его взгляд на историю гражданских войн в Древнем Риме // Ростовцев М. Рождение Римской Империи. М., 2003. С. 6. Таким образом и рождаются историографические мифы.
16 к очень близкому положению взглядов группы и отдельного индивида.
^ Таким образом, слова М.О. Гершензона, высказанные в письме в В.И.
Иванову, о том, по сути дела религиозном, переживании, которое он испытал в качестве одного из последствий революции, оказываются почти что доказательством того, что Ростовцев пережил нечто подобное . Более того, высказывание стороннего наблюдателя о том, что русские склонны использовать прошлое в политических целях применительно к настоящему (сказанное по поводу одного из скандалов в эмигрантской среде вокруг «Слова о полку Игореве»), оказывается не менее важным доводом.30 Другим заметным недостатком просопографии является то, что на самом деле она
^ дает очень узкую картину: картину круга знакомых, и мешает иногда увидеть
то или иное явление во всей его полноте. Так, для Веса оказывается очень важным тот факт, что Луначарский был двоюродным братом Ростовцева, и он тщательно изучает, как относились к Луначарскому в семье, хотя мы вряд ли можем утверждать, что отношения в семье как-то повлияли на суть разногласий между Луначарским и Ростовцевым по вопросам культурной политики .
Во-вторых, биографический подход Веса увлекает за собой исследователя, заставляет видеть в произведениях Ростовцева прямое
влияние окружающей реальности. Вес строит логические цепочки следующего типа: революция пробудила религиозные чувства многих русских интеллигентов - Ростовцев был русским интеллигентом, следовательно, революция должна была пробудить и его религиозные чувства - соответственно, появление ряда работ Ростовцева в 20-е гг. XX в., где он говорит о религии, объясняется именно этим всплеском религиозности. Очевидно, что среднее звено такой логической цепочки является самым спорным. У нас нет никаких прямых свидетельств,
» —: =
29 Op. cit. Р. 72.
30 Op. cit. Р. 89.
31 Впрочем, сходную с Весом точку зрения высказывает и Г.С. Лебедев. Лебедев Г.С.
История отечественной археологии. 1700-1917 гг. СПб., 1992. С. 418.
исходящих от самого Ростовцева, где бы он говорил об особых мистических настроениях, пережитым им после революции, равно как у нас нет и никаких ясных доказательств некоей «слабой» религиозности Ростовцева до революции. Приводимые Весом слова сына Тырковой-Вильямс, А. Бормана («Он (Ростовцев - С.К.) смотрел на жизнь с гримасой; все происходящее в настоящем уже случалось много раньше, в античном мире. Но его спокойная мудрость исчезала, как только ему напоминали о неизбежности смерти» ) свидетельствует о многом в личных взглядах Ростовцева, но только не о том, что после эмиграции он пережил всплеск религиозного чувства.
В основных своих выводах, хотя и не сформулированных отдельно, Вес остается сторонником Момильяно: это видно, например, в его строгой убежденности в том, что Ростовцев был поклонником «просвещенной монархии» в России33. Как и свойственно биографическому направлению, автор не углубляется в теоретико-методологические проблемы, в принципе не ставит вопрос о модернизаторстве и не дает анализа научных трудов Ростовцева.
Из важных работ Веса обязательно упомянуть также статью «Русское окружение молодого Михаила Ростовцева» (1988)34, в какой-то мере послужившую предварительной основой изложенной нами монографии. В ней Вес подробно описывает семью Ростовцева, особенно в социологическом аспекте, касается особенностей гуманитарного образования в России и пробует показать механизм влияния окружения (background) Ростовцева на его будущие работы, прежде всего на «Социально-экономическую историю Римской империи». Вес подчеркивает, что описание Римской империи периода господства образованной буржуазии есть описание Ростовцевым его видения России. Конечно, Вес не в состоянии разрешить возникающие при таком истолковании сложности: что понимать под «буржуазией» в России?
32 Op. cit. Р. 66.
33 Op. cit. Р. VIII.
34 Wes М.А. The Russian Background of the Young Michael Rostovtzeff II Historia. 1988. №
37. P. 207-221.
Мещанина Вес сам определяет как «горожанина низшего класса»,35 признает он также и сложности в дефиниции интеллигенции . Но если буржуазии как оформленного класса в России не было, и Ростовцев это понимал, то как можно считать его историю Рима, где постоянным действующим лицом называется буржуазия, зеркальным отражением истории России?
Вес признает спорность своего подхода: он описывает только условия, которые являются как бы общей сетью, и Ростовцев где-то попадает в эту сеть, а где-то остается вне неё. В любом случае, следует признать, что именно работы Веса оказались самым ярким событием в историографии Ростовцева последних лет, и хотя их метод может быть предметом дальнейшей дискуссии, их ценность, заключающаяся в новой, более глубокой оценке «внутреннего русского мира» Ростовцева, несомненна.
Монография Веса вызвала широкий отклик в научном мире, вызвав ряд интересных рецензий. Среди них особенно выделяется статья Б.Д. Шоу, заявленная как рецензия на монографию Веса и на французское издание «Социально-экономической истории Римской империи» (1988), - «Русскими глазами» (1992), которая по своему уровню выходит за рамки рецензии и является самостоятельным исследованием. Статья Шоу может считаться также безусловным образцом биографического подхода, но она построена на несколько иных принципах, в частности, на более строгом и более тонком подходе, чем у Веса.
Шоу вносит, с одной стороны, ряд ценных наблюдений, которые имеют значение и как биографические по отношению к Ростовцеву, и как аналитические по отношению к его работам. Так, Шоу дает таблицы объема написанного Ростовцевым по пятилетиям за период 1898-1943 гг. (последняя дата - дата серьезной болезни Ростовцева, после которой он практически полностью отошел от научной жизни), а также процентного соотношения
35 Op. cit. Р. 207. 360р. cit. Р. 214. 37 Ibid. Michael Rostovtzeff. Historian in Exile: Russian Roots in an American Context. P. VIII.
Horsfall H. M.I. Rostovtzeff, storico, filologo, russo, politico... II Quaderni di storica. Bari. 1992. №35. P. 117-123.
написанного на разных языках. Шоу, таким образом, удается
^ продемонстрировать на материале работ самого Ростовцева важнейшие
кризисы в его жизни: наиболее продуктивные периоды научного творчества в 1898-1903 гг., 1923-1928 гг. (максимальный взлет) и 1938-1943 гг., а также показать, что если до 1918 г. Ростовцев в основном писал на русском и немецком языках, то после 1918 г. подавляющее преобладание (всегда более 50%) в его сочинениях получает английский язык.39
Шоу подвергает серьезной критике ту основную логику биографии
Ростовцева, которая утвердилась начиная с Момильяно. Конечно,
Момильяно лично знал, и хорошо знал Ростовцева, но ведь Момильяно
fa должен был также знать и большую проблему своего объяснения: опыт
изгнания не дал такого чудесного эффекта для всех эмигрантов, который он дал для Ростовцева.40 Шоу предлагает более широкое объяснение рождения новых концепций у Ростовцева: не отрицая совершенно влияния революционных лет, он существенно корректирует понимание такого влияния. «Причины особого видения античности Ростовцевым лежат в частично сознательной, частично специфической реакции на его опыт 1917-1919 гг. - но только частично».41 Суть замечаний Шоу сводится к тому, что Ростовцева нужно понимать не только в «страдательном», «пассивном» плане, как человека, на которого действовали события, а как активную общественную, в том числе политическую, фигуру,42 человека, который жил в обществе тех лет и который тоже мучался проблемами, породившими революцию. «Зачарованность вопросом о влиянии на Ростовцева его прямого опыта революции 1917 г. ведет к риску не заметить этих долговременных, основных российских тенденций, которые отличают «Восток» от «Запада»,
*
39 Shaw B.D. Under Russian eyes IIJRS. 1992. № 82. P. 218.
40 Op. cit. P. 222.
41 Op. cit. P. 220.
42 Op. cit. P.225.
понимание которых может быть почти зачатком для настоящего понимания его работы».43
Наконец, признавая немаловажное значение выяснения влияния на Ростовцева его учителей, Шоу и здесь предостерегает биографов от чрезмерного увлечения: невозможно свести весь значительный созидательный талант Ростовцева к влиянию на него каждого учителя, который у него был; «молодое поколение русских ученых больше влияло на старшее поколение, чем находилось под их влиянием»44.
Шоу также приводит серьезные доводы в пользу пересмотра мнения Момильяно о Ростовцеве как о либеральном историке — по крайней мере, в западном понимании этого слова.45 Таким образом, вклад Шоу в изучение Ростовцева состоит в серьезном критическом осмыслении результатов работы его биографов и заставляет искать более сложные объяснения там, где, казалось бы, утвердились простые.
Ведущим современным представителем аналитического подхода можно назвать Ж. Андро, некоторые из работ которого переведены на русский язык.46 Андро подходит к решению вопросов о концепциях Ростовцева, исходя из принципа анализа самих произведений; сведения о круге общения Ростовцева им привлекаются мало. Сам Андро не стоит на позициях Ростовцева, даже на тех, которые он склонен признавать до сих пор не устаревшими, и последовательно отстаивает невозможность признания существования капитализма в античной экономике или буржуазии в античных городах. Его работы особенно ценны тем, что он, во-первых, показывает судьбу ростовцевских идей - их влияние на последующее
43 Op.cit. Р. 220-221.
44 Op. cit. Р. 222.
45 Op. cit. Р. 223-227.
6 Андро Ж. Влияние М.И. Ростовцева на развитие западноевропейской и североамериканской науки // ВДИ. 1991. № 3. С. 166-176; Он же. М.И. Ростовцев и экономическое поведение элит («буржуа» и «рантье») // ВДИ/1994. № 3. С. 223-229. Из непереведенных работ мы воспользовались важной статьей, касающейся проблемы модернизации истории у Ростовцева. Andreau J. М. Rostovtseff et le "capitalisme" antique vu de russie II Pallas. Revue d'Etudes Antiques. Tome XXXIII. 1987. Sur le "Capitalisme Antique" un inediten francais de Rostovtseff. P. 7-17.
развитие историографии и их возможную актуальность для настоящего времени, во-вторых, тем, что он ставит целью объяснить причины жизнеспособности теорий Ростовцева, выделяя, таким образом, определенные принципы научной работы последнего.
В качестве некоторых критических замечаний по отношению к идеям, высказываемым Андро, мы должны заметить, что, на наш взгляд, подробный анализ действительно сложных объяснений социальных процессов в древности, которые давал Ростовцев, приводит Андро к тому, что он иногда слишком далеко заходит в «расчленении» концепций Ростовцева, и внутренне целостное (хотя это диалектическая целостность) мышление Ростовцева оказывается набором очень интересных и противоречивых объяснений, из которых одному отдается предпочтение, а остальные отходят на задний план, и служат как бы всего лишь «подстраховкой» основного от чрезмерного схематизма.47 Андро, кажется, сам чувствует этот перебор аналитического подхода, но перед нами тот случай, когда метод оказывается сильнее исследователя; неслучайно тот же излишек аналитического, разнимающего целое на части, подхода отмечает и статью Рейнхольда.
Серьезную работу по исследованию связей Ростовцева с Италией и итальянской наукой а также по новому изданию трудов самого Ростовцева проводит А. Маркове. Работы Марконе показывают взаимовлияние
См.: Андро. М.И. Ростовцев и экономическое поведение элит («буржуа» и «рантье»). С. 228-229.
48 Marcone A. Michele Rostovtzeff е Tlstituto Archeologico Germanico di Roma: la correspondenza con Christian Hulsen (1894-1927) II Critica Storica. 1988. № 25. S. 339-350; Idem. Una росо nota recenzione di M. Rostovzev II Athenaeum. 1987. № 75. P. 541-542; также см.: Ляпустина Е.В. Рец. - Rostovtzeff М. Per la storia del colonato romano. Edizione italiana a cura di Amaldo Marcone. Brescia: Paideia Editrice. 1994. - 423 p.; Rostovtzeff M. Scripta varia. Ellenismo e Impero romano. A cura di Arnaldo Marcone. Bari: Edipuglia. 1995. — XXXIII, 490 p.; Rostovtzeff M. Per la storia economica e sociale del mondo ellenistico-romano. Saggi scelti. A cura di Tommaso Gnoli e John Thornton. Introduzione di Mario Mazza. Catania: Edizione del Prisma. 1995. - LXXXV, 237 p. II ВДИ. 1997. № 4. С 195; Christina Huemer. Rev.: Anialdo Marcone (ed.) Rostovtzeff e I'ltalia. Proceedings of: Incontri peragini di storia della storiografia antica e sul mondo antico, IX, Gubbio, 25-27 May, 1995. Napoli: Edizioni Scientifiche Italaine, 1999. Pp. 468 II Bryn Mawr Classical Review. 2000. 07. 16. II http: II .
Ростовцева и различных представителей европейской науки; этим он стоит ближе скорее к исследователям биографического направления.
Исследователем Ростовцева, чьи работы написаны и в аналитическом и в биографическом ключе, можно считать Г.У. Бауэрсока. Речь идет не о механическом разделении его работ - написанных с преобладанием аналитического подхода49 или биографического подхода,50 но о том, что Бауэрсоку удается не останавливаться на одном анализе биографического материала, но выходить на понимание концепции гораздо шире, чем это свойственно биографам. Так, в статье «Ростовцев в Мэдисоне», Бауэрсок показывает, что 1920-1925 гг., годы преподавания Ростовцева в Висконсинском университете, были важнейшими годами в смысле формирования Ростовцева как ученого, вышедшего «из забвения к величию»51. Бауэрсоку, как нам представляется, удается уйти от присущей исследователям биографического направления иллюстративности в подаче материала и приблизиться к изображению непосредственных связей между окружающей действительностью, меняющимся мировоззрением историка и появлением исторической концепции.
Превосходным образцом аналитической статьи, написанной для российского журнала, но базирующейся на достижениях западной историографии, следует считать работу X. Хайнена «Эллинистический Египет в трудах М.И. Ростовцева», которая по сделанным в ней замечаниям выходит на общие проблемы методики научной работы Ростовцева и его влияния на западную и советскую историографию. Так, Хайнен показывает, что на дореволюционном этапе своего творчества Ростовцев уже поднимал те вопросы, которые после стали основными темами его фундаментальных трудов в период эмиграции. По сути дела, выводы Хайнена совпадают с утверждениями Б. Шоу, когда первый пишет: «Опыт Октябрьской
49 Bowersock G.W. The Social and Economic History of the Roman Empire by Michael
Ivanovitch Rostovtzeff.
50 Бауэрсок Г.У., Бонгард-Левин Г.М. М.И. Ростовцев и Гарвард // ВДИ. 1994. № 1. С. 204-
215.
51 Bowersock G.W. Rostovtzeff in Madison II The American Scholar. 1986. № 55. P. 400.
революции не был решающим поворотным пунктом в историческом мышлении Ростовцева, но наоборот, эта революция была следствием тех проблем, которыми были заняты умы многих русских людей и в том числе Ростовцева еще в конце XIX в.» . Кроме того, Хайнен высказывает очень взвешенную и в определенной мере компромиссную точку зрения на проблему методологических взаимосвязей Ростовцева с марксизмом.53
В любом случае, мы должны отметить, что западная историография Ростовцева прошла большой путь и основывается на серьезной традиции. Количество работ о Ростовцеве не следует преувеличивать, однако внимание к нему остается неослабевающим, и по сути дела, в настоящее время ростовцевская тематика разрабатывается всесторонне. Ростовцев и его наследие, пусть в другом качестве, чем прежде, остается актуальным и спорным.
Для советской историографии античности имя Ростовцева долгое время оставалось запретным,54 никаких специальных работ его концепции посвящено не было, не считая достаточно поздно вышедшей и краткой статьи В.И. Кузищина в «Советской исторической энциклопедии»55. Это не означает, однако, того, что Ростовцев не имел влияния на советскую историографию античности, и в нашем исследовании мы постараемся показать, что в 1920-1930-е гг. ростовцевские идеи были не менее популярны в советском антиковедении, чем на Западе, хотя и воспринимались своеобразно. Конечно, систематического анализа работ Ростовцева не предпринималось, тем более, его имя фактически исчезло из истории науки. Неудивительно поэтому, что «возвращение Ростовцева» в Россию
Хайнен. Указ соч. С. 165.
53 Там же. С. 175.
54 Например, даже у Е.М. Штаермап, в единственной во всей советской историографии
фундаментальной работе о кризисе III в., нет сноски на «Социально-экономическую
историю Римской Империи», хотя и сказано, что именно эта работа сыграла решающую
роль в изучении данной темы. Штаермап Е.М. Кризис III века в западных провинциях
Римской империи. М., 1957. С. 3-4.
55 Кузищин В.И. Ростовцев М.И. // Советская историческая энциклопедия. Т. 12. М., 1969.
С. 218-219.
начиналось с изучения тех тем в его творчестве, которые были тесно связаны с территорией самой России, прежде всего с археологией Южной России, и менее всего касались античной экономики. Так, в 1988 г. О.Н. Грива защитил кандидатскую диссертацию на тему «Вопросы скифской истории в трудах М.И. Ростовцева», где приходил к выводу, что «как бы далеко ни заходил М.И. Ростовцев в своем увлечении модернизацией варварского мира, большинство его построений легло в основу современных исследований о Скифии»56.
В монографии Г.С. Лебедева «История отечественной археологии. 1700-1917 гг.» (1992) Ростовцеву отводится место «крупнейшего из представителей заключительного этапа развития дореволюционной археологии» . Лебедев дает подробное изложение и анализ ростовцевской концепции развития Южной России в античное время, давая очень высокую оценку идеям Ростовцева относительно «эллинства и иранства», понимая подход Ростовцева как культурно-исторический58 и в этом смысле «методически новаторский»59. Кроме того, Лебедев впервые излагает и очень острую политически точку зрения Ростовцева на положение культуры в России60, основываясь на статье последнего «Наука и революция»61.
Одной из важных заслуг данной работы является то, что Лебедев также попытался дать объективную, неполитизированную оценку влияния революции на развитие археологии, исходя из широкого контекста развития мировой культуры и учитывая личные решения российских интеллектуалов. Мы должны заметить, что в вопросе о «мере ответственности» уехавшего из России Ростовцева Лебедев не учитывает ряда важных моментов. Он сравнивает уехавшего Ростовцева с оставшимися В.В. Латышевым, Б.В. Фармаковским и С.А. Жебелевым, хотя при этом, конечно, и не берет на себя
56 Грива О. Н. Вопросы скифской истории в трудах М.И. Ростовцева. Автореф. дисс. ...
к.и.н. Симферополь, 1988. С. 9.
57 Лебедев Г.С. История отечественной археологии. 1700-1917 гг. С. 383.
58 Там же. С. 385.
59 Там же. С. 388.
60 Там же. С. 416-418.
61 Ростовцев М. Наука и революция // Русская мысль. 1917. № IX-X. С. 1-16.
роль судьи. Это сравнение кажется нам не вполне корректным: все названные ученые были гораздо дальше от политики, чем Ростовцев, который входил в ЦК кадетской партии, сотрудничал с Временным Правительством. Далеко не все очевидно с отъездом Ростовцева из России в 1918 г.: очень вероятно то, что первоначально он действительно ехал в научную командировку, и только начало гражданской войны заставило его отказаться от возвращения на родину.
Современная российская историография Ростовцева сосредотачивается вокруг серии публикаций в «Вестнике древней истории», и подытожившей их книге «Скифский роман» (1997). Начиная с 1989 г. публикации в «Вестнике древней истории» выходят по нарастающей, достигая своего пика в 1996-1997 гг. После выхода в 1997 г. книги «Скифский роман» объем публикаций несколько снизился, но и до сих пор журнал продолжает работу с ростовцевским наследием. Эти публикации справедливо следует считать единой серией, и многие из статей, впервые опубликованных в журнале, воспроизведены в «Скифском романе», обычно с незначительными изменениями. Следует отметить, что к работе с наследием Ростовцева были привлечены лучшие представители российской историографии античности (Г.И. Бонгард-Левин64, В.И. Кузищин65, Э.Д. Фролов66, Г.А. Кошеленко67,
ы Лебедев. Указ. соч. С. 419.
63 См.: Скифский роман. М., 1997. С. 124-144.
64 Бонгард-Левин Г.М., Литвиненко Ю.Н. М.И. Ростовцев и У.Л. Вестерманн: диалог
историков // ВДИ. 1996. № 3. С. 166-184; Бонгард-Левин Г.М., Тункина И.В. М.И.
Ростовцев и А.А. Васильев (новые архивные материалы) // ВДИ. 1996. № 4, С. 168-189;
Бонгард-Левин Г.М., Вахтель М., Зуев ВЛО. Михаил Иванович Ростовцев и Вячеслав
Иванович Иванов (новые материалы) // ВДИ. 1993. № 4. С. 210-222; Бауэрсок Г.У.,
Бонгард-Левин Г.М. М.И. Ростовцев и Гарвард // ВДИ. 1994. № 1. С. 204-215; Бонгард-
Левин Г.М., Бонне К., Литвиненко Ю.Н., Марконе А. «Монгол приветствует сирийца»:
переписка М.И. Ростовцева и Ф. Кюмона // ВДИ. 2000. № 3. С. 142-159; Бонгард-Левин
Г.М. Портрет М.И. Ростовцева кисти К.А. Сомова // ВДИ. 1994. № 2. С. 184-188; Он же.
Индийское путешествие М.И. Ростовцева // ВДИ. 1995. № 3. С. 195-204; Он же. М.И.
Ростовцев и И.И. Бикерман (новые архивные материалы) // ВДИ. 1995. № 4. С. 180-204;
Он же. М.И. Ростовцев и ЭХ Миннз // ВДИ. 1997. № 1. С. 184-220; Он же.
Неопубликованная статья М.И. Ростовцева о зверином стиле // ВДИ. 2001. № 2. С. 178-
180. Помимо этого, ряд его статей вышел и в других изданиях. Например: Он же.
Академик М.И. Ростовцев и русская эмиграция // Культурное наследие российской
Ю.Г. Виноградов68, А.И. Павловская69, Ю.Н. Литвиненко70, В.П. Яйленко71,
ТУ ЇХ
СЛО.Сапрыкин , а также В.Ю. Зуев ) и, кроме того, основные зарубежные исследователи творчества Ростовцева (Г.У. Бауэрсок74, А. Марконе75, Б.Д. Шоу , П.М. Фрэзер , X. Хайнен , Ж. Андро). Основные направления
эмиграции (1917-1940). М., 1994. Кн. 1. С. 130-136; Он же. Изгнание в вечность. Академик Ростовцев // Русская мысль. 1999. №№ 4289,4290.
65 Кузищин В.И. О публикации новых глав труда академика М.И. Ростовцева // ВДИ. 1989.
№ 1.С. 206-207.
66 Фролов Э.Д. Судьба ученого: М.И. Ростовцев и его место в русской науке об
античности//ВДИ. 1990. №3. С. 143-165.
67 Кошеленко Г.А., Гаибов В.А. Дура-Европос после М.И. Ростовцева // ВДИ. 1999. № 3.
С. 221-233.
68 Виноградов Ю.Г. Переписка М.И. Ростовцева с Хр. Хюльзеном, Э. Петерсоном и Р.
Дельбрюком (из архива Римского отделения Германского Археологического института) //
ВДИ. 1995. № 2. С. 204-211; Он же. Возвращение М.И. Ростовцева России (К выходу
книги «Скифский роман» / Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. М., 1997) // ВДИ. 1999. №
2. С. 229-232.
69 Павловская А.И. О роли М.И. Ростовцева в развитии папирологических исследований в
России // ВДИ. 1997. № 1. С. 169-184.
70 Литвиненко Ю.Н. Птолемеевский Египет Ростовцева // ВДИ. 1999. № 4. С. 180-189; Он
же. Египетские путешествия М.И. Ростовцева// ВДИ. 2001. № 3. С. 140-149; Литвиненко
Ю.Н., Спиченко Н.К. Первое африканское путешествие М.И. Ростовцева // ВДИ. 2002. №
4. С. 156-171.
Яйленко В.П. Из истории антиковедения в Российской Академии наук: записка В.В. Латышева об ученых трудах М.И. Ростовцева // ВДИ. 1991. № 2. С. 215-220.
72 Сапрыкин СЮ. Академик М.И. Ростовцев о Понтийском и Боспорском царствах в свете
достижений современного антиковедения // ВДИ. 1995. № 1. С. 201-210.
73 Зуев В.Ю. М.И. Ростовцев и неизвестные главы книги «Скифия и Боспор» // ВДИ. 1989.
№ 1. С. 208-210; Он же. Творческий путь М.И. Ростовцева (К созданию «Исследования по
истории Скифии и Боспорского царства») // ВДИ. 1990. № 4. С. 148-153; 1991. № 1. С.
166-176; Он же. Краткий обзор работ М.И. Ростовцева из Центрального Государственного
Исторического архива СССР (Ленинград) // ВДИ. 1991. № 4. С. 145-151; Он же.
Международная конференция «Академик М.И. Ростовцев и его вклад в мировую науку»
(Москва- Санкт-Петербург, 6-8 сентября 1993 г.) // ВДИ. 1994. № 1. С. 230-232.
74 Бауэрсок Г.У. Южная Россия М.И. Ростовцева: между Ленинградом и Ныо-Хейвеном //
ВДИ. 1991. №4. С. 152-162.
75 Марконе А. Петербург - Рим - Берлин: встреча М.И. Ростовцева с немецким
антиковедением // ВДИ. 1992. № 1. С. 213-225; Он же. Ростовцев в Италии // ВДИ. 1994.
№ 4. С. 183-191; Он же. Ростовцев и Италия. IX Перуджийский коллоквиум по истории
историографии (Губбио, 25-27 мая 1995 г.) // ВДИ. 1995. № 4. С. 223-224; Он же.
Международная конференция «Михаил Иванович Ростовцев» (Париж, 17-19 мая 2000г.) //
ВДИ. 2000. №4. С. 214-216.
76 Шоу Б.Д. Два историка в изгнании: переписка М.И. Ростовцева и Ф.М. Хайхельхайма //
ВДИ. 1994. №2. С. 171-184.
77 Фрэзер П.М. Михаил Ростовцев: иллюстративность и обновление // ВДИ. 1991. № 2. С.
220-222.
78 Хайнен X. Эллинистический Египет в трудах М.И. Ростовцева // ВДИ. 1992. № 2. С.
163-179.
публикаций следующие: публикация малоизвестных статей Ростовцева, сопровождающаяся кратким предварительным комментарием; работы, посвященные некоторым аспектам научной работы Ростовцева; публикация архивных материалов и биографические статьи; рецензии на вышедшие работы о Ростовцеве и информация о конференциях, посвященных ему.
Преобладающее место среди публикаций занимает обработка архивных материалов и биографические статьи. Рассматриваются взаимоотношения Ростовцева с представителями европейско-американской и русской науки, такими как У.Л. Вестерманн, Ф. Кюмон, Э.Х. Миннз, А.А. Васильев, Ф.М. Хайхельхайм, Хр. Хюльзен, а также с представителями русской культуры в эмиграции - с В.И. Ивановым, В.Д. Набоковым, И.А. Буниным и др. Их достоинством, как и в целом в рассматриваемых нами публикациях на базе «Вестника древней истории», является богатое использование архивных источников, многие из которых привлечены впервые и практически все впервые опубликованы на русском языке. Чтение «Скифского романа» дает такое широкое видение масштаба личности Ростовцева, какого не может дать ни одно другое издание. Часто, однако, собственный текст статьи в книге сводится к библиографическому описанию обнаруженных источников и краткому их комментарию; концептуальные замечания, если таковые наличествуют, подаются в виде общих фраз.
Работы о научном творчестве Ростовцева, написанные российскими историками, тесно связаны с изложением биографии Ростовцева, поскольку имя Ростовцева с конца 80-ых по сути дела возвращалось в России из небытия, и приходилось рассказывать о нем практически все. Неизбежен поэтому наиболее полный характер ранних очерков о Ростовцеве, неизбежна в известной степени и тенденция, проявившаяся впоследствии в измельчании проблем, выразившаяся наиболее ярко в том, что большая часть публикаций оказались результатом простой работы в архиве, - поскольку все
79 Например: Фролов Э.Д. Судьба ученого: М.И. Ростовцев и его место в русской пауке об античности // ВДИ.' 1990. № 3. С. 143-165.
основные идеи о творчестве Ростовцева были высказаны изначально. В работах западных исследователей, опубликованных на страницах «Вестника древней истории», охарактеризованных выше, при всем совпадении тематик и сходстве методов, прослеживается все-таки более тонкий подход, и это, несомненно, объясняется тем, что на Западе традиция изучения Ростовцева более давняя.
За пределами «Вестника древней истории» остается лишь ряд в основном разрозненных публикаций,8 по большей части тех же авторов и с теми же подходами. Известное нам исключение — публикации Ю.А. Окуня, который рассматривает творчество Ростовцева в более широком контексте, затрагивая проблемы глубинных, иногда неосознаваемых, культурных влияний и места ростовцевского наследия в русской и советской науке об античности.81
В целом в российской историографии о Ростовцеве наблюдается ряд особенностей. Во-первых, мы не находим никакой тенденции к скрытой полемике с Ростовцевым, которая, при всей давней успокоенности оценок, до сих пор по инерции остается в западной историографии: в современной российской науке к незнакомому и забытому Ростовцеву отношение уважительное, но при этом внутренне прохладное, он вернулся в Россию пока больше как предмет изучения, чем как «властитель дум», как истинный классик. В отличие от западных исследователей, представители отечественной историографии не были знакомы с работами Ростовцева со студенческой скамьи, поэтому биографический поход на Западе и в России отличаются. Уже в начале 90-ых гг. XX в., с запозданием, ученым последнего поколения советских историков (Э.Д. Фролову, В.И. Кузищину) удалось без оглядки на идеологические условия сформулировать то концептуальное
80 Напр., Куклина И.В. К портрету М.И. Ростовцева (из переписки А.А. Васильева и С.А.
Жебелева) // Античный мир. Проблемы истории и культуры. СПб., 1998. С. 433-440.
81 См.: Окунь Ю.А. М.И. Ростовцев: познавательный образ и социально-культурная
действительность русской историографии античности // Античность в современном
измерении. Казань, 2001. С. 123-126; Он же. Античность и М.И. Ростовцев в русском
военном образовании начала XX в. // Катанаевские чтения: Сб. науч. тр. Омск, 2003. С. 24-
27.
понимание Ростовцева, которое, на самом деле, является не началом нового этапа изучения ростовцевского наследия, а логичным завершением предыдущего этапа. Таким образом, вторая особенность современного российского этапа историографии о Ростовцеве заключается в том, что нового видения его концепций, которое бы базировалось на широком ознакомлении научного сообщества с теми трудами историка, которые до этого долго не переиздавались или никогда не переводились на русский язык, нет. Поэтому преобладают клишированные оценки, особенно, как это ни
парадоксально, среди нового поколения исследователей . Исключение из этого ряда составляет статья Г.С. Лебедева, являющаяся одновременно и рецензией на «Скифский роман», и самостоятельным размышлением о судьбах русской науки — ««Скифский роман» и его герой: М.И. Ростовцев и его место в отечественной исторической науке» (2003). Повторяя ряд своих предыдущих оценок, Г.С. Лебедев, кажется, впервые во всей историографии Ростовцева, отталкиваясь от биографии, выходит на общенаучные и частично общекультурные проблемы. В-третьих, таким образом, можно сказать, что российская историография начала постижение Ростовцева с изучения его биографии и только постепенно переходит к научному прочтению его трудов, в то время как западная историография, наоборот, перешла к биографии только много позже того, как состоялось такое прочтение.
В настоящее время можно говорить как о том, что тенденции западной и российской историографии Ростовцева совпали, так и о том, что само
82 См.: Аветисян К.А., Битюков К.О. - Wes М.А. Michael Rostovtzeff. Historian in Exile: Russian Roots in an American Context (Historia Einzelschr. LXV). Stuttgart, 1990 II ВДИ. 1994. №3. С 246-249.
Лебедев Г.С. «Скифский роман» и его герой: М.И. Ростовцев и его место в отечественной исторической науке // ВДИ. 2003. № 2. С. 171-185. Насколько такой подход адекватно передает методы и взгляды самого Ростовцева, вряд ли осознававшего «момент, когда задача планетарного самосознания человечества становится условием его выживания на планете» (С. 182) - вопрос дискуссионный; в любом случае, сам факт появления работы, ориентированной на новый уровень обобщения наследия Ростовцева, очень важен.
Это не спасает, однако, от досадных неточностей - так, на стр. 179 сказано о том, что зарплата Ростовцева в Мэдисоне составляла 5500 долларов в месяц — немыслимо огромная сумма в Америке 20-х гг. XX в. Конечно, речь идет о размере годового жалованья. См. Bowersock G.W. Rostovtzeff in Madison. P. 398: «per annum».
зо сотрудничество представителей зарубежной и отечественной науки, занимающихся изучением наследия ученого, оказалось плодотворным для обеих сторон. В том и в другом случае от изучения биографии снова пришлось обратиться к самим концепциям, что означает одно: в том или ином виде эти концепции признаны актуальными. Очевидно, что пристальное изучение жизненного пути любого исследователя не является самоцелью и означает всегда нечто большее, чем более или менее обязательную условность дать биографическую справку в целях полноты '-рассказа. Такое изучение рано или поздно возвращает нас к научному творчеству ученого, и в случае с Ростовцевым наша работа есть как раз такая попытка на новом этапе осмыслить одну из его концепций.
Бесспорно, научное творчество Ростовцева является гораздо более широким и сложным явлением, чем та небольшая часть, которой посвящена наша работа, и взятая нами в качестве главной темы концепция упадка цивилизации является только составной частью гораздо более широкой общей концепции античного общества у Ростовцева, которой он никогда не давал специального изложения, но которая без труда просматривается в его работах, посвященных самым различным вопросам социально-экономической, политической или религиозной и эстетической жизни античного мира. Эта более широкая и общая концепция до сих пор не получила в историографии своего действительно достойного и глубокого изложения, кроме некоторых кратких очерков,84 которые не могут считаться достаточным выполнением задачи. Задача такого изложения очень сложна и требует огромного объема работы, прежде всего в области сравнительного анализа достижений Ростовцева и общего развития историописания в первой трети XX в. - работа эта до сих пор не проведена. Тем не менее, вторым
84 Из очерков такого рода образцовой является работа Einaudi L. Greatness and Decline of Planned Economy in the Hellenistic World. Berne, 1950, посвященное критическому изложение «Социально-экономической истории эллинистического мира». В очерке дано краткое, хотя не лишенное деталей, воспроизведение структуры книги, дан анализ с фактической и отчасти с методологической точки зрения. Насколько нам известно, ни «Социально-экономическая история Римской империи», ни другие крупные работы Ростовцева такого изложения не получили.
важным принципом, из которого мы будем исходить в анализе всего одной ростовцевской концепции кризиса III в., будет принцип существования единой концепции античного общества, а следовательно, наше исследование ни в коем случае не может замкнуться на изложении только нескольких работ Ростовцева, посвященных Римской империи в III в. н.э.; мы считаем, что для уяснения общих принципов работы Ростовцева корректно и необходимо использовать другие его произведения, особенно в плане разного рода методических и методологических замечаний, содержащихся в них.
Важным вопросом при анализе работ Ростовцева является вопрос хронологический. Работы Ростовцева, не относящиеся непосредственно тематически ко времени кризиса Римской империи в III в. н.э., подразделяются нами, исходя из целей нашего анализа, на два рода: на работы, написанные до выдвижения концепции «крестьянского восстания» (до 1923-1926 гг.) и на работы, написанные после этого. Работы первого рода интересуют нас прежде всего с точки зрения зарождения особых мотивов в творчестве Ростовцева: кризиса культуры, противопоставления толпы и элиты, - с целью выяснения того, как, когда и в связи с какими темами античной истории зародились предпосылки возникновения концепции кризиса античной культуры. Работы второго рода важны тем, что благодаря им возможно проследить вероятные - хотя и не явные и открытые — реакции Ростовцева на критику его концепции, которые помогают яснее представить его собственные взгляды. Бесспорно, что публикация «Социально-экономической истории эллинистического мира», принятой научным сообществом гораздо более благосклонно, была в известной мере плодом именно такой реакции. С другой стороны, нам хотелось оспорить точку зрения, высказываемую во многих работах последнего десятилетия, будто Ростовцев целиком отказался от своей концепции «крестьянского восстания»: нам кажется, что реакция Ростовцева была сложнее, тоньше и интереснее, особенно с методологической точки зрения.
Мы считаем необходимым подойти к анализу творчества Ростовцева,
^ исходя из учета той ситуации, которая сложилась в современной
историографии вокруг его имени. С одной стороны, структура и тематика
нашего исследования неизбежным образом связана с современным
состоянием изученности проблемы и во многом отражает набор тех тем,
которые разрабатывались в связи с творчеством Ростовцева, начиная еще с
30-ых гг. XX в. С другой стороны, мы в известном смысле
противопоставляем себя некоторым традиционным моментам в понимании
Ростовцева, которые представляются нам мифологическими или просто
необоснованно априорными, и тем выводам, которые делаются на
Щ современном этапе исследований о Ростовцеве, которые рождают нередко
«новую мифологию». Так, чертой современного этапа является изучение российского периода жизни М.И. Ростовцева, но «новым мифом» (который авторы исследований чаще всего сознают, но при этом все равно подпадают под очарование) является склонность выводить все в Ростовцеве из России, и особенно из положения в ней гуманитарной науки или из социально-политических проблем. При этом наблюдается следующая особенность: на современном этапе историографии о Ростовцеве действительно преобладает новая тематика, но при всем том выводы, к которым она приходит, оказываются заимствованы из предыдущего этапа, когда творчество Ростовцева преимущественно критиковалось и было еще актуальной проблемой.
Нам представляется, что пристальный анализ концепции упадка античности у Ростовцева в состоянии будет дать определенную базу для верификации немалого объема сведений и мнений, накопившихся в историографии, посвященной работам ученого. Мы исходим из того основного принципа, что ключ к пониманию концепции ученого дает прежде 4| всего сама концепция, проанализированная по возможности корректно. Именно поэтому основная часть нашей работы посвящена подробному
разбору концепции, в соединении с очерками, излагающими общее состояние изученности проблемы до и после появления этой концепции.
Выявление контекста возникновения концепций Ростовцева, как в мире антиковедения, так и в общем в интеллектуальной научной среде, должно быть тесно связано с корректным отношением к уже затронутым нами вопросам хронологии. Научная деятельность Ростовцева охватывает полвека (от первой публикации в 1894 до последних публичных лекций в 1944 г.), и за это время содержание различных терминов и понимание ценности тех или иных подходов существенно изменились. Как и вся европейская цивилизация, историческая наука пережила в XX в. серьезные потрясения, которые отразились в том числе и в существенном изменении приоритетов. Ростовцев является в этом смысле сложной для понимания фигурой: он умел меняться, оставаясь самим собой. Пристальное изучение ряда таких изменений составляет важную часть нашего исследования, позволяя уже при предварительном сопоставлении отказаться от ряда общепринятых «стереотипных» оценок научной деятельности Ростовцева.
Далее в тексте нашей работы мы будем употреблять следующие общепринятые английские аббревиатуры для обозначения основных трудов Ростовцева: SEHRE - Social and Economic History of the Roman Empire. Oxford, 1926; SEHWW - Social and Economic History of the Hellenistic World. Oxford, 1941; EHR - The decay of the ancient world and its economic explanations// Economic History Review. 1930. Vol. II. P. 197-214; HAW - A History of the Ancient World. Oxford, 1928-1930. Vol. I-II.
Формирование исторических взглядов М.И. Ростовцева
Начавшийся в конце 80-ых годов прошлого столетия новый этап изучения творчества М.И. Ростовцева характеризуется прежде всего резким повышением внимания исследователей к биографии ученого, причем, в отличие от предыдущих исследований, не отдельных интересных фактов и анекдотов, а серьезной и подробной истории человеческой жизни. Показательно новой составляющей этого внимания является пристальное изучение российского этапа жизни Ростовцева. Опираясь на известное высказывание А. Момильяно1, М. Вес в своей монографии «Историк в изгнании. Русские корни в американском контексте» исходит из тезиса о решающем влиянии России и российского опыта на формирование взглядов Ростовцева как ученого2, а равным образом и на концепцию его основных трудов - «Социально-экономической истории Римской империи» и «Социально- экономической истории эллинистического мира». Очевиден и тот факт, что в изучении российского этапа жизни и творчества Ростовцева отечественные исследователи имеют определенные преимущества (в частности, отсутствие языкового барьера), что позволяет российской науке, до сих пор в силу политических причин обходившей Ростовцева, быстро стать вровень с западной. Таким образом, работ, как западных, так и отечественных о «молодом Ростовцеве» накопилось на сегодняшний день вполне достаточно для того, чтобы можно было их обобщить.
Под «молодым Ростовцевым» мы будем подразумевать ранние годы жизни ученого, считая условным рубежом начала зрелого этапа его поездку в Европу (1895-1898)3.
В данном параграфе мы рассмотрим возможные причины и реальные условия, которые могли оказать влияние на научные взгляды М.И. Ростовцева и послужить основой для его исторических концепций. Придется коснуться не только конкретных фактов жизни М.И. Ростовцева, но и некоторых общих условий существования российской науки и российского антиковедения конца XIX в., и мы попробуем показать, как эти общие условия могли сказаться на чертах характера отдельной личности. Конечно, вульгарно проводить прямую взаимосвязь между характером личности и характером эпохи, но при всем этом для нас важно уяснить контекст, в котором формировалась личность. Сам Ростовцев относился к людям, которых воспоминания о своей молодости никогда не заставляют взяться за перо.4 Он прожил достаточно долго для того, чтобы собственные молодые годы превратились для него в предмет грусти по прекрасному ушедшему и любви к нему, но нам остались от этой грусти и этой любви только отрывочные эпизоды, мелкие факты, которые никак не складываются в общую картину или хотя бы в слабое подобие таковой. В этих условиях мы, чтобы приблизиться к Ростовцеву, вынуждены, наоборот, как бы отдаляться от него, захватывая в наш кругозор различные общественные явления, которые мы попробуем отнести к нескольким факторам.
В общих чертах представляется возможным говорить о двух типах факторов: факторах времени, эпохи и факторах места, географии. М.И. Ростовцев родился 10 ноября 1870 г. в Житомире, детство его прошло в Киеве. Другими словами, Ростовцев жил в Российской империи последнего полувека ее существования. Семья Ростовцевых по западным меркам может быть отнесена к среднему классу; более того, Ростовцевым удалось выделиться из крестьянской массы сравнительно недавно - благодаря прадеду Михаила Ивановича. Отец Михаила Ивановича — Иван Яковлевич Ростовцев, продолжая дело своего отца, работал в сфере образования и в итоге дослужился до должности попечителя учебного округа в Оренбурге и чина действительного статского советника. Этим, однако, серьезные проблемы с определением социальной принадлежности семьи Ростовцевых не разрешаются: в России не было среднего класса как такового, и в конце XIX в. сословная принадлежность характеризовала положение человека в обществе лучше и полнее, чем классовая. Внешнее сходство положения Ростовцевых не должно заставить нас смешивать явления; кстати, с этой проблемой тесно связан и вопрос понимания Ростовцева как либерального историка - уже отмечалось, что Ростовцев был либералом в России, что очень мало совпадает с западным пониманием либерализма5.
Тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов факта удачного и быстрого подъема Ростовцевых по социальной лестнице. В глазах молодого представителя такой семьи капитализировавшаяся Россия была страной со вполне приемлемым путем развития, открывавшим простор для социального продвижения наиболее предприимчивым членам общества. Нужно полагать, что с таким отношением было связано и глубокое почтение к науке, связанное со стремлением Ростовцевых приобщиться к европейской культуре; как известно, приобщение к европейской культуре всегда так или иначе связано с приобщением к классической древности.
Основные черты методики и методологии научной работы М.И. Ростовцева
Прежде всего, мы находим нужным определиться в терминах, по той причине, что в вопросах методологии, несмотря на практически идентичные мнения различных исследователей в общем, до сих пор существует большое расхождение в частностях. Мы основывались в нашем исследовании на следующей иерархии понятий (от более узких к более широким): методика исторического познания, методология истории, философия (истории). Под методикой исторического познания мы понимаем систему методов как специальных приемов научного исследования, включая сюда также всю совокупность относящихся к конкретным фактам категорий (понятийный аппарат). Философию истории мы в первом приближении определим как область философии, обращенную к предельно общим закономерностям общественного развития и проблемам их познания. Методологию истории, таким образом, следует понимать как пограничную область исторической науки, что определяет, во-первых, в связи с философией, ее мировоззренческий характер1, во-вторых, по отношению к методике, ее принципиальный характер, ее осмысление и объяснение методики с точки зрения общих задач познания.
Методология может быть присуща как целому направлению исследователей, так и каждому конкретному ученому, причем принадлежность данного ученого к той или иной группе исследователей еще не означает, что его «личная» методология будет целиком совпадать с принятой в группе. Методология также может мыслиться как цельная и самостоятельная дисциплина и сфера мышления, а может как бы «разламываться» между методикой и философией истории, и в таком случае мы представляем себе не трех-, а двухстепенную иерархию, говоря о конкретно-исторической сфере познания и, в противоположность ей, о сфере метаисторической.2
Очевидно, что без методики и методологии не обходится ни одно серьезное исследование. Однако, пути формирования как первой, так и второй могут быть разными. Во-первых, путь может начинаться с постулирования определенной методологии, исходя из которой исследователь выбирает, какие методики для него приемлемы, а какие нет; или наоборот, от использования той или иной методики к осознанию принадлежности к определенной методологии.
М. Вебер замечал, что совершенно не обязательно всякому профессиональному историку уметь излагать свою методологию, равно как всякому ходящему знать анатомию человеческого тела3. Вышесказанное безусловно относится к М.И. Ростовцеву, который всегда отмечал свою склонность к работе с конкретным историческим материалом, никогда не утруждал себя длинными методологическими рассуждениями и далеко не всегда был склонен обосновывать свою методику.
Тем более важной становится задача определения основных особенностей методики и методологии М.И. Ростовцева. Следует оговориться, что мы остановимся только на базовых характеристиках, которые помогли бы нам прояснить общие методологические (мировоззренческие) установки М.И. Ростовцева, не ставя целью дать окончательный анализ. Мы также должны при этом учитывать, что чем более серьезные вопросы мы будем пытаться прояснить, тем более скользкими и спорными окажутся полученные при этом результаты, поэтому представляется необходимым изначально определиться с собственной методикой исследования.
Нам придется опираться на те немногочисленные работы и места из работ М.Й. Ростовцева, которые со всей условностью могут быть названы программными - те страницы, которые он посвятил обобщениям и размышлениям об истории в целом, и которых - в этом особенность творчества М.И. Ростовцева — у него меньше всего как раз в его ведущих трудах, «Социально-экономической истории Римской империи» (SEHRE) и «Социально-экономической истории эллинистического мира» (SEHHW).
Кроме того, мы должны будем привлечь в известном объеме материал сравнений и аналогий - например, схожие идеи, встречающиеся в трудах современных М.И. Ростовцеву и повлиявших на него историков; а также самый спорный материал — конкретно-исторические работы Ростовцева, исходя из которых мы попытаемся осуществить руконструирование его взглядов, что предполагает внимание к мелким замечаниям и суждениям, которые, безусловно, делались самим историком не с целью передачи специфических глубоких смыслов и без строгой ориентации на некую методологию.
Мы признаем, таким образом, что наша реконструкция взглядов Ростовцева будет нести черты приблизительности, как вследствие нечеткости самих этих взглядов, так и по причине трудностей их рассмотрения, указанных выше. Однако все-таки такая реконструкция представляется нам интересной не только в плане истории науки, но и в плане ценности опыта научной работы одного из крупнейших историков XX столетия.
Сам Ростовцев, в одной из своих автобиографических заметок, выделил два основополагающих принципа научного исторического исследования, которые представляли для него очевидную ценность. Во-первых, это требование рассмотрения любых (прежде всего социальных и экономических) проблем в их историческом развитии, в связи с другими явлениями, «а не в искусственной, «антикварной» оторванности»4. Во-вторых, всякое исследование должно стремиться к осмыслению имеющихся фактов во всей целостности, то есть «должно основываться не на сухом накоплении фактов, а на органическом согласовании их»5.
Таким образом, основополагающей характеристикой методики исторического исследования у Ростовцева выступает, на наш взгляд, целостность - внутреннее единство повествования, возвышающееся над разнообразием материала. Ниже мы поясним это соображение и конкретизируем его.
Целостность работ Ростовцева была замечена впервые в зарубежной историографии, причем при анализе шедевров, вершин научной деятельности ученого - SEHRE6 и SEHWW7, однако эта особенность прослеживается у Ростовцева гораздо раньше, по крайней мере, начиная с его работы «История государственного откупа в Римской империи» (1899) .
Проблема падения Римской империи в историографии античности конца XIX - начала XX вв
Мы намереваемся дать короткий очерк некоторых работ по истории Римской империи, так или иначе касавшихся проблемы упадка античности прежде всего с целью представить в общих чертах положение, сложившееся в мировой историографии античности до появления «Социально-экономической истории Римской империи», а также с целью показать возможные параллели и моменты воздействия, которые оказала литература означенного периода на Ростовцева, бесспорно, учитывавшего различные точки зрения и хорошо знакомого с огромным большинством работ, вышедших в свет в тот период.
Прежде, чем перейти к обозначенному обзору, нам кажется необходимым дать также конспективное изложение видения истории Римской империи II-V вв. у Э. Гиббона (1737-1794), чья система взглядов находится в числе своеобразных прототипов всех более поздних концепций римской истории. «История упадка и разрушения Римской империи» Гиббона является настолько же историческим сочинением, насколько и литературным, и поэтому любой его анализ всегда является в известной мере насилием над текстом.
Понятие «кризис III века» у Гиббона отсутствует, впрочем, как и выделение III в. в роли специфического, качественного перелома в жизни античного мира - как известно, Гиббон оканчивал свою историю «упадка и разрушения» Рима 1453 г. Тем не менее, многие наблюдения Гиббона нашли свое развитие в дальнейшем. Как известно, Гиббон начинает свой обзор с рассмотрения зачатков разложения римского мира во II в. н.э. Согласно Гиббону, первейшей из таких причин было то, что «пыл гения угас»,1 иначе говоря, произошло усреднение людей; империя подавила общественную жизнь. Гиббон выделяет также и фактор увеличения роли провинций и провинциалов в Риме, причем в качестве негативного, говоря о миллионах «раболепных провинциалов, получивших право называться римлянами, но нисколько не проникнувшихся духом этого народа».2 Кроме того, Гиббон считает главным виновником падения империи Септимия Севера, увеличившего «опасные привилегии»3 солдат. Сам период гражданских войн III в. получил у Гиббона почти исключительно описательную обрисовку: он видит в этих событиях один из тяжелых и переломных моментов в истории Рима, но не наблюдает внутренней целостности происходящих событий. Из важных моментов следует отметить указание Гиббоном на окончательное падение в результате событий III в. роли сената.4 Как мы видим, Гиббон называет ряд важных причин и далеко идущих последствий излагаемых им событий, однако какая-либо иерархия названных причин отсутствует. Нет необходимости говорить о том, что Гиббон отчетливо сформулировал и те важнейшие вопросы поздней римской истории, которые по сей день не утратили своего значения: о роли варваров и о роли христианства в крушении империи.
Одним из значительных трудов по истории Поздней империи, как это отмечал сам Ростовцев, была двухтомная «История Поздней Римской империи» (1889) Дж. Б. Бари (1864-1927) . Бари утверждает, что ни один период в истории не был столь сильно затемнен некорректными и ошибочными названиями (titles), как период поздней империи. Он отрицает существование какого-либо разрыва в развитии Римской империи вплоть до 1453 г. и, следовательно, существование какой-то отдельной «Византийской империи». «Каждое столетие Римской империи отличалось от предыдущих и от последующих, но развитие было непрерывным».
Ростовцев особенно отмечал очерк состояния Римской империи времен Диоклетиана и Константина, который дается в работе Бари, как образцовый6. Наиболее очевидным элементом слабости Римской империи Бари считает усиливающуюся депопуляцию - именно с попыткой остановить этот процесс он связывает семейное законодательство Августа.7 Основные причины «дезинтеграции» империи он видит в следующих факторах: в непроизводительности рабского труда (и в том, что рабовладельческая система поощряла практику сожительства, а не официальных браков, что не способствовало росту рождаемости); в тяжелом налогообложении; во ввозе варваров; в христианстве (которое, укрепившись среди германцев, вместе с ними разрушило империю). В частности, он говорит и о том, что происходило разрушение среднего класса в империи.9 Для Бари римский мир был «комплексом различных наций и языков, не достигшим настоящего глубинного единства, удерживаемым вместе так долго просто жестокой силой тиранического римского универсализма, выражавшегося в одном праве, одном общем языке, и в одном императоре — исключительно внешнее объединение»10.
Работа А. фон Домашевского «История римских императоров» (1909), освещавшая римскую историю до прихода к власти Диоклетиана, была написана в традиционном стиле изложения событий по императорским правлениям, при этом неизбежным оказывался примат политической истории с некоторым вниманием к истории культуры; из важных замечаний у Домашевского есть слова о том, что правление Севера оказалось фатальным в смысле преобладающего влияния солдатни;11 Домашевский не считает возможным обвинять христианство в гибели античной культуры, говоря о том, что в эпоху железного деспотизма Диоклетиана оно было единственной духовной силой.12
Немаловажное влияние на изучение кризиса III в. оказал Л. Омо, в особенности его статья «Император Галлиен и кризис III века» (19ІЗ)13, заложившая традицию апологетики Галлиена. Омо дал критический обзор латинских источников о Галлиене, увидев в них преувеличение и открытое очернение Галлиена, а кроме того сформулировал события его правления как кризис. В известной степени, Омо подтверждал противостояние между императором и сенатом как один их важных моментов данного кризиса.14 Однако, под кризисом Омо понимал сравнительно небольшой промежуток времени (258-268 гг. н.э.), а основными его проявлениями и, надо полагать, причинами, оказывались варварские вторжения.15 Положению Империи при Галлиене Омо дает только описание, но не анализ.
В конце XIX - начале XX вв. в историографии начинает преобладать стремление показать социальные и социально-экономические аспекты упадка Римской империи; в русле этой тенденции были написаны работы М. Вебера и Э. Мейера.
М.И. Ростовцев и модериизаторство
Тема, заявленная в названии данного параграфа, сложна по нескольким причинам. Одной из них является сильная нечеткость и неточность позиций и оценок, высказываемых в историографии применительно к «модернизаторству»; различное содержание, подразумеваемое разными исследователями под одними и теми же терминами; неясность соотношения различных терминов, употребляемых в литературе; наконец, неопределенность, появляющаяся со временем из-за трансформации позиций различных ученых. Другой сложностью, обычно возникающей при исследовании позиций именно Ростовцева, является упоминаемая нами выше «теоретическая неопределенность» многих ростовцевских построений, которая, накладываясь на сложности, возникающие при обращении к «модернизаторству», порождает запутанный узел противоречий и загадок. Оказывается очень легко сказать, что Ростовцев был модернизатором,1 или то, что он никогда не был свободен от тенденции к модернизации истории,2 или то, что в его работах модернизация проявляется то в большей, то в меньшей мере, или то, что при известной корректировке терминов и понятий работы Ростовцева окажутся совершенно немодернизаторскими по своей сущности,4 - но любое из этих утверждений остается в равной степени неудовлетворительным до тех пор, пока не будет дан ответ на главный вопрос: чем объективно было модернизаторство для Ростовцева и как он к нему относился?
Наша попытка предложить хотя бы приблизительное и ограниченное рамками нашей темы решение поставленной проблемы будет основываться на прояснении двух последовательных вопросов: первого, связанного с общетеоретическими и конкретно-историческими реалиями, под воздействием которых возникло и оформилось «модернизаторство», с целью выявить возможные интерпретации этого явления; второго, направленного на выяснение собственного отношения Ростовцева к «модернизации истории» и рассмотрение модернизаторских мотивов в его трудах.
Первый вопрос, который мы должны рассмотреть: вопрос терминологический. Мы должны учитывать то, что в западной историографии строгой терминологии не сложилось; пожалуй, точное определение было дано только в Советском Союзе, и принято было, соответственно, только в советской историографии. Согласно этому определению: «модернизация истории - перенесение понятий и оценок, применимых к явлениям и событиям более поздних эпох и периодов истории, на качественно отличные от них явления и события прошлого, ведущее к искажению исторической действительности».5 Заметим, что это определение строится на нескольких базовых допущениях: на том, что есть существенные (качественные) отличия между различными эпохами (а следовательно, должны быть и несущественные), и на том, что возможно достижение неискаженного («объективного») знания об исторической действительности. Эти два момента послужили опорой всей критики «модернизаторства», которой мы коснемся ниже.
Понятно, что такое, марксистско-ленинское, определение «модернизаторства» является скорее исключением, чем общепринятым утверждением. На Западе до сих пор широко и свободно используются понятия «модернизаторы» (modernizers), чаще «модернисты» (modernists), «модернизаторский подход» (modernist approach) и т.д. Очевидно, что такое состояние терминологии является отнюдь не случайным фактом, поскольку сама проблема модернизаторства в западной исторической мысли поднята давно и признана одним из важнейших историографических сюжетов. Перед нами скорее незаявленное, но негласно утвердившееся признание принципиальной невозможности дать единственное общепринятое определение.
Если некоторые ранние модернизаторские тенденции наблюдаются уже в трудах Моммзена,6 то формирование модернизаторства обычно относят ко времени дискуссии к. XIX в. между К. Бюхером и Э. Мейером. В последнее время, когда историография обратилась к истории проблемы, стал очевидным тот факт, что само слово «модернизаторы» является сравнительно поздним конструктом, и употреблять его по отношению к дискуссии Мейера - Бюхера не вполне правомочно. Как справедливо замечает М. Мадза (Mazza), нужно быть очень осторожным, говоря о споре между «примитивистами» и «модернизаторами», поскольку на самом деле такая терминология была чужда участникам дискуссии. Эти термины были привнесены только следующим поколением экономистов и антропологов, участвовавших в обсуждении проблем экономической истории древности. Применительно ко времени спора между Мейером и Бюхером обоснованнее говорить о направлении «эволюционизма» сторонников Бюхера и «циклической теории» сторонников Мейера.7 Мадза совершенно прав, когда говорит, что речь тут идет не об одних терминах, проблема гораздо глубже. Действительно, «модернизаторы» никогда не мыслили себя таковыми и не ассоциировали себя с неким единым течением науки или методологическим направлением. Сам термин «модернизаторство», таким образом, был не только сформулирован значительно позже тех тенденций, которые был призван объяснить, но и нес в себе известный негативный смысл. Поэтому нам кажется более правильным говорить скорее о проблеме модернизации истории в первой трети XX в., чем о модернизаторстве - поскольку как течения «в себе» его попросту не существовало.
Часто эту проблему отождествляют с проблемой аналогий, проводимых тем или иным историком между прошлым и своей современностью. Это положение оказывается очень легко проиллюстрировать известными примерами из Мейера: «Древнее царство времен постройки пирамид к концу третьего тысячелетия до Р.Х. превращается в феодальное государство»; «революция, от которой погибла римская республика»9; в предыдущей главе мы постарались показать, что такого же рода высказывания можно без труда найти и у Ростовцева. Но существуют определенные слабые стороны такого положения: возникает опасность отождествления позиций тех историков, которые на самом деле противостояли друг другу. Так, вполне возможно найти модернизаторские тенденции у М. Вебера: «Последние цезари борются с бегством горожан в деревню точно так же, как последние Гогенштауфены боролись против бегства крепостных крестьян в город»10; и это в полном противоречии с позициями самого Вебера, как их манифестировал он сам11 или как они оцениваются в историографии .