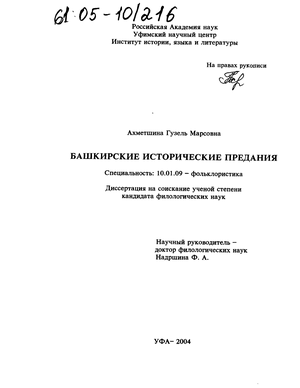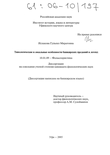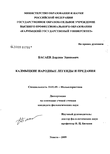Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Предание как жанр народной несказочной прозы
Глава II. Сюжетный состав башкирских исторических преданий 50
2.1. Предания о столкновении башкир с гуннами . 52
2.2. Предания об эпохе татаро-монгольского нашествия и Золотой Орды. 54
2.3. Предания о набегах - карымте и барымте (башкирско-казахские), о столкновениях с калмыками и др. 59
2.4. Предания о присоединении Башкирии к Русскому государству. 70
2.5. Предания о башкирских восстаниях XVII-XVIII вв. 78
2.6. Предания о благородных беглецах. 96
2.7. Предания об отечественной войне 1812 года 101
Глава III. Мотивы исторических преданий в башкирской литературе конца XX века (на примере романов Мираса Идельбаева, Яныбая Хамматова и Асылгужи о Салавате Юлаеве) 114
Заключение 133
Библиография 143
- Предание как жанр народной несказочной прозы
- Предания о столкновении башкир с гуннами
- Предания о набегах - карымте и барымте (башкирско-казахские), о столкновениях с калмыками и др.
- Мотивы исторических преданий в башкирской литературе конца XX века (на примере романов Мираса Идельбаева, Яныбая Хамматова и Асылгужи о Салавате Юлаеве)
Введение к работе
Актуальность темы. Необходимость монографического исследования башкирской несказочной прозы вызвана прежде всего ее важнейшим научно-познавательным значением. Легенды, предания, былички и другие устные рассказы, сведенные воедино и подвергнутые систематизации представляют как бы единое, крупно-плановое, полисемантическое повествование, при изучении которого проливается свет на самые глубинные корни истории народа. Особенно интересны в этом плане исторические предания. Как своеобразные памятники словесного искусства они являются важным источником и для изучения эстетических воззрений их создателей. В современных условиях, когда в обществе значительно возросла тяга к истокам культуры, обращение к исторической памяти предков приобретает особую значимость.
Разработка темы обусловливалась и требованиями исторической науки, которая в рассмотрении отдельных вопросов все больше и больше обращается к народному творчеству, но в нем зачастую видит лишь фактологическую сторону, минуя его эстетическую значимость.
Между тем, несмотря на многочисленные фиксации фольклорных произведений исторического содержания, они до недавнего времени привлекались как вспомогательный материал в историко-этнографических изысканиях и лишь с последней четверти XX века начался усиленный сбор фактического материала и подлинно научное освоение его (исследования A.M. Сулейманова, Ф.А. Надршиной, Б.Г. Ахметшина). Отдельной специальной монографии, посвященной историческим преданиям, пока еще нет. Это говорит о необходимости дополнительного сбора, выявлении новых материалов, особенно посвященных историческим личностям, в частности, о батырах, деяния которых известны в отдельных регионах. На наш взгляд, интересны предания, бытующие в Юго-Восточном Башкортостане, где особенно интенсивно протекали этноисторические процессы. Имена многих батыров, упомянутые в преданиях, требуют изучения, раскрытия их образов с точки зрения проблемы «историзм фольклора». Есть также необходимость более детального освещения этнокультурных, этноисторических связей башкир с другими народами. Башкирско-казахские, башкирско-русские отношения хорошо изучены в работах Ф.А. Надршиной, Б.Г. Ахметшина, И.Е Карпухина.
Цель и задачи исследования - монографическое исследование башкирских исторических преданий, выявления их специфики и исторических основ. В соответствии с целью исследования определился круг основных задач:
- определение специфики жанра преданий в системе жанров несказочной прозы;
- изучение их поэтики (отдельные аспекты);
- классификация материала по семантике сюжетов;
- изучение исторических корней идейно-эстетической основы исследуемых преданий с точки зрения научной проблемы «фольклор и действительность»;
- выяснение функциональной роли исторических преданий в произведениях отдельных писателей.
Теоретическая и методологическая основа. В методологическом плане автор придерживался сравнительно-исторического и историко-типологического методов. Теоретическую и методологическую основу работы составляют труды видных ученых-фольклористов и литературоведов В.М. Гацака, В.Я. Проппа, К.В. Чистова, Б.Н. Путилова, В.П. Аникина, Э.В. Померанцевой, В.К. Соколовой, И.А. Криничной, В.П. Кругляшовой, А.Н. Киреева, М.Х. Мингажетдинва, A.M. Сулейма-нова, Ф.А. Надршиной, Б.Г. Ахметшина, Х.Ш. Махмутова, Ф.И. Урман-чеева, Г.М. Давлетшина, С.А. Каскабасова.
Источниковой базой диссертации являются как опубликованные и архивные материалы, так и собственные записи автора, сделанные во время экспедиций. Изучены фольклорные фонды Научного архива Уфимского научного центра Российской Академии наук, кафедр башкирской литературы и фольклора, русской филологии Башкирского государственного университета, Стерлитамакской государственной педагогической академии. К анализу привлекались по мере надобности также литературные и историко-этнографические источники, фольклорные сборники других народов.
Научная и практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при разработке теории и истории башкирского фольклора и его жанров, в изучении отдельных проблем этногенеза, истории, этнографии и истории культуры народа. Они могут быть использованы также в курсах вузовских лекций, школьных занятий, в написании учебников и составлении программ по устному народному творчеству.
Апробация работы. Отдельные аспекты исследования нашли отражение в докладах и сообщениях диссертанта, сделанных на Республиканской научно-практической конференции «Творчество М. Уметбаева и духовная культура Башкортостана XIX-XX вв.» (Уфа, 2001), Международной научно-практической конференции, посвященной к 190-летию публикации эпоса «Куз-Курпеч» «Актуальные проблемы эпосоведения» (Уфа, 2001), Региональной научно-практической конференции «Первые Лазаревские чтения» (Челябинск, 2001), Международных научно-практических конференциях «Антропоцентрические парадигмы современной филологии» (Уфа, 2002), «Развитие социально-экономического и культурного сотрудничества Башкортостана и Украины» (Уфа, 2002), «Актуальные вопросы башкирского эпосоведения» (Уфа, 2002), Всероссийской научно- практической конференции «Эпос «Урал-батыр» и мифология» (Уфа, 2003), Республиканской научно-практической конференции, посвященной 70-летию М.М. Сагитова (с. Старо-Субхангулово Бурзянского района РБ, 2003), III Региональной научно-практической конференции «Городские башкиры» (г. Стерлитамак, 2004), II Международной фольклорной конференции «От общего тюркского прошлого к общему тюркскому будущему» (Баку, 2004), а также в 6 публикациях автора, опубликованных в научном сборнике и сборниках материалов международных, всероссийской, межрегиональных и республиканских конференций.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии.
Историография. Мотивами легенд и преданий насыщены генеалогические летописи (шежере) - своеобразные историко-литературные памятники старого времени. Сведения о предках в ряде случаев связаны здесь с рассказами о событиях, происходивших при их жизни. Например, основная часть шежере, посвященная истории юрматынцев, перекликается с бытовавшими в народе до недавнего времени историческими преданиями1. В другом шежере карагай-кыпсакского рода племени кыпсак изложено в форме предания содержание эпоса «Бабсак и Кусяк»2. Не случайно поэтому авторы этнографических очерков и статей прошлого века называли башкирские шежере по-разному: преданиями3, хрониками4, историческими записями5.
Башкирские шежере / Сост., перевод, введение и коммент. Р.Г. Кузеева. - Уфа: Баш. кн. изд-во, 1960. - С. 27-28.
2 Там же.-С. 110-111.
3 Юматов B.C. Древние предания башкирцев Чубиминской волости / B.C. Юматов // Оренбургские губернские ведомости. - 1848. - № 7. - С. 45-48.
4 Лоссиевский М.В. Былое Башкирии по легендам, преданиям и хроникам / М.В. Лоссиевский // Справочная книжка Уфимской губернии. - Уфа, 1883. - Отд. V. - С. 368-385.
5 Назаров П.С. К этнографии башкир / П.С. Назаров // Этнографическое обозревание. - М, 1890-№ 1, кн. 1. -С. 166-171.
В преданиях и легендах, передававшихся из поколения в поколение, освещается история народа, его быт, нравы, обычаи, проявляются его воззрения. Поэтому эта своеобразная область фольклора привлекала внимание целого ряда ученых, путешественников. В.Н. Татищев в «Истории Российской», касаясь вопросов истории и этнографии башкир, опирался на их устные предания1. Предания и легенды привлекли также внимание другого известного ученого XVIII в. - П.И. Рычкова. В своей «Топографии Оренбургской губернии» он обращается к народным рассказам, объясняющим происхождение топонимических названий, часть которых отражает сведения исторического характера2. Используемый при этом башкирский фольклорный материал получает у П.И. Рычкова разные жанровые обозначения: предание, сказание, рассказ, поверье, небылицы. В путевых записках ученых (П.С. Паллас, И.И. Лепехин3), путешествовавших по Уралу во второй половине XVIII в., также приводятся башкирские этногенетические легенды и предания. Этот тип преданий учеными определяется как ранние историко-генеалогические предания (Ф.А. Надршина).
В первой половине XIX в. увидели свет этнографические очерки и статьи поэта-декабриста П. М. Кудряшова, известного лексикографа В.И. Даля и других русских литераторов, краеведов, посвященные описанию башкирского быта, обычаев, верований. В статье уфимского 1 Татищев В.Н. История Российская / В.Н. Татищев. - М.;Л., 1964. - Т. IV. - С. 66; 1968. - Т. VH.-С. 402.
2 Рынков П.И. Топография Оренбургской губернии / П.И. Рынков. - Оренбург, 1887. - Т.1.
3 Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства / П.С. Паллас. - СПб., 1786. - Перевод с немецкого. В 3-х частях. Ч. 2, кн. 1; Лепехин И.И. Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое императорской Академией наук в 5 - та томах / И.И. Лепехин. - СПб., 1822. - Т. 4. - С. 36-64.
краеведа B.C. Юматова отмечены интересные исторические предания о распрях между ногайскими мурзами Аксак-Килембетом и Каракилембетом, жившими в Башкирии, о неисчислимых бедствиях башкир и обращении их к царю Ивану Грозному1. Использованный в этих работах фольклорный материал при всей его фрагментарности, отсутствия сведений об информантах, где и когда они записаны, дает определенное представление о распространенных тогда у башкир «собственно исторических» преданиях.
Из русских ученых второй половины XIX - начала XX вв. особенно значительную роль в научном собирании и изучении башкирских преданий играли М.В. Лоссиевский, Р.Г. Игнатьев, Ф.Д. Нефедов. В очерках и статьях о Салавате Юлаеве они основывались наряду с историческими документами и на произведениях пугачевского фольклора, прежде всего на легендах и преданиях2.
В книге «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта» (СПб., 1897) С.Г. Рыбаков дает богатое представление о песнях-преданиях башкирского народа XIX века, бытующих в своеобразной «смешанной» форме - отчасти песенной, отчасти повествовательной.
А.Г. Бессонов в конце прошлого века, путешествуя по Уфимской, Оренбургской губерниям, собрал богатый материал башкирского 1 Юматов B.C. Древние предания башкирцев Чубиминской волости / B.C. Юматов // Оренбургские губернские ведомости. - 1848. - № 7. - С. 45-48; Он же. О названиях башкирцев / B.C. Юматов // Оренбургские губернские ведомости. - 1874. - №4. - С. 297-298. Перепечатано: В кн.: Башкирия в руской литературе. - Уфа: Баш. кн. изд-во, 1961. - Т. 1. - С. 127, 274, 254.
2 Нефедов Ф.Д. Движение среди башкир перед Пугачевским бунтом; Салават - башкирский батыр / Ф.Д. Нефедов // Русское богатство. - 1890. - № 10. - С. 83-100; Лоссиевский М.В. Пугачевский бригадир Салават и Фариза / М.В. Лоссиевский // Волжско- Камское слово. - 1882. - С. 221; Игнатьев Р.Г. Башкир Салават Юлаев - пугачевский бригадир, певец-импровизатор / Р.Г. Игнатьев // Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. - Казань, 1893. - Т. 9.
повествовательного фольклора. В его сборнике сказок1, увидевшем свет после смерти собирателя, помещены несколько преданий исторического содержания («Башкирская старина», «Янузак-батыр» и др.), представляющих научный интерес.
Образцы башкирских преданий, легенд встречаются и в записях писателя-просветителя М. Уметбаева, краеведов Б. Юлуева, А. Алимгулова2.
Таким образом, еще в дореволюционное время литераторами и этнографами-краеведами были записаны образцы башкирских преданий, но систематическое собирание и изучение началось только после Октябрьской революции. Инициаторами сбора и изучения фольклора стали тогда научные учреждения, творческие организации, вузы.
В 1920-1930 гг. были опубликованы на башкирском языке ценные в художественном отношении тексты башкирских преданий-песен в записях М. Бурангулова, появились в печати на башкирском языке и переводах на русский язык социально-бытовые предания, расширившие научные представления о жанровом составе и сюжетном репертуаре башкирской несказочной прозы3.
В годы Великой Отечественной войны увидели свет произведения 1 Башкирские народные сказки / Запись и перевод А.Г. Бессонова. Редакция, введение и примечание проф. Н.К. Дмитриева. Под общ. ред. академика И.Ю. Крачковского. - Уфа: Башгосиздат, 1941. - 367 с.
2 Уметбаев М. Йэдкэр - Памятки / М. Уметбаев. - Уфа: Баш. кн. изд-во,1984. - С. 180-181 (на баш. яз.); Юлуев Б. Аждаха-змей в рассказах башкир / Б. Юлуев // Этнографическое обозрение. - 1892. - № 2-3. - С. 245-248; Алимгулов А. Башкирските мифологические рассказы / А. Алимгулов // Вестник Оренбургского округа. - 1915. - № 5. - С. 210-213.
3 Буранголов М. «Умер йэки Йыуасалы» кейенвн, хикэйэпе / М. Буранголов //Башкортостан. - 1926. - 9 апрель; «Йэйлэулек» йэки « Зилэйлук» / М. Буранголов //Башкортостан. - 1926. - 21 май, «Бильмияза» / М. Буранголов // Октябрь. - 1939. - № 7. - С. 36-38.
башкирского традиционного повествовательного фольклора патриотического, героического содержания (предания о Салавате Юлаеве, об отечественной войне 1812 г.)1.
С открытием Башкирского филиала АН СССР (1951 г.) и БГУ им. 40-летия Октября (1957 г.) начинается новый этап в развитии советской башкирской фольклористики. За короткий срок ИИЯЛ БФАН СССР был подготовлен и издан целый ряд научных трудов, в том числе трехтомное издание «Башкорт халык ижады» («Башкирское народное творчество»), представляющее первый систематический свод памятников башкирского фольклора (А.И. Харисов, А.Н. Киреев)2.
Начиная с 60-х гг. сбор, изучение, публикация произведений народного творчества и результатов исследований принимает особенно интенсивный характер. Участниками фольклорных академических экспедиций (А.Н. Киреевым, Ф.А. Надршиной, М.М. Сагитовым, С.А. Галиным, А.Х. Вахитовым, Н.Т. Зариповым, Н.Д. Шункаровым, Р.С. Сулеймановым) был накоплен богатейший фольклорный фонд, значительно расширился круг изучаемых жанров и проблем, совершенствовалась методика сбора материала. Именно в этот период предания стали предметом усиленного интереса.
В собирании, публикации и изучение произведений башкирской народной прозы значительна заслуга ученых Башкирского государственного университета: А.Н. Киреева (Кирея Мэргэна), работавшего в университете в 70-80 годы, Л.Г. Барага, Башкирские конники в Отечественной войне в 1812 года: Легенды и песни / Сост., вступ, ст. А. Усманова. - Уфа: Башгосиздат, 1944. - 40 с. (на баш. яз.); Салават-батыр: Легенды и песни / Сост. А. Усманов. - Уфа, Башгосиздат, 1945. - 78 с. (на баш. яз.).
2 Башкирское народное творчество. В 3-х т. Т. 1. / Сост., вступ, ст., коммент. А.И. Харисова. - Уфа: Башкнигоиздат, 1954. - 303 с; Т. 2. / Сост., вступ, ст., коммент. А.И. Харисова. - Уфа: Башкнигоиздат, 1959. - 281 с; Т. 3. / Сост., вступ, ст., коммент. Кирея Мэргэна. - Уфа: Башкнигоиздат, 1955. - 310 с. (на баш. яз.).
М.Х. Мингажетдинова, A.M. Сулейманова, Б.Г. Ахметшина.
Книга «Башкирские легенды», изданная в 1969 г. как учебное пособие для студентов1, явилась первой системной публикацией башкирской исторической фольклорной прозы.
Сборники, подготовленные и опубликованные кафедрой русской литературы и фольклора БашГУ, содержат интересные материалы о межнациональных связях фольклора. Вошедшие в них предания в значительной своей части записаны в башкирских деревнях от информаторов-башкир2. В БашГУ были подготовлены и защищены также кандидатские диссертации по башкирской несказочной прозе3. Авторы диссертаций A.M. Сулейманов и Б.Г. Ахметшин результаты своих изысканий опубликовали в печати. Начатая ими в 60-е годы работа по сбору и изучению народных рассказов продолжается по сей день4.
Башкирские легенды / Сост., коммент. М.Х. Мингажетдинова и Кирея Мэргэна; вступ, ст. М.Х. Мингажетдинова и A.M. Сулейманова. - Уфа: БГУ, 1969. - 187 с. (на баш. яз.).
2 Народные сказки, легенды и были, записанные в Башкирии на русском языке в 1960- 1966 гг. / Подбор текстов, ред., вступ, ст. и примеч. Л.Г. Барага. - Уфа: Баш. кн. изд-во, 1969; Сказки, легенды и предания Башкирии в новых записях на русском языке/ Под ред. и с коммент. - Л.Г. Барага. Уфа: Баш. кн. изд-во, 1975; Материалы и исследования по фольклору Башкирии и Урала. Вып. 1. -Уфа: БашГУ, 1974.
3 Ахметшин Б.Г. Предания, легенды и другие устные рассказы горнозаводской Башкирии: автореф. дис.... канд. филол. наук / Б.Г. Ахметшин; БашГУ. - Уфа, 1968. - 26 с; Сулейманов A.M. Исторические основы и идейно-эстетические функции топонимических легенд и преданий башкирского народа: автореф. дис. ... канд. филол. наук / А.М. Сулейманов; БашГУ - Уфа, 1972. - 28 с.
4 Бараг Л. Г. Повествовательные жанры башкирского фольклора / Л.Г. Бараг, A.M. Сулейманов. - Уфа: Гилем, 2000. - 248 с. Ахметшин Б.Г. Несказочная проза горнозаводского Башкортостана и Южного Урала / Б.Г. Ахметшин.- Уфа: Китап, 1996. - 185 с; Фольклор рабочих горнозаводского Башкортостана / Б.Г. Ахметшин.- Уфа: Китап, 2000.
Монографии Б.Г. Ахметшина «Несказочная проза горнозаводского Башкортостана и Южного Урала» и «Фольклор рабочих горнозаводского Башкортостана» посвящены изучению ведущих жанров прозаического фольклора горнорабочих восточной Башкирии и некоторых сопредельных районов Челябинской и отчасти Оренбургской областей. Бытующие преимущественно на башкирском и русском языках легенды, предания и устные рассказы подвергаются в книгах сравнительному изучению с целью выявления интернациональных основ, национальной специфики и художественного своеобразия, произведены некоторые наблюдения над характером взаимодействия разнонациональных фольклорных традиций двух народов в условиях национальной республики. В книгах подробно рассмотрены предания-легенды о давнем прошлом края, предания брагинского цикла, о первооткрывателях ртутных месторождений, о труде и быте горнорабочих, о возникновении курганов и т.д.
Работы отличаются от аналогичных исследований тем, что не ограничиваются рамками устного репертуара одного народа, а охватывают фольклор, бытующий на двух языках - русском и башкирском, что позволяет говорить как о национальных, так и типологически сходных или общих его особенностях и высказать некоторое предположение о неповторимо своеобразных условиях, сложившихся в данном регионе, благодаря которым стало возможным более продуктивное развитие и сохранение до наших дней традиционных жанров местной несказочной прозы.
Труды Б.Г. Ахметшина внесли серьезный вклад не только в башкирскую, но и российскую науку о фольклорных традициях народов Урала и пользуются заслуженным вниманием в ученых кругах нашей страны.
213 с; Горнозаводской фольклор Башкортостана и Урала / Б.Г. Ахметшин. - Уфа: Китай, 2001.-288 с.
В конце XX столетия собирание и издание башкирских преданий значительно оживились. Итогом целенаправленной работы в деле собирания преданий явилось издание тома преданий и легенд в составе многотомного свода «Башкорт хальгк ижады» («Башкирское народное творчество»)1. Этот том представляет собой наиболее полное собрание башкирских преданий и легенд, в котором значительную часть материала представляют исторические предания. Впервые за всю историю собирания и публикации произведения несказочной прозы были изданы отдельной книгой в таком объеме (27 уч.-изд. л.), что явилось объективным показателем возросшего интереса к ним со стороны фольклористов.
В 1985 г. увидела свет книга «Башкирские предания и легенды» в русском переводе2. Большое место отведено историческим преданиям и в томах, изданных в последующие годы в составе многотомника «Башкирское народное творчество» (на баш. и рус. яз.)3. Обширный материал, систематизированный и прокомментированный в названных книгах, дает многостороннее представление о бытовании несказочных жанров устной башкирской прозы в последние столетия, преимущественно в советское время, когда записано большинство известных ее текстов.
Во вступительных статьях подытожена более чем вековая история
1 Башкирское народное творчество: Предания и легенды / Сост., вступ, ст. и коммент. Ф.А. Надршиной. - Уфа: Баш. кн. изд-во, 1980. - 414 с. (на баш. яз.).
2 Башкирские предания и легенды / Сост., вступ, ст. и коммент. Ф.А. Надршиной. Перевод с башкирского Г. Г. Шафикова и Ф.А. Надршиной. - Уфа: Баш. кн. изд-во, 1985. - 287 с.
3 Башкирское народное творчество: Предания и легенды/ Сост., авт. вступ, ст. и коммент. Ф.А. Надршина. Отв. ред. Л.Г. Бараг. - Уфа: Баш. кн. изд-во, 1987. - 453 с; Башкорт хальгк ижады: Риуэйэттэр, легендалар/ Тез., инеш мэтс. пэм анл. авт. Ф.А. Нэзершина. Яуаплы ред. Э.М. Свлэймэнов. - вфе: Бапгк. кит. нэшр., 1999. - 440 б.
собирания и издания башкирских преданий. Подробно излагается история теоретического изучения и систематизации преданий и других жанров несказочной прозы, рассматриваются вопросы терминологии, классификации жанров, проблемы отношения фольклора к действительности.
В 1986г. увидела свет монография Ф.А. Надршиной «Хальгк хэтере» - «Память народная»1, посвященная комплексному изучению жанров башкирской несказочной прозы (легенд, преданий-риваятов, хурафати хикэйэ-быличек), выявлению их специфики и исторических основ. Исследование этих жанров как целостной системы в составе жанров национального фольклора осуществляется впервые. В широком сравнительном плане освещены произведения мировоззренческого и исторического характера. Появление этой монографии следует расценивать как новый этап в башкирской фольклористике в исследовании жанров несказочной прозы.
Конец 90-х - начало 2000 годов знаменуется переводом и изданием башкирского фольклора на английском, турецком языках. Сборники Ф.А. Надршиной, изданные на трех языках (баш., рус. и англ.) «Башкирские народные песни, песни-предания»2, «Башкирские народные легенды и предания»3 обеспечили выход башкирского фольклора на международную арену.
Первая книга «Бапгкорт халык йырзары, йыр-риуэйэттэре-Башкирские народные песни, песни-предания - Bashkort Folk Song, Songs-legends» содержит 75 песен мифологического, исторического, социально-бытового, любовно-лирического характера, а также тексты на темы эпических сюжетов. Переводчиками (на русский язык - Ю.А.
1 Ф.А. Надршина. Хальгк хэтере - Память народная / Ф.А. Надршина. - Уфа, Баш. кн. изд-во, 1986. - 192 с. (на баш. яз.).
2 Башкирские народные песни, песни-предания. - Уфа: Китап, 1997. - 432 с.
3 Башкирские народные легенды и предания. - Уфа: Китап, 2001. - 468 с.
Андрианов, Г.Г. Шафиков, на английский язык - А.Р. Мухтаруллина, З.А. Рахимова, Р.К. Шайбакова) сохранены историко-этнографические реалии текстов, содержание песен соответствуют оригиналу.
Классификация песен по типу мелодики и ритмико-мелодической структуре отражена в специальном указателе. Имеются сведения об авторах нотаций, переводчиков, дана библиография. Весьма интересно «Приложение», где, учитывая широкий ареал распространения латинского алфавита в мире, куплеты песен, помещенные под нотами, даны на латинском письме, которое являлось официальным письмом башкир в 1928-1939 гг. Специфические звуки башкирского языка даны в английской транскрипции. По этому поводу составитель пишет: «Это в какой-то степени поможет иноязычному читателю воспроизвести башкирскую народную песню на языке оригинала».
Во вступительной статье - сведения о жанровой природе и исторических корнях башкирских народных песен. Примечательно то, что во всех публикациях Ф.А. Надршиной башкирская народная песня преподносится в своей традиционной форме бытования, то есть в триединстве: песня + мелодия + предание/легенда, связанные с возникновением песни.
Спустя несколько лет появляется новая книга Ф.А. Надршиной «Башкорт халык риуэйэттэре пэм легендалары - Башкирские народные предания и легенды - Bashkort Folk legends», которая является продолжением работы по изданию произведений башкирского фольклора на трех языках. Этот сборник содержит башкирские народные предания и легенды мифологического и исторического характера. Особое внимание уделено мифологическим легендам, сохранившим в себе следы архаической культуры (космогонические, этиологические, этногенетические мифы), из исторических сюжетов - преданиям, отражающим наиболее значительные события из жизни башкир (борьба за свободу, национальную независимость), житейскую мудрость, нравственные идеалы, социальные чаяния. Во вступительной статье даются сведения о жанровой специфике преданий и легенд, в сравнительном плане с иноязычным фольклором рассматриваются типы сюжетов, проанализирован обширный фактический материал, включенный в книгу. Переводчикам удалось донести до читателя точный смысл, сохранить историко-этнографические реалии текстов.
Незаменимым помощником для русских и англоязычных читателей служит глоссарий, список встречающихся в тексте географических названий, помогающих наиболее точно понять смысл текстов. Указатель мотивов дает представление не только о преданиях, включенных в сборник, но и о других сюжетах.
Книги Надршиной Ф.А. находят своих читателей не только среди исследователей, преподавателей вузов, учителей школ, но и широкого круга читателей. Они будут полезными и для зарубежных читателей, интересующихся культурой башкирского народа.
Большая роль в популяризации произведений фольклора, в том числе преданий, принадлежит республиканской печати. На страницах журналов «Ватандаш», «Вельские просторы», «Ядкар», «Агизел», «Учитель Башкортостана», «Башкортостан кызы», газет «Башкортостан», «Йэшлек», «Истоки» часто печатаются устно-поэтические произведения, а также статьи и заметки ученых-фольклористов, деятелей культуры о народном творчестве.
Как видим из краткого обзора, в области собирания и изучения жанров башкирскойц несказочной прозы проделана большая работа. Исследованы и исторические предания в общей системе жанра преданий и легенд. В настоящей диссертации, учитывая опыт предшественников, на основе вновь выявленных материалов и изучения новейшей литературы нами сделана попытка более углубленного монографического изучения специфики исторических преданий, их жанрового состава и поэтику.
Предание как жанр народной несказочной прозы
Предания и легенды, эпические сказания (кубаиры), исторические песни и байты - это основные фольклорные жанры, в которых наиболее полно отражена жизнь народов в общественном ракурсе, и которые представляют собой характерные типы фольклорного историзма эпохи едва ли не наивысшего развития народного устно-поэтического творчества.
Фольклорный историзм - это художественное выражение народного исторического сознания определенной эпохи средствами и возможностями народного поэтического творчества. Различные типы фольклорного историзма отражают разные стороны и степени народного сознания.
Принципиальные суждения об исторических преданиях во многом определяются, с одной стороны, пониманием жанровой специфики народных преданий вообще, и с другой - с представлениями о жанровых особенностях легенд, песен-преданий, песен-легенд, отчасти героического эпоса.
Важно иметь в виду, что жанры эти входят в одну систему и потому для выявления специфики отдельного жанра необходимо рассмотреть общие свойства жанров, их разновидностей в этой системе, то есть, согласно поставленной теме, проблеме, нам требуется хотя бы вкратце осветить основные признаки жанра преданий и легенд, в целом, учитывая их взаимопроникаемость.
Одной из особенностью в системе несказочной прозы является то, что жанровая характерность не всегда строго определенна: нередки случаи промежуточные, переходные, пограничные. Не случайно в башкирской фольклористике вплоть до 30-х гг. XX столетия предания за редкими исключениями назывались одним термином «легенда». И лишь в 60-80 годы, благодаря усиленной собирательской и исследовательской деятельности фольклористов, проделана значительная работа по разработке и упорядочению терминологии, классификации жанров башкирской народной прозы, определению их семантической структуры (Ф.А. Надршина, A.M. Сулейманов).
В современной фольклористике под легендой подразумевается устное повествование, в основе которого лежит сверхъестественный фантастический вымысел с установкой на достоверность.
Предания (риуэйэттэр) башкирского народа, как и предания других народов, эпические произведения фольклора, которые с наиболыпейхудожественной достоверностью отображают историю народа, ибо они освещают значительные события героико-патриотического или социально-бытового характера. Они возникают не на вымышленной основе, а всегда имели конкретный, локализованный характер с точными или приближенными сведениями из реальных исторических времен. Первоначальными исходными прозаическими формами преданий были устные рассказы очевидцев или участников событий, которые наряду с действительными фактами впоследствии воплощали в себе элементы художественного творчества народных сказителей. Словом, это устные рассказы о конкретных событиях исторического, бытового и топонимического характера с установкой на действительность. Неслучайно предания в народе обозначены термином «тарих» - «история».
Многие ученые, в том числе башкирские фольклористы, которые занимались изучением преданий, касаясь генезиса жанра, отмечают его древность. В отношении исторических преданий, на наш взгляд, особенно интересно высказывание В.К. Соколовой. «Истоки преданий уходят в далекое прошлое, так как рассказы о прошлом, несомненно, принадлежат к одному из первоначальных видов словесного творчества. Непосредственными предшественниками исторических преданий, с которыми они генетически связаны, были родо-племенные сказания. В этих сказаниях мифы о божествах и тотемных предках, о «культурных героях» и пр. сочетались с воспоминаниями о переселениях рода и племени, об их столкновениях, о вождях и героях»1.
При изучении любого жанра, жанровой системы важна классификация материала. Вопрос этот далеко не простой и неоднозначный. При монографических исследованиях в подаче фактического материала приемлем один принцип, в различных фольклорных сборниках - другой. Так, Кирей Мэргэн (А.Н. Киреев), М.Х. Мингажетдинов и A.M. Сулейманов в учебном пособии «Башкирские легенды» разделили материал по темам: этнонимические, этногенетические легенды, топонимические, исторические, бытовые; легенды-сказки2. В монографии Ф.А. Надршиной «Память народа» материал классифицирован также по семантике: легенды и легенды-предания, хурафати хикая, основанные на древних воззрениях (мифологические сюжеты), исторические и социально-бытовые предания (с подразделениями внутри)3. Более пространный принцип классификации предложен ею в многотомниках «Башкирское народное творчество» (на башкирском и русском языках). В жанровом отношении она выделяет типы преданий: предания, предания-легенды, параллельно употребляя термин «легендарное предание», песни-предания, песни-легенды.
Предания о столкновении башкир с гуннами
По исторической науке известно, что проникновение кочевых гуннских племен в Восточную Европу начинается со II в. нашей эры. Гунны постепенно, в течение II-IV вв., проникают за Волгу и дальше на запад, включая по пути в свой состав многочисленные этнически разнородные племена. Гуннское нашествие захватило и южную часть территории современного Башкортостана. Предания о гуннском вторжении на Урал имеют глубокие исторические корни. Очевидно, из-за давности событий эти предания преимущественно бессюжетны, они носят характер топонимического сообщения:
«Однажды на Урале, нарушив закрытую границу, появились гуннские тюрки. Появились и напали на башкир, живущих у подножья одной из гор. Принесли они много бед и несчастья. С тех пор эту гору, где случилось беда, называют «Беда-гора» («Бэлэ-тказа тауы»)1. «Когда башкиры вынудили отступить гуннских тюрков и прогнали их с родных земель, брошенные неприятелем кобылицы так и остались на тебеневку — рыли снег копытами, добывая корм. Поэтому гору, на которой они паслись, прозвали «Гора, где кобылицы рыли (снег)» -«Бейэказа тауы».
Чтобы приручить кобылиц, место их тебеневки посыпали солью. Отсюда название «Гора, где сыпали соль»-«Тозкойган тауы». Исключение составляет лишь текст «Камень Азан»-«Азанташ», который воспринимается как завершенное фольклорное произведение. В предании рассказывается, как один просвещенный батыр под предлогом созыва на утреннюю молитву (казан) задумал собрать вокруг себя оставшихся в живых сородичей и отомстить напавшим гуннам: «Каждое утро он поднимался на вершину каменной скалы и произносил казан. В тихом утреннем воздухе голос его разносился далеко и, слыша его, разбредшийся по горам и лесам народ стал собираться воедино. Из этих людей батыр сколотил войско, отправил гонцов по всему Башкортостану, призывая нанести ответный удар по нашественникам. По прошествии зимы башкиры разгромили сильное войско захватчиков и прогнали их из своей земли...»2. «Разумеется, трудно поверить в реальность описанного события (тем более предание имеет и другие варианты), однако упоминание о гуннах вряд ли можно считать случайным», — справедливо отмечает Ф.А. Надршина3.
Согласно исторической литературе, гунны и покоренные ими племена, попавшие в Приуралье вместе с движением кочевых племен на запад, вступили в этнический контакт с местным населением. С гуннами связывают свое происхождение башкиры некоторых минских родов: они ведут свою генеалогию к вождю гуннов Баламиру (или Валамиру), чье имя связано с победой над готами в 375 г. 1. Множество селений и мест с названием «гьуннар» (гунны) в Табасаране исследователь древнейшего народа Дагестана табасаранцев М.М. Курбанов также связывает с далекими историческими событиями, происшедшими с нашествием гуннов, «с их временной или постоянной дислокацией». Автор не исключает и то, что «гуннами» стали называть часть табасаранцев по ассоциации с настоящими гуннами. В обоих случаях, утверждает ученый, этноним «гьуннар» явление не случайное в лексике табасаранского языка2.
История Золотой Орды изучена относительно хорошо. В этом немалая заслуга ее современников-историков (Рашид-ад-Дин, венгерские миссионеры Юлиан, Плано Карпини, Иоганки), оставивших интересные сведения об этом периоде, многих поколений русских и зарубежных историков-востоковедов, среди которых следует выделить исследования В.Г. Тизенгаузена, давшего первую и наиболее полную сводку письменных документов XIII-XIV вв. о Золотой Орде. Огромное значение имеют труды башкирских историков (Н.А. Мажитов, Р.Г. Буканова, А.Н. Султанова), обративших в последнее время особое внимание к истории Башкортостана золотоордынского периода. Ф.А. Надршина в своем труде «Память народа» подробно рассмотрела предания, относящиеся к той эпохе1. Все эти работы в совокупности дали возможность объективно определить место и значение Золотой Орды в истории народов Евразии.
Следует отметить и то, что в истории Золотой Орды много и «белых» пятен. В частности, слабо изучены конкретная история отдельных народов Урало-Поволжья золотоордынского периода и исторические последствия длительного пребывания их в составе этого государства. Трудности изучения данного аспекта темы еще более осложнялись тем, что с 40-х гг. XX в. в науке начало утверждаться мнение о том, что Золотая Орда как государство, возникшее в результате завоевательных походов татаро-монгол, существовала за счет жестокой эксплуатации покоренных народов и потому было паразитарным явлением. Однако факты убеждают, что Башкирия не являлась в тот период территорией, стонавшей под непосильным гнетом завоевателей, и поэтому было бы не совсем верно рассматривать исторический путь, пройденный башкирами в составе Золотой Орды, как шаг назад в ходе поступательного развития истории.
По данным исторической литературы, значительная часть башкир была покорена монголами в период 1214-1220 гг. Весьма интересно, например, свидетельство венгерского монаха Юлиана о поездке в страну башкир в 1236 году. Юлиан утверждает в своем труде, что башкиры раньше на протяжении 14 лет вели войну против монголо-татар, в ходе которой потерпели поражение2.
Предания о набегах - карымте и барымте (башкирско-казахские), о столкновениях с калмыками и др.
После распада Золотой Орды территория Башкортостана оказалась разделенной между Ногайским, Казанским и Сибирским ханствами. Жестокий гнет со стороны завоевателей, междоусобицы и феодальные набеги разоряли хозяйство башкир, будоражили общественное сознание. Об этом свидетельствуют не только исторические источники, но и фольклорные материалы, в частности, сюжеты о ногайско-башкирских взаимоотношениях (предания об Аксаккилембете и Каракилембете), о притеснениях со стороны казанских ханов («Умбет батыр»-«0мбэт батыр»).
В то же время, как справедливо указывают исследователи (Хусаинов Г.Б., Надршина Ф.А.), длительные исторические, этнокультурные связи народов обусловили возникновение явлений иного порядка - обмена духовными ценностями и рождения на этой основе общих фольклорных произведений («Сорок ногайских батыров»-«гКырк нугай батыры», «Карасай и Каранхан»- «ТСарас менэн ТСаранхан», «Сура батыр» и другие).
Особенно много преданий сохранилось о башкирско-казахских отношениях. Как известно, башкир и казахов издавна связывали непосредственное соседство этнических территорий и общность исторических судеб, а также близость и родство языков и духовной культуры, что своеобразно отразилось в их фольклорном творчестве. В преданиях, которые и поныне бытуют на юго-востоке Башкортостана, развивается тема сложных башкирско-казахских отношений, характерных для эпохи феодализма.
Ведя на протяжении веков полукочевой образ жизни скотоводов и охотников, предки нынешних башкир и казахов совершали набеги и угоняли друг у друга скот (барымта), порою дело доходило и до кровавых столкновениях и кровной мести (карымта). В исторических преданиях этой группы нашло отражение очень много конкретных деталей (место и время событий, количество участников, меры предосторожности). Например, чтобы не быть застигнутым врасплох и предотвратить внезапные нападения, на возвышенностях и древних курганах или на утесах и скалах Яика, откуда хорошо просматривались окрестности, возводились своего рода заставы, на которых несли дозорную службу башкирские батыры.
Основной пафос произведений устной прозы о башкиро казахских взаимоотношениях заключается в поэтическом возвеличивании ратных подвигов этих батыров, прославлении их физической силы и бесстрашия, ловкости во владении богатырским оружием и уменья вести бой с превосходящими силами пришельцев. В преданиях подробно воссоздаются боевые действия сторон: переход противником пограничного рубежа, устройство батырами засады, перестрелка и преследование, поединок на копьях и мечах, рукопашная борьба и как завершение всего - победа или поражение («Кусем батыр»-«Кусем батыр», «Тавэш»-«Тэуэш»). Предания не лишены некоторой тенденциозности в расстановке акцентов и односторонней трактовки воинской доблести башкир. Батыры, судя по народным рассказам, явно превосходят во всем своего противника. Нередко они напоминают своей отвагой и мощью героев эпоса и отчасти богатырских сказок ( «Кусем-6aTbip»-«KYceM батыр»).
В репертуаре башкирских исторических преданий о башкиро-казахских отношениях сохранился весьма интересный сюжет с редкостным мотивом, связанным с древними мифологическими представлениями. Отголоски архаичных в своей основе тотемистических представлений о предке-животном слышны, например, в предании об Абубакире, у которого от плеч до пояса свисала грива, похожая на лошадиную («Абубакир»-«Эбубэкер»).
Несмотря на подстрекательскую политику, которую вел царизм по отношению к «инородцам», башкиры и казахи не только враждовали, совершали разорительные взаимные набеги, но и принимали в судьбе друг друга добрососедское участие, скрывали у себя беженцев с той или другой стороны Яика от преследования властей, становились побратимами и близкими родственниками. Так случалось не раз в период башкирских восстаний, после поражения которых оставшиеся в живых повстанцы вынуждены были бежать в казахские степи и находили там убежище, о чем повествуют многочисленные предания.
Широкое распространение получили здесь также предания о том, как башкиры принимали бежавших с родных мест или уцелевших после побоища казахов, оставляли у себя жить, выдавали за них своих дочерей, и от них пошли целые династии башкиро-казахских семей и родов, потомки которых составили население ряда деревень: например, Мамбетовы в Хайбуллинском, Тугановы в Архангельском районах Республики Башкортостан.
В составе башкирских исторических преданий сохранилось несколько рассказов о набегах калмыков на башкирские земли («Даут батыр»-«Дауыт батыр», «Такагашка батыр»-«Тэкэгашка батыр», «Дуюмбет батыр»-«Дейембэт батыр»).
На протяжении не одного столетия прослеживается общность в исторических судьбах башкирского и казахского народов. Прежде всего, они принадлежат к тюркской группе алтайской языковой семьи. Кроме того, казахи и башкиры относятся к одной конфессиональной системе (ислам). Один и тот же кыпчакский элемент был присущ в образовании той или иной народности. Различия этих народов состоят в том, что в формировании башкирского народа, помимо тюрко-язычных, участвовали также и финно-угорские племена. Южные и особенно восточные башкиры длительное время сохраняли традиционные этнические контакты с казахами. В родо-племенной структуре башкир встречаются одновременные роды казахских жузов: табын, тама, тлеу, таз, тана, маскар, канглы, дулат, уйсун и т.д., а среди казахов -башкиры-естек.
Мотивы исторических преданий в башкирской литературе конца XX века (на примере романов Мираса Идельбаева, Яныбая Хамматова и Асылгужи о Салавате Юлаеве)
В башкирской литературе редко встретишь писателя, в творчестве которого так или иначе не упоминалось бы имя Салавата. Стихотворение Ш. Бабича «Салават-батыр», написанное в 1918 г., стало первым в башкирской литературе поэтическим произведением о национальном герое; в нем в традициях кубаира воспеваются героические качества Салавата, подвиги которого позволяют сравнивать его с непобедимым сказочным великаном и львом. Стихотворение Б. Валида «Марш Салавата», написанное в форме призыва, стало популярной маршевой песней (мелодия композитора X. Ибрагимова). Слова его долгое время считались народными. В поэтических произведениях того времени преобладали мотивы восхищения именем Салавата, описание красот природы его родного края, абстрактные размышления о героизме.
Для поэзии 50-70-х гг. характерно стремление к разностороннему раскрытию духовного мира, величия и героизма Салавата Юлаева, философскому обобщению его личности иполководческой деятельности. Народный поэт Башкортостана Р. Нигмати, который осуществил к 200-летнему юбилею Салавата Юлаева опубликовал в 1952 г. стихотворение «Товарищ Салават», где говорится, что имя Салавата в течение двух столетий борется вместе с народом за свободу, оно в годы Великой Отечественной войны вдохновляло к победе, сам он ныне является нашим современником. «Монолог города Салавата» А. Игебаева построен в виде монолога-раздумья города о своем имени и о судьбе национального героя Салавата. В стихотворении «Разговор с Салаватом» А. Атнабаев поэтизирует неизвестную могилу батыра как признак его бессмертия, размышляет о полярных качествах героя и поэта, воплощенных в легендарной личности батыра. Н. Наджми («Два всадника»), сравнивая памятники Петру Первому в Санкт-Петербурге и Салавату Юлаеву в Уфе, заключает свое стихотворение философским обобщением, согласно которому, один из этих двух выдающихся личностей «великой царицей отлит из бронзы на века и возведен на недосягаемую высоту», «другого в кандалах в темницу ее же бросила рука», тем не менее Салават, воскресший из глубины веков в памяти своего народа, взмыл выше царей. Восемнадцатилетний Р. Назаров писал, что исторические события, происходившие на территории Башкортостана не забываются, «если они сегодня земле дают тепло», все они «нынешние», в том числе и стрела Салавата, которая когда-то вонзилась в почву, оказавшаяся на нашей ладони» («Нынешние»). В 70-90 годах поэты стремились воссоздать образ Салавата Юлаева в лиро-эпическом жанре: одна за другой появились поэмы «Рана батыра» К. Аралбая, «Юрюзань» Г. Шафикова, «День ответа» Ф. Тугузбаевой. К. Аралбай полководческую деятельность Салавата оценивает через призму современости. Поэма построена как поэтическая интерпретация стихотворений поэта, документов, народных песен и других материалов о нем. Рана героя ассоциируется как боль и страдания народа. Поэма «Юрюзань» представляет собой синтез эпического повествования и лирико-философских размышлений автора на фоне описания красот Юрюзани. Ф. Тугузбаева образ народного героя дает в параллели с образом верного властям старшины Кулуя Балтачева, который выступает в роли лютого врага и грязного палача Салавата. В поэмы использованы народные песни, легенды и предания о батыре, леймотивом для неепослужили отдельные эпизоды из эпоса «Урал-батыр».
В связи с открытием в 1967 г. памятника Салавату Юлаеву позднее была написан цикл стихотворений Р. Шакура, И. Киньябулатова С. Алибаева, Г. Давляди, Г. Юнусовой, Ф. Кузбекова, Р. Ахмадиева, Д. Булгаковой, Р. Хайри в честь монументального металлического всадника. В 90-ее годы появились стихотворения о последнем пристанище Салавата Юлаева, г. Палдиски Эстонской республики. Т. Юсупов, Асылгужа, Т. Ганиева, Т. Давлетбердина, Р. Султангареева, Р. Ахтари и другие выражают чувство благодарности «стране эстонов», называют эту землю святой, поскольку здесь покоится прах героя; передают свои раздумья и переживания в связи с посещением места каторги Салавата. В последнее время образ батыра наводил башкирских поэтов на размышления о связи времен и поколений.
Для башкирских прозаиков в создании образа Салавата Юлаева примером для подражания стали русские писатели, обратившиеся к теме пугачевского движения еще с первой половины XIX века, начиная с А.С. Пушкина. После его «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки» образ легендарного башкирского батыра изображен в романе видного русского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы», в его повести «Охонины брови» и рассказах «Байгуш», «Горная ночь», в исторических эпопеях Г.П. Данилевского «Черный год» («Пугачевщина») и Е.А. Салиаса-де-Турнемир «Пугачевщина» (XIX в.), в романах «Емельян Пугачев» В. Шишкова, «Каменный пояс» Е. Федорова, «Салават Юлаев» С. Злобина.
В башкирской прозе первым произведением стал рассказ X. Абдрашитова «Салават» (1926 г.), рассказывающий о последних днях батыра на свободе.
До 90-х годов XX в. за исключением рассказов-сказаний А. Вахитова и Н. Идельбая «Камень Салавата», написанного по мотивам народных легенд и преданий, не появилось ни одного произведения прозы о Салавате Юлаеве. Лишь на рубеже веков друг за другом увидели свет историко-документальное повествование М. Идельбаева «Сын Юлая Салават», романы Я. Хамматова «Салават-батыр», Асылгужи «Возраст Салавата», повесть Б. Рафикова «Оседланный конь», а также рассказ С. Шарипова «Монолог Салавата» и очерк Т. Сагитова «Памятник». Большое внимание уделено образу батыра во второй и третьей книгах романа Г. Ибрагимова «Кинзя». Увлекательно рассказано о детстве героя, об исполнении им должности старшины Шайтан-Кудейской волости во время нахождения Юлая Азналина в польском походе 1772-1773 гг., изображен ряд эпизодов успешных боевых действий отрядов Салавата Юлаева. Повесть Б. Рафикова «Оседланный конь» посвящена каторжному периоду жизни героя. Этим произведением писатель положил начало новой жанровой форме в башкирской прозе, которую он назвал «историческая догадка». Рассказ С. Шарипова и очерк Т. Сагитова затрагивают тему Рогервика. В «Монологе Салавата» раздумья батыра у Балтийского моря сопровождаются леймотивом внутренних сомнений о том, прав был он, поднимая народ на грозное, неравное побоище за свободу, или нет. И приходит к выводу — пусть приговор вынесет народ, его слово будет самым справедливым. В «Памятнике» в форме дневника освещается поездка в 1989 г. общественной делегации из Башкортостана в г. Палдиски для участия в торжественном открытиии памятника Салавату Юлаеву.