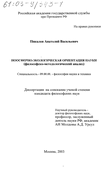Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Проблема гносеологического статуса метафоры в классической философии науки
1.1. Постановка проблемы в рамках классического идеала научности 16
1.2. Неклассические трактовки языка и проблематизация темы в контексте «лингвистического поворота» 36
Глава 2. Становление метафорологии и неклассическая философия науки
2.1. Лингвофилософские концепции природы метафоры 45
2.2. Когнитивные теории метафоры 64
2.3. Социокультурные версии философии науки о познавательном статусе метафоры 76
Глава 3. Эпистемологический статус метафоры в коммуникационно-деятельностной парадигме
3.1. Социальная эпистемология о риторическом измерении научного дискурса 92
3.2. Проблема метафоры в контексте антропологически-ориентированной эпистемологии 107
3.3. Критико-рефлексивный потенциал метафоры: теория коммуникативной рациональности и постмодернистские проекты 118
Заключение 141
Литература 144
- Неклассические трактовки языка и проблематизация темы в контексте «лингвистического поворота»
- Лингвофилософские концепции природы метафоры
- Социокультурные версии философии науки о познавательном статусе метафоры
- Проблема метафоры в контексте антропологически-ориентированной эпистемологии
Введение к работе
Актуальность темы исследования
Эпистемологический статус метафоры становится сегодня предметом особого рассмотрения в философии науки и теории познания. Это связано, с одной стороны, с начавшимся еще с середины XIX в. бумом теоретического интереса к проблеме функционирования языка, осознанием особой роли метафорических образований в различных типах дискурса и разных сферах культуры, со становлением междисциплинарной науки метафорологии, которая позволит изучить природу метафоры в единстве всех ее аспектов — лингвистических, когнитивных, логико-семантических, семиотических, психологических, стилистических и др. С другой стороны, пересмотр эпистемической значимости метафоры обусловлен кардинальной ломкой «эпистемологических ценностей», радикальной трансформацией традиционной гносеологической проблематики и изменением целостного образа науки в постнеклассическом культурном пространстве.
Отказ от классического наукоцентризма, размывание границ между наукой и иными когнитивными практиками и дискурсами, смена представления о науке как таковой означает не только изменение тех оснований, которые очерчивают границы науки как когнитивной системы, но и пересмотр ее методологических норм, регулятивов и концептуальных средств, к которым относится и метафора.
Вопрос о том, «как возможна метафора» в научно-теоретическом познании, оказывается в центре современных дискуссий по проблемам научной рациональности, демаркации научного знания, критериев научности, истинностного статуса научного знания, места науки в культуре. Является ли метафора вспомогательным эвристическим инструментом или лежит в основе научной онтологии, органична ли метафора науке, какова мера метафоричности науки, за пределами которой она перестает быть таковой, тропологические аспекты научного дискурса — те узловые проблемы, вокруг которых концентрируется обсуждение обозначенной темы.
Тематизация эпистемологического статуса метафоры осуществляется в контексте сосуществования и взаимодействия целого спектра эпистемологических программ и моделей науки, имеющих принципиально разные философско-мировоззренческие установки и методологические основания, как то: стандартная концепция науки, базирующаяся на аналитическом подходе («мэйнстрим» в современной философии науки), когнитивистская программа, социокультурные модели, исследовательские стратегии социальной эпистемологии, герменевтическая парадигма, постмодернистский проект. В любом случае, можно говорить о многообразии эпистемологических языков, которые формируют различные образы науки. Крайние позиции очерчивают то проблемное поле, тот эпистемологический горизонт, в котором возможно обсуждение данной темы: от трактовки метафоры как гносеологического девианта в рамках классического идеала научности до признания ее в качестве единственно возможного способа презентации знания как итога познавательной игры в постмодернистском прочтении. Таким образом, вырисовывается предельно широкая эпистемологическая перспектива — от элиминации метафоры из научного дискурса посредством логических редуцирующих процедур до полной легитимации, интенции представить ключевой фигурой познавательной деятельности.
Можно констатировать, что философско-методологическое сознание науки стоит перед новыми вызовами, обусловленными ее историко-культурной и социокультурной релятивизацией, прагматизацией, плюрализацией, размыванием норм и идеалов. Эту ситуацию полемически заострил П. Фейерабенд, утверждавший, что «не существует никакой «научной методологии», которая бы позволила отделить науку от всего «ненаучного». Какое философское будущее ожидает науку, если исходить из тезиса о том, что «теоретический статус эпистемологии отдаляется от естественнонаучного идеала теории и приближается к античному прообразу: теории уступают место сценариям и подходам, метод - дискурсу, понятие — метафоре, истина - консенсусу» [64, С. 11]? Это вопрос, требующий обсуждения.
На взгляд автора, прояснение контекста познавательного функционирования метафоры оказывается непосредственно связанным с фундаментальными смещениями, которые характеризуют современный эпистемологический дискурс, с кардинальными изменениями предпосылочных структур философского мышления, преодолением традиционных концептуальных рамок классики, прежде всего субъект-объектной парадигмы как общегносеологической философской модели, что сопряжено с отказом от репрезентационизма и представлений о языке как нейтральном средстве научного описания, прозрачной среде, в которой артикулируется знание.
Важнейшим импульсом в становлении неклассической философии стало признание детерминированности гносеологического субъекта целым рядом внерациональных и некогнитивных факторов, включая идеологию, бессознательное, язык. Неклассические трактовки языка, переключение внимания с трансцендентальной проблематики на экзистенциальные свойства языка, его идеологические, мифологические, нарративные особенности; репрессивные, дискурсивные и конструктивистские практики его применения - характерная примета неклассического философствования (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ю. Хабермас, М. Фуко, Р. Барт, Ж. Деррида и др.).
Принципиально иная трактовка субъект-объектного отношения и замена ее на субъект-субъектную модель, в которой акцент переносится на сферу межличностных коммуникаций как отношений принципиально диалогичных, аксиологически симметричных, введение в эпистемологию и философию науки экзистенциальных, т.е. антропологических и культурологических характеристик свидетельствует о смене стандартов научной рациональности. Наука все в большей степени приобретает черты «человекоразмерности» (М.К. Петров). Не случайно М. Полани писал, что, «будучи человеческими существами, мы неизбежно вынуждены смотреть на Вселенную из того центра, что находится внутри нас, и говорить о ней в терминах человеческого языка, сформированного насущными потребностями человеческого общения. Всякая попытка полностью исключить человеческую перспективу из нашей картины мира неминуемо ведет к бессмыслице» [115, С. 20].
Переход к принципиально иной эпистемологической стратегии, которую можно определить как «гуманитарный антропоморфизм» (В.В. Ильин), позволяет создать новую модель науки, в которой метафора станет органичным элементом научной деятельности. Это ни в коей мере не означает понижение статуса науки как культурообразующего центра, движение в сторону идеологического антисциентизма и методологического анархизма и волюнтаризма («допустимо все»), но наоборот, предполагает более глубокое понимание природы и смысла науки.
Новая модель рациональности, которую Ю. Хабермас обозначил как коммуникативную, определяется не априорными логическими и методологическими критериями и нормами, а «фундаментальными коммуникативными структурами», укорененными в культуре и языке. Новая модель науки, соответствующая такому типу рациональности, требует построения и новой теории научной метафоры, адекватной поставленной задаче. Логико-семантический анализ научной метафоры, который осуществлялся в рамках логики и методологии науки в русле пропозиционального подхода к исследованию научного знания (изучение референциальных модусов метафорических выражений, их «истинностного» статуса, процедур редукции посредством разного рода логических операций), оказывается недостаточным, поскольку не выводит проблему на уровень философского осмысления, а остается в границах метанаучной методологической рефлексии. В данном исследовании предполагается рассмотрение науки в более широком эпистемологическом контексте, нежели тот, что задан логикой и методологией науки, в рамках которого научное знание предстает как гомогенное, логически организованное, теоретически обоснованное, доказательное. По нашему мнению, философско-методологическое обоснование гносеологического статуса метафоры должно осуществляться в контексте формирующейся социально-коммуникативной эпистемологии, что вовсе не означает отказа от когнитивных достижений логико-семантического анализа, но требует их соответствующей интерпретации в философском языке.
Признание принципиально конструктивного, коллективного, контекстуального, консенсуального, комплементарного, коммуникативного и культурно-обусловленного характера процесса научного познания и любых его результатов позволяет высветить новый ракурс в исследовании когнитивного статуса метафоры. Для этого феномен научной метафоры должен быть интерпретирован, исходя из принципиального диалогизма научного дискурса, обусловленности познавательных актов контекстом общения (В. Библер, М. Бахтин), нагруженности их экзистенциальными смыслами (Г. Батищев).
Солидаризируясь с традицией, представленной отечественной эпистемологической школой, стоящей на позициях коммуникационно- деятельностного подхода (Э. Ильенков) и исповедующей идею перехода к новому типу открытой, или коммуникативной, рациональности (В.А. Лекторский, Л.А. Микешина, В.Н. Порус, B.C. Швырев, Г.П. Щедровицкий и др.), хотелось бы подчеркнуть, что методологическое обоснование такого рода эпистемологии предполагает продуктивный диалог между альтернативными программами и школами. По-видимому, и когнитивный смысл феномена метафоры может быть выявлен только на пересечении разных подходов, концепций, исследовательских программ и стратегий, что и входит в задачу настоящего исследования.
Степень разработанности проблемы
Исследовательский интерес к метафоре в настоящее время охватывает все новые области знания, включая когнитивистику, психолингвистику, семиотику, теорию искусственного интеллекта. Количество работ, посвященных проблеме ее функционирования, обширно и неуклонно продолжает расти. В философском ракурсе исследование метафоры связано с фундаментальными гносеологическими вопросами связи мышления и языка, вербального и невербального, означенного и неозначенного, с проблемой невозможности взаимно однозначного перевода элементов мира и элементов языка. Отсюда многообразие философских концепций языка, трудности в сопряжении когнитивного, логико-семантического, семиотического, психологического, лингвистического подходов в исследовании феномена метафоры.
В эволюции теоретических подходов в исследовании проблемы можно обозначить следующие ключевые позиции. Начиная с Аристотеля метафора исследовалась прежде всего как языковой феномен, фигура речи, троп, лингвистический прием, основанный на переносе свойств одного объекта на другой. В рамках традиционного направления, развиваемого в рамках языкознания, риторики, литературоведения, описаны основные функции и свойства языковой метафоры (А.А. Потебня, Р. Якобсон, А.Ф. Лосев). С конца XIX в. исследования метафоры выходят за рамки риторики, лингвистики и филологии и охватывают сферы культурологии, антропологии, психологии, философии (в том числе философии науки), что связано с выяснением роли метафорического процесса в переводе одной системы значений в другую (В.Н. Топоров, В.В. Иванов, О.М. Фрейденберг, Ю.М. Лотман, Э. Кассирер).
В 60-70-е гг. XX в. на фоне междисциплинарных исследований обсуждение проблемы метафоры переводится в когнитивно-логическую парадигму: разрабатываются вопросы ее эпистемического статуса, осуществляются дескрипции метафорических образований в различных типах дискурса, изучаются ее когнитивные и коммуникативные функции (Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия). Языковая метафора в рамках когнитивного подхода рассматривается как вербальный репрезентант метафорического переноса, осуществляемого на уровне глубинных мыслительных структур. Выделен специфический слой концептуальных метафор как средств организации опыта (Дж. Лакофф, М. Джонсон, Д. Олбриттон и др.). Описан когнитивный механизм экстраполяции структур опыта с известного на неизвестное, необходимый для конструирования аналогий в науке (М. Блэк, Д. Гентнер, Б. Боудл, С. Глаксберг, М. Хессе, Р. Харре, Б. Индуркья).
Аналитической философией разработаны принципы анализа значения и истинностного статуса метафорических выражений, критерии метафоричности (Н. Гудмен, М. Блэк, Э. Маккормак, Д. Дэвидсон, Дж. Серль).
В рамках советской философии проблема метафоры имплицитно присутствовала в исследованиях по гносеологической проблематике (проблема «активности субъекта познания», «соотношения творческого воображения и отражения» и т.п.) (П.В. Копнин, A.M. Коршунов). Можно отметить анализ метафоры как смыслообразующей структуры в контексте социального действия; выявлена ее ценностно-нормативная значимость как механизма введения, трансформации, трансляции культурных значений (Л.Д. Гудков).
В исследованиях по социологии, истории науки, психологии научного творчества тема поднималась при анализе контекста открытия и обоснования научных гипотез (СР. Микулинский, М.А. Розов, Б.С. Грязное, Н.И. Кузнецова).
В отечественной философии и методологии науки научная метафора изучалась в основном в рамках логико-семантического подхода, прежде всего в аспекте функционирования в научном языке: исследовалась роль метафоры в формировании понятийного и терминологического аппарата научной теории, в процессах миграции понятий из сопредельных областей, вербализации информации, онтологизации, интерпретации теорий (В.В. Петров); эксплицировалась роль метафоры в организации теоретического знания в контексте исследования типов и уровней языка науки (С.С. Гусев). В ходе исследований проблемы референциального статуса метафорических выражений зафиксирована безуспешность попыток выделения чисто семантических критериев метафоричности, невозможность описания метафорических структур в рамках стандартной референциальной теории фреге-расселовского типа. Для разрешения парадоксов метафорической референции предлагается обращение к реляционным (холистским) и индексальным теориям значения, «расширенным» теориям референции, включающим референциально непрозрачные контексты в поле рассмотрения и использующим семантику возможных миров для придания теории референции социокультурного измерения. Референциальная специфика научной метафоры видится в уникальности референтов креативной метафоры как феноменов культуры. Данные исследования в основном опираются на аппарат логики и методологии науки, позволяющий осуществить логическую реконструкцию процедур научного описания и объяснения, исследовать категориальные структуры мышления, языка науки, научных теорий, типы логического вывода, возможности формализации и аксиоматизации систем научного знания (В.А. Смирнов, Е.К. Войшвилло, Д.П. Горский, Г.И. Рузавин, А.И. Уемов, Б.С. Грязнов и ДР-) Ситуации кризиса мировоззренческих оснований науки и выработке более широких и гибких представлений о научной рациональности посвящены работы B.C. Библера, В.В. Ильина, С.А. Лебедева, В.А. Лекторского, И.К. Лисеева, М.К. Мамардашвили, А.Л. Никифорова, А.П. Огурцова, В.Н. Поруса, Б.И. Пружинина, М.А. Розова, B.C. Швырева и др. Для рассмотрения проблемы введения культурного, антропологического, герменевтического и коммуникативного измерений в эпистемологию большое значение имеют философские труды Г.-Г. Гадамера, М. Бахтина, М.
Хайдеггера, П. Рикера, опираясь на которые можно описать метафору в качестве средства выражения непредметного содержания, которое открывается в герменевтическом акте понимания.
Трактовка научного дискурса как специфической герменевтической практики Ю. Хабермасом, К.-О. Апелем, социально-конструкционистсткими теориями, опирающимися на несциентистские концептуальные рамки и герменевтические метатеоретические установки (К. Джерджен, Р. Харре), позволяет исследовать роль метафоры в символическом обмене значениями и конструировании социальной реальности. Для раскрытия темы коммуникативно-смысловых функций метафоры в ситуациях междисциплинарного диалога используются работы В.И. Аршинова, Л.П. Киященко, посвященные синергетическим аспектам языка.
Объект исследования — функционирование метафоры в научном знании и научной деятельности.
Предмет исследования — философско-методологический и теоретический анализ статуса метафоры в науке.
Цель исследования — обосновать эпистемологическую значимость метафоры на основе философско-методологического анализа рефлексивных традиций в философии науки.
Задачи:
1. выявить философско-методологические и теоретические основания интерпретации метафоры в рамках классической философии науки — как элемента, не соответствующего методологическим нормам и критериям научности и подлежащего исключению из научного знания;
2. прояснить когнитивный смысл метафоры на основе анализа современной метафорологии и социокультурных моделей науки;
3. обосновать понимание метафоры как содержательного элемента научного знания и необходимого инструмента понимания в научной коммуникации в рамках неклассической эпистемологии и теории коммуникативной рациональности.
Методологическая и теоретическая основа диссертации. Основу диссертационного исследования составили принципы единства исторического и логического, абстрактного и конкретного, методы сравнительно-исторического и философско-методологического анализа. Автор опирался на деятельностно-коммуникационный подход в эпистемологии и философии науки, теорию коммуникативной рациональности, герменевтическую традицию, позволяющие рассматривать метафору как ключевую фигуру в научном дискурсе, осуществляющую коммуникативно-смысловые функции.
Научная новизна работы состоит в следующих полученных автором результатах:
1. выявлены философско-методологические и теоретические основания трактовки метафоры как вспомогательного абстрактного элемента, подлежащего исключению из научного знания в ходе его логического обоснования, в рамках классической философии науки. В соответствии со стандартной концепцией науки метафора вводится в качестве абстракции квазиотождествления на стадии формирования нового знания, когда осуществляется эвристический поиск номинации. При переводе контекста открытия в контекст обоснования, осуществляющемся на основе логических процедур предикации, атрибуции, реификации, верификации, интерпретации, метафорические фигуры мысли, несущие в себе неоднозначность и личностные проекции, элиминируются. Изъятие метафорики из «тела» общезначимого знания фундировано онтологическими допущениями, лежащими в основе классической гносеологии: субъект-объектной моделью, репрезентационизмом, объективистской трактовкой истины.
2. прояснен когнитивный смысл метафоры, который раскрывается в двух аспектах: 1) метафора функционирует в качестве специфического средства концептуализации опыта, инструмента, позволяющего пополнить семантические ресурсы научного разума и сформировать новые теоретические смыслы на основе категориального сдвига и трансфера значений из одной сферы в другую; 2) метафора является особой формой конструирования и конституирования знания, одновременно принадлежащей и «жизненному миру», и миру теоретических конструктов. Наличие фундаментальной связи между процессами концептуализации и метафоризации позволяет представить рациональное мышление как снятую метафоричность на всех уровнях артикуляции знания — от базисного уровня категоризации до формирования научной картины мира. Для исследования процессов категоризации/метафоризации на каждом уровне организации научного знания предложена структурно-функциональная типология научных метафор: выделены метафоры-номинации, метафоры — модельные аналогии, метафоры, определяющие ядро научной теории, парадигмальные метафоры и метафоры, принадлежащие к философским основаниям науки, к культурным универсалиям.
3. обосновано понимание метафоры как содержательного элемента научного знания и необходимого инструмента понимания в научной коммуникации с позиций неклассической эпистемологии, раскрыты коммуникативно-смысловые функции метафоры в ситуации когнитивного общения и междисциплинарного диалога. Современный научный дискурс, представляющий собой коммуникативное событие, сложное единство языковой формы, значения и действия, включающее в себя весь экзистенциальный, личностный фон участников данного, «здесь и сейчас» осуществляемого познавательно-понимательного акта, предполагает использование метафорических средств. Живая метафора соединяет эксплицитное и пропозиционально выраженное знание со знанием целостным, холистским, позволяет присоединиться в акте коммуникации к общему значению. Содержательный смысл метафоры - в конституировании среды символического взаимодействия, в осуществлении синтеза дискурсивного объяснения и герменевтического понимания в практике когнитивного общения.
Положения, выносимые на защиту
1. Роль метафоры в науке не ограничивается чисто эвристическими функциями, связанными с выражением вероятностного, гипотетического знания, которое должно быть заменено теорией в ходе выполнения логических процедур исключения абстрактных объектов. Признание аксиологичности, субъектности, коммуникативности, диалогизма, контекстуальное™, конструктивно-творческого характера научной деятельности позволяет рассматривать метафору как неустранимый, неотъемлемый и органичный элемент научного дискурса в силу незавершенности, открытости познавательного акта, обусловленности его контекстом коммуникации, нагруженности экзистенциальными смыслами.
2. Рассмотрение знания в единстве значения (предметности) и смысла (понимания) позволяет вводить метафору в корпус науки как инструмент синтеза объяснения и понимания. Если из предметности метафора может быть элиминирована в результате перевода на язык логико-дискурсивного мышления посредством редуцирующих процедур, то в отношении понимания такого рода процедуры невозможны.
3. Метафорические средства языка выступают и средством перевода из одной смысловой системы координат в другую, и способом поддержания коммуникации, укрепления солидарности, а значит, теоретический текст предстает риторически и идеологически нагруженным. В силу обозначенных причин тропологический анализ научного дискурса, предполагающий выявление и деконструкцию метафор в ходе критико-рефлексивных процедур, следует считать необходимым элементом методологического самосознания науки.
Теоретическая и практическая значимость работы Полученные результаты могут быть использованы в построении курса по философии науки, в котором метафора рассматривалась бы в качестве необходимого и неустранимого элемента научного знания и научной деятельности. Материалы диссертации могут служить основой для чтения общих курсов по эпистемологии и спецкурсов по философии науки.
Апробация диссертационного исследования
Диссертация обсуждалась на кафедре философии МГТУ им. Н.Э. Баумана и рекомендована к защите. Результаты исследования апробированы на следующих конференциях и семинарах: VII Международные Энгельмейеровские чтения «Этические императивы общества электронных коммуникаций» (Москва, 2003); IX фестиваль гуманитарных наук (Оренбург, 2003); конференция «Метафора и метод» (Москва, 2004), IV Российский философский конгресс (Москва, 2005), а также опубликованы в статьях. Общий объем публикаций составляет 2,8 п.л.
Структура и объем диссертации определяется ее целями и задачами. Работа состоит из трех глав, восьми параграфов, введения, заключения, библиографии.
Неклассические трактовки языка и проблематизация темы в контексте «лингвистического поворота»
Понимание языка как некой сущности, статичной структуры, априорной грамматической формы высказывания вытекает из самого трансцендентально-рефлексивного духа рационалистически-ориентированной европейской культуры. Ему, однако, противостоит традиция неклассической трактовки языка в аспекте его существования, процессуальности, развития. От В. фон Гумбольдта идет линия понимания языка как деятельности — не мертвого ее продукта (Ergon), внешнего средства репрезентации результатов мышления, но особого средства духовного творчества, «созидающего процесса», «постоянно возобновляющейся работы духа» для выражения мысли (Energeid) [41, С. 69-70]. По Гумбольдту, язык выступает медиатором между духом и предметным миром, существующим в своей непрерывности и конституирующего определенное миро-видение. «Влияние языка, — пишет Гумбольдт, — выражается в двоякого рода преимуществах — возвышении чувства языка и формировании своеобразного мировидения» [42, С. 376].
Немецкие романтики также намечают проблемное поле и базовые интенции неклассической философии языка, исследуя тему единства бытия и сознания, бытия и значения, связи между «Я» и миром, которое открывается через обращение к языку первообразов, мифа и поэзии. Отсюда поиск универсального языка символов и акцент на его бытийном измерении, реализующемся в живой метафоре, снимающей ограниченность логико-понятийного, предметного языка. Йенские романтики тоже взывают к разуму, но это не отнюдь не тот разум, который тождествен рассудку и для которого действуют кантовские априорные схемы рассудочного синтеза, — это разум, включающий в себя все — воображение, интуицию, творчество, метафоричность. Метафора для романтиков выступает средством воссоздания целостности универсума, средством превращения разума в дух, включающий в себя всю полноту и целостность человеческого отношения к миру. Так, Шелли полагал, что «язык в самой своей жизненной основе метафоричен. Это значит, что он делает явными до сих не обнаруживавшиеся связи вещей и закрепляет их восприятие, пока с течением времени слова, которые отражают эти связи, не становятся знаками групп или классов идей вместо того, чтобы воспроизводить их целостности; и затем если не появляются новые поэты, способные воссоздать распавшиеся ассоциации, язык перестает служить высоким целям человеческого общения» [147, С. 45]. По представлениям Дж. Вико, поэтический язык, соответствующий героическому веку, состоящий из подобий, метафор, сравнений, перифраз и других элементов поэтической логики, имеет более фундаментальное значение для науки, нежели «проза, которая... говорит почти что интеллигибельными родовыми понятиями». Живое поэтическое слово для Вико господствует над отвлеченным понятием и предшествует абстрактным формам мышления и языка [28].
Ту же мысль находим у русского филолога А. Потебни, последователя Гумбольдта: «Из языка, первоначально тождественного с поэзиею, следовательно, из поэзии, возникает позднейшее разделение и противоположность поэзии и прозы... Прозу принимаем здесь за науку, потому что хотя эти понятия не всегда тождественны, но особенности прозаического настроения мысли, требующие прозаической формы, в науке достигают полной определенности и противоположности с поэзиею» [123, С.175-176].
Тема протеста против ограниченности понятийно-логического мышления, против господства разума, ведущего к панлогическому упрощению и усечению мира, становится лейтмотивом «философии жизни» Ф. Ницше. Сознание, разум, логика, по Ницше, враждебны жизни с ее движением и становлением, ведут к ее схематизации, огрублению и окостенению. Познание в науке, осуществляемое посредством понятий, служит только утилитарным целям и имеет сугубо служебный характер, оно вытекает из стремления человека к жизнеутверждению. Подлинное познавательное отношение есть отношение эстетическое и потому возможно только в сфере художественного творчества. Такое познание опирается не на понятия, а на метафоры: «Вещь в себе» (ею была бы именно чистая, беспоследственная истина) совершенно недостижима также и для творца языка и в его глазах совершенно не заслуживает того, чтобы ее искать. Он обозначает только отношения вещей к людям и для выражения их пользуется самыми смелыми метафорами. Возбуждение нерва становится изображением! Первая метафора. Изображение становится звуком! Вторая метафора. И каждый раз полный прыжок в совершенно другую и чуждую область... Мы думаем, что знаем кое-что о самих вещах, когда говорим о деревьях, красках, снеге и цветах; на самом же деле мы обладаем лишь метафорами вещей, которые совершенно не соответствуют их первоначальным сущностям» [103, С.360-361]. То здание понятий, которое воздвигает наука, «дышит строгостью и холодом», оно возникает вследствие «окостенения» и «окоченения» первоначально наглядных, не поддающихся классификации метафор. По Ницше, понятие — это сухая схема, в которую превращается ясная и осязательная метафора, после того как «истрепалась и стала чувственно бессильной».
Рассматривая науку как специфическую конструктивно-конституирующую деятельность, марбургская школа неокантианства в лице Э. Кассирера полагает ее внутри субъективности мира культуры, обладающей внутренним единством и целостностью в силу присущей ей символичности. Вырастая из исходной целостности, нерасчлененности человеческого сознания, как и другие виды ментальной деятельности, наука участвует в символическом построении мира как одна из знаково-символических культурных форм, наряду с мифом, религией и искусством. Символ выступает тем синтетическим началом культуры, средством структурирования опыта и конституирования мира, в котором воплощено единство интеллигибельного и феноменального. Исследуя знаково-символические формы культуры, Э. Кассирер различает два способа образования понятий - логически-дискурсивный и лингво-мифологический, имеющие различную направленность и приводящие к разным результатам. Логически-дискурсивное мышление понимается им как интеллектуальный процесс объединения отдельного и общего с последующим растворением отдельного в общем; при этом взаимодействии вид охватывается более высоким родом, но вместе с тем они остаются отделенными и не совпадающими друг с другом: «каждое понятие обладает принадлежащей ему «сферой», отграничивающей его от других понятийных областей. Эти сферы могут многообразно перекрываться и пересекаться друг с другом, и тем не менее каждая из них занимает строго определенное место в понятийном пространстве.
Лингвофилософские концепции природы метафоры
Учитывая обрисованные выше трансформационные сдвиги, рассмотрим те позиции в современной лингвистической философии и философии науки, которые позволяют проследить эволюцию эпистемологического статуса метафоры, пути превращения ее в элемент, имманентно присущий науке.
Новый ракурс рассмотрения проблемы функционирования языка приводит к радикальному переосмыслению концептов «язык», «текст», «дискурс», «метафора», «нарратив» в контексте расширения сферы их применения и пересмотру некоторых методологических установок, свойственных философии языка XX века, в частности ориентации на логику единичного высказывания. Как отмечает Ф. Анкерсмит, философия языка в духе кантовской эпистемологии ставит во главу угла исследование «истинного единичного высказывания как простейшего строительного блока в здании нашего знания о мире». Однако по большей части знание о мире артикулируется в виде текста или повествования, вопрос об истинности которого не сводим к логике единичного предложения. «Именно поэтому, — пишет Анкерсмит, - нам нужна философия (исторического) повествования, в которой признается, что нарративная репрезентация ставит перед нами ряд философских проблем, отличающихся и несводимых к тем, на которые направлен эпистемологический анализ истинного единичного высказывания» [6, С. 10].
Обсуждение проблемы метафоры переводится в когнитивно-логическую парадигму: разрабатываются вопросы ее когнитивного статуса, осуществляются дескрипции метафорических образований в различных типах дискурса и разных сферах культуры, изучаются ее когнитивные и коммуникативные функции [108, 165]. Меняются методологические регулятивы и схемы интерпретации: от интенции «окончательной редукции» к рассмотрению ее как основного элемента эпистемологического дискурса, при этом предпринимаются попытки выйти за пределы собственно лингвистической трактовки метафоры как переноса имени.
Трудности в интерпретации и экспликации феномена метафоры во многом связаны с тем, что исследователи размещают метафору в разных, диаметрально противоположных местах смыслового и семиотического пространства (например, исследуют референциальный статус или смещают фокус интереса к подразумеваемым смыслам, связывают с процессами генерализации или, наоборот, индивидуализации смысла, относят к фигуративному измерению языка, либо, наоборот, к теоретическому мышлению, помещают в контекст когнитивной эвристики или исследуют роль в процессах коммуникации и т.д.). Можно констатировать, что пока что эти позиции остаются в философском смысле несоизмеримыми [3].
В принципе, все подходы к анализу метафорических образований в рамках философии и методологии науки сегодня можно уложить в две ведущие стратегии. Первая - позитивистско-сциентистски ориентированная - заключается в выявлении метафор в структурах научного знания, прояснении их эвристической роли (номинация, дескрипция, моделирование, реструктуризация, построение гипотез и т.п.) с последующим переводом их на язык ratio — логи ко-дискурсивного мышления. Цель этой стратегии — путем различного рода редуцирующих процедур — экспликации, интерпретации, верификации, введения и исключения абстракций — получить старую модель чистого ratio, говоря позитивистским языком, соединить контекст обоснования с контекстом открытия, посредством операции «нормативной регрессии» осуществить сведение концептуальных построений, несущих в себе проекции индивидуальных ценностей исследователя, к таким понятийным структурам, которыми кодифицируется «объективность» процесса познания и которые могут быть признаны в качестве отвечающих стандартам научной работы, содержательным нормам парадигмы, теории или концепции. Эта позиция исходит из того, что в самих фундаментальных основаниях науки заложены интенции всеобщности и общезначимости, установки на полноту охвата действительности объясняющими схемами; она фундирована стремлением конституировать differentia specified науки, выявить специфику оснований научности знания.
В эпистемологическом ключе функциональная задача метафорического выражения при таком подходе трактуется как аналоговое моделирующее описание и гипотетическое объяснение, чисто рациональная, теоретическая ассоциация, и тогда встает задача соотнесения ее с процессами аналогизирования, идеализации, абстрагирования и моделирования реальности.
Классическая философия науки в своем современном варианте, констатируя наличие метафорических и метафороподобных образований в теле науки, их гносеологическую роль сводит прежде всего к номинативной функции [10], т.е. вербализации нового знания [72], лингвистического оформления, «упаковки» новых понятий по принципу «новые сущности — новые имена».
Среди предпосылок расширения семантического потенциала науки выделяются такие черты научного языка, как полиморфизм, инверсность и неполнота [56], указывающие на трансформационную способность понятий, на возможность обнаружения внутренних резервов развития исходных понятий за счет актуализации коннотативных потенций, открытия новых денотативных слоев, возможностей интерпретации в новом эпистемологическом контексте (например, понятие поля, присутствующее во всех научных дисциплинах от математики до социологии) [125]. Термин с фиксированным значением начинает использоваться метафорически, в ином смысле в результате содержательной переинтерпретации (к примеру, понятие валентности в лингвистике). В результате семантической мутации в новой области применения термин приобретает иной смысл. К стершимся, мертвым, утратившим свою метафорическую природу (эпифорам) относятся основные понятия классической физики — масса, сила, поле, тяготение и др. Историками науки показана эволюция этих понятий, заимствованных из обыденного опыта, натурфилософских концепций, христианской теологии и других сопредельных сфер [34]. Г. Башляр, например, описал философскую эволюцию понятия массы, которое первоначально несло в себе анимистические образы, будучи синонимом концентрации благ, количества еды, затем было связано с эмпирическим использованием и попытками точного определения путем взвешивания и только в ньютоновой механике вписывалось в систему понятий через соотношение с понятиями силы и ускорения [20].
Социокультурные версии философии науки о познавательном статусе метафоры
Внутри другой философской традиции — прагматистской — также явственно просматриваются тенденции в трактовке метафор как структур организации опыта, создающих то культурное пространство, то поле значений, из материала которого строятся философские теории, объяснительные схемы, вероятностные гипотезы в науке. В этом плане примечательна концепция американского прагматиста С. Пеппера. Он первым ввел в научный обиход понятие «корневой метафоры», которая впоследствии стала соотноситься с познавательной моделью. В работе «Мировые гипотезы» [184] он выдвинул теорию корневых метафор, объясняющих ход философской мысли и выполняющих роль конструктивных инструментов в научном познании. «Мировые гипотезы», которыми оперирует философия, отличаются от гипотез частных наук «неограниченностью» своего предмета, поскольку охватывают собой всю область человеческого опыта без каких-либо изъятий. Поиск исходной аналогии для объяснения и описания мира осуществляется исследователем из эмпирического опыта. Сфера, которая может стать ключом к пониманию проблемной области, становится корневой метафорой; ее структурные характеристики и генерализации формируют систему концептов и принципов интерпретации искомой области. Если корневая метафора хорошо работает как объяснительный принцип, она порождает метафизическую теорию, разворачивается в систему категорий, которые специфицируются, конкретизируются, наполняются содержательным смыслом. Сама корневая метафора в итоге также приобретает контекстуальную четкость и определенность. Пеппер считает, что таких конкурирующих «мировых гипотез», дающих достаточно адекватное описание и интерпретацию всего наличного человеческого опыта, существует всего четыре: формизм, основанный на корневой метафоре сходства; механизм, основанный на аналогии притяжения/отталкивания, который нашел свое высшее выражение в электромагнитно-гравитационной теории поля; организмизм, основанный на метафоре динамического органического целого (гегельянство); и контекстуализм, базирующийся на идее исторической изменчивости (Дьюи и его последователи). Отметим попутно, что на пепперовские базовые метафоры организмизма или механизма традиционно опирались теории профессионального развития, сегодня же исследователи в области социальной психологии все больше придерживаются контекстуалистского подхода, ключевая метафора которого - «мир - это событие». В работе «Метафора в философии» (1973) [183] Пеппер отмечает, что метафорические пресуппозиции заполняют собой все культурное пространство, проникая в обыденные представления людей, повседневный язык, науку, логику. Таким образом, поиск объяснительной аналогии порождает набор соответствующих категорий, которые и формируют костяк теории. Однако, чтобы удостовериться в метафорической природе философских объяснительных схем, нужна, как полагает Пеппер, некоторая «когнитивная дистанция», подобная эстетической, между явлением и объясняющим его понятием. Благодаря наличию этого зазора категории могут быть открытыми, поддающимися корректировке, допускающими альтернативные суждения, то есть они могут выполнять роль вероятностных гипотез, будучи в основе своей метафорическими. Осознание метафорической природы заданного набора понятий происходит тогда, когда в полной мере осознана степень этой когнитивной дистанции. В результате этой процедуры рефлексии и возможно использование метафор как полезных инструментов.
Пеппер отмечает, что термин «корневые метафоры» можно употреблять и в другом прочтении: следуя идее Витгенштейна о группах, обладающих «семейным сходством» и соотносимых с парадигмальным образцом, мировые гипотезы можно рассматривать как парадигмальные случаи, которые дают начало различным философским школам, подобно тому, как мысленный образец, схема предмета порождает «сложную сеть подобий, накладывающихся друг на друга и переплетающихся друг с другом, сходств в большом и малом» [ЗО, С.111]. При таком подходе, как полагает Пеппер, в мировых гипотезах Платона, Аристотеля, Аквината и других философов легко угадываются черты «семейного сходства», а именно акцентуация на проблеме взаимоотношения формы и содержания. «Когда один тип формизма выступает как представитель группы, его можно рассматривать как парадигмальный случай группы» [183]. Пеппер же придерживается иной интерпретации коренной метафоры, которая позволяет проследить ее движение к более развитым, точным и адекватным формам философской теории, поскольку, как ему кажется, витгенштейновская идея семейного сходства недостаточна для описания этого процесса развития и не рассматривает парадигмальный образец как гипотезу, имеющую особую объяснительную силу.
Что касается куновского понятия парадигмы как образца научно-исследовательской деятельности и его соотношения с базовой метафорой, то Т. Кун, как считает Пеппер, практически не проводит между ними различий, за исключением того, что первое понятие имеет у него более узкоспециальный смысл. В куновском понимании парадигма выступает как регулятивный образец научной деятельности, как заданный способ постановки и решения научных проблем дисциплинарным научным сообществом. По Куну, теория, выступающая в качестве образца и методологического основания для решения проблем, т.е. в качестве парадигмы, или дисциплинарной матрицы, образована упорядоченными элементами разного рода, среди которых он выделяет в первую очередь «символические обобщения» - те выражения, которые легко формализуются, общепризнанные ценности научного сообщества - и «метафизические части парадигм», или концептуальные модели, включающие в себя общепризнанные предписания.
Проблема метафоры в контексте антропологически-ориентированной эпистемологии
Решение проблемы рациональности вообще и научной рациональности в частности в принципиально неклассическом ключе задает особую перспективу для темы данного исследования. Тематизация культурного, герменевтического и коммуникативного измерения в постнеклассическом эпистемологическом пространстве в рамках антропологической и культурцентристской парадигмы в философии языка задает новый вектор анализу метафоры в научном дискурсе. Пересмотр предпосылок онтологии сознания, включение субъекта как носителя когнитивной рациональности в систему деятельности и отношений, в систему коммуникации и трансляции смыслов, опосредующих познавательные отношения, означает построение нового образа науки, введение в него антропологического, бытийного измерений. Это значит, что в философию науки должны быть включены исторические и социокультурные, пространственные и темпоральные параметры, существенно переосмыслено само понятие рациональности в терминах «человекоразмерности». Ведь главным предметом и конечной целью философии науки остается человек, осуществляющий познавательную деятельность в форме науки.
В этом плане трудно переоценить идеи М.М. Бахтина, который вместо абстракций традиционной гносеологии вводит в философию познания исторически действительное «участное» сознание, рассмотренное как архитектоническое единство познавательного, этического и ценностного отношения человека к миру. Познавательный акт в этом контексте предстает как ответственный поступок «участного» сознания, действенно переживающего конкретную единственность мира. Традиционная субъект-объектная структура эпистемологического акта в концепции Бахтина опосредуется системой ценностных и коммуникативных отношений, диалогизмом как живым отношением двух сознаний. Помыслить предмет, по Бахтину, значит вступить с ним в событийное отношение, понять и пережить как «единственную единственность». «Участное» поступающее сознание выступает как ценностный центр, стягивающий в конкретно-единственное единство различные с отвлеченной точки зрения планы: и пространственно-временную определенность, и эмоционально-волевые тона и смыслы [17]. Как видим, построение новой эпистемологии фундируется новой онтологией человеческого бытия, онтологией поступка - «события бытия». Л.А. Микешина, анализируя значение идей Бахтина для современной эпистемологии, приходит к выводу, что предложенное им неклассическое видение архитектоники человеческого познания, не исчерпывающегося абстрактным субъектно-объектным отношением, может стать основанием для построения эпистемологии XXI века, вбирающей в себя и идеалы естествознания, и опыт наук о культуре, и художественное видение мира, и конкретные пространственно-временные характеристики познавательной деятельности (хронотоп) [96, 98].
Выход за пределы сферы когнитивного, поворот к новой онтологии, преодолевающей философию Cogito, был осуществлен и в фундаментальной онтологии М. Хаидеггера. Экзистенциальная аналитика Dasein призвана была посредством онтологической герменевтики прояснить структуры жизненного мира, взаимосвязи смысла, в которых обнаруживает себя повседневное существование. Познание в таком ракурсе выступает как модус наличного бытия, Dasein, фундированный в бытии-в-мире. Отталкиваясь от идеи Хайдеггера об онтологическом различии бытия и сущего и опираясь на его критику и деструкцию языка метафизики как языка, базирующегося на субъект-объектной структуре мира, и трактовку подлинного языка как имеющего бытийную природу, можно ввести два языка описания действительности: язык вещный и язык бытийный. Субъект-предикатная, пропозициональная форма языка приспособлена для выражения лишь предметного измерения действительности, «сущего как наличной взаимосвязи вещей», описываемого в терминах «вещь-свойство-отношение». К этой сфере, по-хайдеггеровски, онтичного, наличного бытия, или Dasein, принадлежат позитивные науки. Притязания пропозициональной истины на значимость имеют смысл в границах указанного выше отношения. Действительность же, понятая сегодня как деятельностно-коммуникационный универсум (мир деятельности и общения: «бытие-с-другими», «бытие присутствия» - в терминах Хайдеггера), требует освобождения от власти грамматики и пропозициональной логики, поскольку бытие как присутствие может не быть концептуализировано. По Хайдеггеру, оно может быть понято только на основе разомкнутости присутствия, экзистенциально-герменевтической процедуры интерпретации смысла бытия (в противоположность феноменологическому созерцанию сущности). В хайдеггеровской герменевтической модели понимание выступает фундаментальной характеристикой бытия, будучи прежде всего самопониманием, без которого оно становится неподлинным. То есть понимание есть не акт субъективности, но сам способ бытия. В силу изначальной «герменевтичности» человеческого существования понимательные акты, связанные с поиском смысла, предшествуют познавательным процедурам приписывания значений и радикально отличны от них.
Язык бытия, будучи речью, «говорением», нечто «про-являет», дает слышать, он преодолевает оппозиции «субъект-объект», «молчание-речь», потому что бытие неподвластно ассерторическому напору дескриптивных по предложений. Речь о бытии пропозиционально бессодержательна, она может «умолкнуть». Молчание и слышание принадлежат к модусам подлинной речи: «умолчание как модус говорения артикулирует понятность присутствия так исходно, что из него вырастает настоящее умение слышать и прозрачное бытие-с-другими» [160, С.165]. Молчание противостоит многоговорению, которое погружает понятое в непонятность тривиальности, тем самым позволяя избежать инфляции языка и сохраняя аутентичный смысл Слова.
Гадамер, вслед за Хайдеггером, полагает язык в качестве универсальной среды герменевтического опыта, способа мироистолкования, предпосланного любому акту рефлексии. Все понимательные феномены являются по сути языковыми, а само понимание выступает как языковое событие. Так, молчание, немота — «немотствующее удивление», утрата дара речи, озадаченность, приостановка мысли — также представляют собой событие языка, которое напрямую связано с дальнейшим продвижением к истине. А в речевом событии как акте коммуникации, общения всегда обнаруживается многослойность смысла, даже если контекст придает слову однозначность.