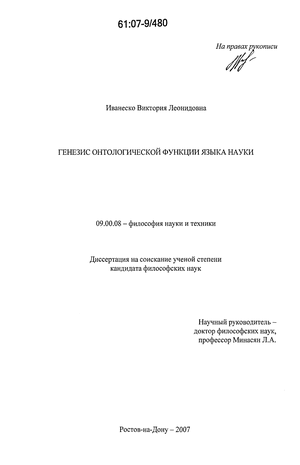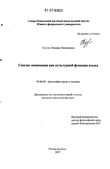Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Изменение функций языка науки в XX веке 10
1.1. Кризис языка классической науки 10
1.2. Социокультурные основания научного сознания и языка 33
1.3. К новой онтологии языка науки: от бытийности предметного описания к бытийности универсальной коммуникации 53
Глава 2. Становление оснований новой философии языка науки 67
2.1. Предметно-функциональный анализ языка науки в рамках философии языка 67
2.2. Онтологические основания нового языка науки 105
2.2.1. Западная философия языка о выражении бытия как глубинной цели языка 106
2.2.2. Русские философы о языковых средствах выражения Бытия 126
Заключение 144
Литература 146
- Социокультурные основания научного сознания и языка
- К новой онтологии языка науки: от бытийности предметного описания к бытийности универсальной коммуникации
- Онтологические основания нового языка науки
- Русские философы о языковых средствах выражения Бытия
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Развитие науки в XIX-XX веке, обусловленное ее теоретическим и методологическим кризисом, потребовало углубления анализа ее оснований до философских и онтологических, когда выяснилось, что сам язык науки (основой которого считался язык физики и математики) не способен выразить открытые ею же новые явления природы, из-за их необычности и противоречивости. Это подорвало авторитет языка науки: он уже не мог считаться идеалом для любой познавательной Деятельности, как среди самих научных дисциплин, так и в гуманитарной сфере. Все продолжающееся и углубляющееся разделение научных дисциплин сказалось и на языках этих дисциплин: каждая из них начала создавать для своих нужд свой собственный язык, что означало их обособление и отрыв от других, от науки в целом, и от культуры, поскольку чем более язык науки специализирован, тем менее он понятен обычному человеку.
Кризис классической науки, с одной стороны, и отрыв ее деятельности от непосредственных нужд человечества, с другой, означали смещение фокуса социокультурной значимости науки в сторону гуманитарных дисциплин, изучающих проблемы смысла, понимания, коммуникации. Язык классической науки не мог обеспечить их анализа, что и вызвало интерес к анализу собственно языка науки как такового, на предмет выявления и расширения границ его выразительных возможностей. Этим занялась классическая лингвистика, и быстро обнаружилось, что она не в силах ничего сделать: язык науки един в пределах науки. Так что, чтобы анализировать кризисное состояние языка науки, лингвистике потребовалось развивать собственный язык, т.е. развиваться самой.
Это развитие прошло ряд этапов, сначала в рамках самой лингвистики: от синтаксического анализа к семантическому (логическому); был создан ряд новых лингвистических концепций, в рамках которых возникли новые проблемы, касающиеся уже онтологических вопросов. Тем самым, лингвистика вышла на уровень философии языка. Для нынешнего этапа ее развития
характерно обращение разных исследователей языка науки и языка вообще к философским концепциям и заимствование из них более или менее подходящих онтологических идей и принципов. Здесь имеет место большой разнобой, т.к. среди исследователей нет единого мнения о задачах языка в культуре вообще. Вместе с тем, наблюдается тенденция к выходу на некие универсальные и абсолютные основания языка и языковой деятельности, и представляется важным попытаться проанализировать, систематизировать и упорядочить эти попытки. В этом и заключается актуальность настоящей работы.
Степень разработанности проблемы. Современные воззрения о природе языка восходят к идеям Р.Декарта, Г.Лейбница, Дж.Локка, Дж.Беркли, Д.Юма. Локк ввел термин "знак" в отношении слова как базисной единицы языка и утверждал, что знаки являются символами наших идей, а идеи -подлинное и непосредственное наполнение знака. Лейбниц добавил, что слова являются не только символами наших идей, но также и вещей. Тем самым он установил двойственную зависимость знаков от наших идей и обозначаемых предметов. Аббат Кондильяк в XVIII веке высказал идею, что мы сами изобретаем язык для реализации мыслительной способности, а язык снабжает нас инструментом анализа наших мыслей.
Подлинным "отцом" современной лингвистики считается Фердинанд де Соссюр, определивший основные направления исследования лингвистических исследований. Изучением проблемы знака, значения и смысла занимались Ч.С. Пирс, Л. Витгенштейн, Г. Фреге, Э. Сепир, Э. Бенвенист, Р. Барт, А. Тарский, Р. Карнап, Б.Уорф, Ж. Пиаже, Н. Хомский, Дж. Серль, и др., заложившие основы философии языка. Важный вклад в исследование проблем языка, знака и мышления внесли и отечественные ученые - А.А. Потебня, Л.С. Выготский, А.Ф. Лосев, А.Р.Лурия, Г.П.Щедровицкий, М.М.Бахтин и др. Анализу языка науки уделяли внимание такие исследователи, как К.Поппер, Т.Кун, М.В. Попович, В.П. Филатов, Г.П. Щедровицкий, С.А. Васильев и др.
Структурно-семиотическим анализом языка занимались А. Соломоник, Р. Барт, Е. Горный, В.И. Кодухов, Н. Г. Комлев, В.А. Конев, И.Г Корсунцев и
др.
Функциональным анализом значения и смысла занимались О.Розен-шток-Хюсси, Л.А. Микешина, Т.Б. Кудряшова, Л.В. Максимов, В.Т. Мануйлов, В.З. Демьянков, В.М. Сергеев, А.В. Назарчук, С.Е.Никитина.
Исследование коммуникативной функции языка проводили К.-О.Апель, Ю.Хабермас, М.М. Бахтин, И.Р.Фарман и др.
Выявлением и разработкой онтологических оснований языка занимались И.Кант, Э.Гуссерль, М.Хайдеггер, М.Бубер, А.Белый, П.А.Флоренский, С.Н. Булгаков, А.Ф.Лосев, М.К. Мамардашвили, В.В.Налимов, Г.С. Батищев, С.Цоколов, Э. фон Глазерсфельд, П. Ватцлавик, У. Матурана, Ф. Варела, и
др.
Однако, все эти исследования проводились разрозненно, и не ставилась задача их сопоставления и увязывания, в рамках общей философии языка.
Цель исследования - выявление специфики и генезиса онтологии-ческой функции языка науки.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
проанализировать основные проявления кризиса науки в ее языке;
рассмотреть социокультурные детерминанты языка науки;
показать коммуникативные функции языка науки;
сопоставить основные концепции предметно-функционального анализа языка науки в рамках философии языка;
выделить основные онтологические концепции языка науки в западной философии языка;
рассмотреть взгляды русских философов на онтологические основания языка.
Объект исследования - язык науки в единстве его познавательных и социокультурных функций.
Предмет исследования - онтологическая функция языка как основа его выразительных возможностей.
Гипотеза исследования. Язык обладает многими функциями, определяющими его социокультурную роль: обеспечивать адекватное выражение в социальной коммуникации любых моментов и аспектов индивидуального, социального и духовного бытия. Представляется, что главной из этих функций является онтологическая функция, определяющая условия реализации остальных.
Методологическая основа исследования. Сложность и многоплановость избранной темы потребовали привлечения материалов и источников широкого спектра: естественнонаучных, историко-философских, социально-гуманитарных и лингвистических. Данное обстоятельство обусловило использование таких методов, как компаративный анализ, системный подход и междисциплинарный синтез. Были привлечены некоторые положения философии науки, философии языка, некоторые идеи герменевтики, современные исследования семиотики и онтологии языка. Также был использован ряд принципов методологии социального и исторического познания, обосновывающих идею нелинейности, многомерности и многообразия эволюционных процессов в знаковых системах.
Научная новизна исследования выражается в следующем:
рассмотрены этапы генезиса - расширения и углубления - языка науки, обусловленного ее кризисом;
раскрыты социокультурные требования, предъявляемые к языку науки в наше время;
показана роль междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований для развития языка науки;
показан процесс углубления анализа языка науки от чисто лингвистического к структурно-функциональному и далее - к онтологическому контексту;
показаны основные формы реализации онтологической функции языка науки в западной философской традиции («переживание», «смыслопо-рождение», «самопостижение»);
показаны основания выразительной (символизирующей) способности языка в русской философии («сущность», «энергия», «логос», «эйдос»).
Положения, выносимые на защиту:
Кризис науки породил проблему потери языком науки его специфических качеств: непротиворечивости, полноты и определенности. Поиски причин этого вызвали критику научного подхода в целом - за экспансионизм, и языка науки за ограниченность его только понятийными формами выражения, из-за чего почти каждая наука замыкается в себе и отгораживается как от других наук, так и от культуры в целом. Это заставляет исследователей выходить на содержательно-смысловой уровень анализа языка науки как в общефилософском (онтологическом) плане, так и в коммуникативном (психологическом), и в культурологическом (ценностном) плане. Возникает проблема описания генезиса языка науки.
В XX веке начинается исследование зависимости науки от общекультурных оснований научного сознания: выявляются различные факторы, обуславливающие то или иное видение учеными мира (парадигма) и построение его картины; смену одной картины другой; взаимоотношение научных картин мира; поиски оснований (и языка для) подлинно единой картины мира, в которой были бы сняты противоположности не только между разными науками (естественными и гуманитарными), но и между наукой и культурой в целом, т.к. только это может решить фундаментальную проблему коммуникации - проблему непонимания.
Междисциплинарные исследования языка науки, призванные решить проблему синтеза знаний на основе универсальной научной парадигмы, сменились трансдисциплинарными исследованиями, исходящими из идеи ценностного единства научных парадигм (культурный аспект) и стилей научного мышления (ментально-психологический и историко-культурный аспекты).
Только такой подход способен вывести анализ языка на уровень полномерной философии языка, отражающей все его уровни и контексты: функциональный, социально-психологический, онтологический.
Кризис языка науки сказался и на лингвистике, в которой обнаружилась недостаточность чисто лингвистического анализа языка. Это породило структурализм, в рамках которого выделились предметно-логическое (когнитивное), эмоционально-оценочное (субъективное) и функциональное (коннотативное) направления исследования значений языка. Пришлось пересмотреть традиционный взгляд на соотношение мышления и языка, отказаться от разграничения лингвистического знания на эмпирическое и теоретическое и ввести вместо базового термина «понятие», отражающего структуры значений, новый базовый термин «концепт», отражающий контекст смыслообразования: его объективные (когнитивные) и субъективные (коммуникативные) условия. Разделение этих двух видов условий породили когни-тивизм (в лингвистике) и конструктивизм (в философии языка). Рассмотрение собственно коммуникативной функции языка породили трансцендентально-герменевтический подход К.-О. Апеля и теорию коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса, прямо выводящие лингвистику в этику и культурологию, а философию языка - из гносеологии (проблема адекватного выражения предмета в языке, или проблема внешней формы языка) в онтологию (проблема оснований внутренней формы языка), т.е. от понятия предмета к понятию бытия.
Э. Гуссерль значительно расширил содержание сознания и языка, введя термин «жизненный мир» и его элемент - «переживание» (феномен) -как предельное основание смыслопорождения в рамках любого языка. М. Хайдеггер попытался с помощью языковых средств выразить деятельные и рефлексивные особенности «переживания» и смыслообразования, чтобы выйти на изначальные формы единства мышления и бытия, с опорой на способы постижения бытия. Но М. Бубер указал на отсутствие в онтологии Хайдеггера личности, предложив универсально-коммуникативную трактов-
ку бытия как общения с абсолютом - Богом - и через Бога - с самим собой как подлинным Я, для которого главное - формы самопостижения собственного бытия. Только такие Я могут создавать подлинные Ты и Мы. В этом и заключается подлинное саморазвитие Я (Г.С. Батищев).
6. Взгляд на бытие с позиции универсального знака - Символа, - который разрабатывал А. Белый, выводит в фокус онтологических .оснований языка знак, делая его как бы источником развития содержания и смысла языка на разных рефлексивных уровнях, начиная с абстрактного единства, через действие выражения, кончая всеобщим действием символизации. Дальнейшее исследование этих действий предпринял А.Ф. Лосев, который описывал их в терминах «сущности» и «энергии». Суть его взглядов на язык, разделяемая П.А.Флоренским, С.Н.Булгаковым, А.А.Потебней и др., заключалась в полагании, противопоставлении и сопряжении с помощью языка двух сфер бытия - материальной и духовной, логоса и эйдоса. Тем самым, человек получает возможность мыслить не только в языке, но и в метаязыке, отражающем предельный масштаб бытия и обеспечивающем универсальную коммуникацию.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Выводы и основные положения диссертации могут быть использованы как материалы в учебных курсах по философии науки, спецкурсах по философии языка, истории и теории науки.
Апробация исследования. Диссертация обсуждалась на объединенном заседании кафедры философии, теологии и культурологи РГПУ и отдела социально-гуманитарных наук Северо-Кавказского научного центра высшей школы.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы из 172 наименований. Общий объем работы 157 страниц.
Социокультурные основания научного сознания и языка
Довольно часто описываемая история науки выглядит как случайный набор открытий и теорий, зависящий лишь от одаренности ученых. Нарративная история полна «случайностей» и «ошибок». При таком подходе становится невозможным выяснение закономерностей познавательной деятельности и соответственно прогнозирование дальнейших направлений ее развития. В этом случае будущее оказывается непрогнозируемым не только в отношении науки, но, учитывая ее техногенную роль, и состояния общества и мира в целом. Объяснения посредством отсылок к уровню развития общества или культуры могли бы что-то прояснить при условии отдельного существования общества (культуры) и науки. Однако общество - не монолит, фатально детерминирующий науку. Кроме того, развитие различных элементов (подсистем) социальной системы само испытывает влияние научных достижений. Даже если перейти от абстракции общества к воздействию экономической, политической, образовательной и других подсистем социальной жизни, мы сможем только лишь декларировать факт их влияния на науку. До тех пор пока мы не осознаем механизм их взаимодействия, наука будет восприниматься амбивалентно: то, как всеобщая панацея, то как «демон абстрактно-рационального самосознания»,45 представляющийся источником цивилизационной и даже планетарной катастрофы.
В последнее время взаимосвязь науки с иными социальными подсистемами часто рассматривается следующим образом: «Внутренняя логика развития науки и внешнее влияние соотносятся как описания, подчиняю щиеся принципу дополнительности Н. Бора». Если не имеется в виду взаимодополнение (комплементарность), возникающее в результате влияния друг на друга взаимосвязанных систем, и речь идет не о метафоре, а об экстраполяции положения квантовой механики на социальную сферу, то оно должно иметь объяснительный характер. В таком случае, согласно указанному принципу, получение данных об объектах науки неизбежно связано с изменением данных во вненаучнои среде, дополнительных к первым. Этот принцип описывает пары величин, называемых «сопряженными»,47 и тогда в социальном контексте возникает вопрос, какие явления, факты, величины науки и внешних ей сфер составляют сопряженные пары, дополнительные друг другу? И сам вопрос, и ответ на него относятся к компетенции науки, поэтому применение принципа дополнительности Н. Бора к взаимодействию внутренней логики науки и внешних влияний оказывается все-таки научной метафорой. Ее значение заключается в стремлении исследователей определить некое единое пограничное поле взаимодействия науки и других (внена-учных) социальных подсистем, и найти исходные методологические начала, лежащие в основе этого взаимодействия, наделив их онтологическим статусом. Такой подход связан с общепризнанным, отнесенным Т. Куном к «метафизической части парадигм», предписанием, что всякая методология основывается на методологических принципах иного уровня. При этом «методологическое первоначало» определяется ведущей парадигмой (или дисциплинарной матрицей), выступающей как набор предписаний для научной группы.
Обращение к принципу дополнительности свидетельствует о том, что в качестве лидирующей принята физическая парадигма. Почему? Например, X. Ортега-и-Гассет обосновывает «образцовость физического мышления по сравнению со всей остальной интеллектуальной практикой», исходя из представлений о дуализме человеческой природы: «Тела были учителями духа, как кентавр Херон - наставником греков. Не будь вещей, которые можно было бы увидеть, потрогать, сей надменный «дух» представлял бы собой чистейшее безумие. Тело - жандарм и учитель духа».49 Для других физическая парадигма привлекательна интеллектуальной глубиной, сложностью и гармоничностью и оценивается как наиболее прекрасное и удивительное творение коллективного человеческого разума.50 В третьем случае основанием выступает физический принцип единства мира: «Всем известно, что строение и функционирование человеческого организма определяются физическими условиями существования на нашей планете».51
Приведенных примеров достаточно для того, чтобы увидеть различную - метафизическую, мировоззренческую и методологическую - обусловленность выбора одной и той же парадигмы в качестве лидирующей. Многообразие оснований для выбора парадигмы может быть понято двояко. Если выбор совершенно свободен и зависит лишь от индивидуальных предпочтений, то он произволен и фактически не детерминирован, обоснование только оформляет его post factum. При таком понимании невозможно уловить закономерности развития науки и способы ее взаимодействия с внена-учными сферами, позволяющими так регулировать научный поиск, чтобы он не причинял вреда человеку и человечеству. Или же разнообразие оснований для выбора ведущей парадигмы в свою очередь опирается на нечто более фундаментальное?
К новой онтологии языка науки: от бытийности предметного описания к бытийности универсальной коммуникации
С самых ранних времен главной ценностью культуры считалась мудрость, в основании которой лежало познание бытия через описание предметов внешнего мира - знание, обладание которым считалось важнейшим и необходимым средством решения любых проблем. Поэтому исходной целью науки и предметом ее усилий и стала разработка способов выявления знаний через описательные схемы. По мере теоретизации науки главной проблемой стало обоснование (систематизация) этих схем, а на следующем этапе -выявление критериев эффективности такого обоснования. В этом качестве стали использоваться принципы рационализма, ставшие главным признаком «классического мышления», с характерными для него фундаментализмом и кумулятивизмом, противопоставлением истины ценностям, дихотомией эмпирического и теоретического знания и другими "классическими предрассудками". В работе Ивина выделены три момента, выявленные в результате кризиса «классического мышления»: «никаких абсолютно надежных, не пересматриваемых со временем оснований теоретического знания не существует и можно говорить лишь об относительной их надежности; в процессе обоснования используются многочисленные и разнородные приемы, удельный вес которых меняется от случая к случаю и которые несводимы к какому-то ограниченному каноническому их набору; само обоснование имеет ограниченную применимость, являясь, прежде всего, процедурой науки и связанной с ней техники, но не знания вообще».84 Здесь подчеркивается именно то, что требование обоснованности и рациональность являются двумя фундаментальными, описательно-оценочными принципами, имманентными самой сути теоретического знания. Однако они несводимы одна к другой, скорее, их надо рассматривать как дополнительные. «Оценка с точки зрения обоснованности относится прежде всего к знанию, взятому в динамике, еще не сложившемуся и ищущему оснований. Оценка с точки зрения рациональности - это по преимуществу оценка знания, рассматриваемого в статике, как нечто уже сформировавшееся и в известном смысле завершенное. Первая оценка идет в русле аристотелевской традиции видеть мир, в том числе и теоретический, как становление; вторая - в русле платоновской традиции рассматривать мир как бытие, как нечто уже ставшее. Полная оценка элемента теоретического знания должна, однако, слагаться из этих двух исключающих и вместе с тем дополняющих друг друга его видений».85 Проблема научной рациональности, особенно в связи с постмодернистскими установками, находится сейчас, можно сказать, на пике дискуссий. Представление о научной рациональности, как правило, приравнивается к типу классической рациональности, в которой явственно действуют такие критерии как узкий эмпиризм, верифицируемость, внутренняя непротиворечивость и др., но из которой жестко элиминированы диалектические аспекты и ценностно-целевые моменты. Не останавливаясь подробно на этой проблеме, требующей специального исследования, отметим, что в диалектике мышление рассматривается как единство разума и рассудка, единство дискурсивного и интуитивного. Все приемы обоснования, не являющиеся интерсубъективными, объявляются иррациональными. Ивин в «Теории аргументации» справедливо отмечает: «Различие между рациональными и нерациональными способами обоснования является, несомненно, важным. Следует, однако, отметить в связи с ним следующие два момента. Во-первых, оно не совпадает с различием между, так сказать, "научными" и "ненаучными" способами убеждения: в науке применяются и те и другие способы обоснования, и можно говорить лишь о том; что наука более тяготеет к рациональным приемам аргументации, чем к нерациональным, хотя иногда охотно пользуется и последними. Во-вторых, различие между рациональными и нерациональными способами обоснования, достаточно отчетливое в крайних, специально подобранных конкретных случаях, трудно сформулировать в общем виде. Скажем, ссылку на интуицию принято относить к нерациональным приемам убеждения: то, что одному представляется интуитивно ясным и очевидным, другому может казаться лишенным всякой убедительности. Вместе с тем Декарт, как известно, считал результаты интеллектуальной интуиции более достоверными, чем даже сама дедукция». В связи с вышесказанным уместно привести пример из истории математики. К концу XIX века в математике сформировались два методологических направления - логицизм и интуиционизм. Логицизм утверждается в противоположность интуиционизму: основное требование логицизма - распространение логики на все типы рассуждений, используемых в математике, основная цель -разработка символики, позволяющей избегать обращения к интуитивным ассоциациям. А.Пуанкаре предсказал невыполнимость предпринятой логицистами задачи сведения математики к логике, что и было подтверждено впоследствии благодаря работам Геделя, Коэна, Сколема, Левенгейма и др. В частности, Пуанкаре особое внимание обращал на принцип математической индукции, который не может быть обоснован при помощи средств логики и имеет интуитивный характер, ибо опирается на интуицию «чистого числа».
Онтологические основания нового языка науки
Проблема кризиса онтологических оснований языка науки стала осознаваться давно; одним из первых ее осознал и стал исследовать И.Кант, показавший, что человеческое познание прямо зависит от категориальных и языковых средств этого познания. Так, в Критике чистого разума» он мимоходом ставит вопрос: «Все ли вещи как явления входят в совокупность и контекст одного-единственного опыта... или же мои восприятия могут принадлежать к более чем одному возможному опыту (в его общей связи)?».196 Но для Канта этот вопрос не был принципиальным, каким он стал потом для И.Г. Фихте, а затем - для Э. Гуссерля.
Именно Гуссерль сделал прорыв в понимании языка науки, когда ввел понятие «жизненного мира» как универсальной сферы его интерпретации. Это позволило ему вести различение типов и уровней жизненного опыта, например, обыденного и научного, не совпадающих между собой. Это дало возможность Гуссерлю рассматривать науку, «как специфический вид человеческой деятельности, свойственный далеко не всем культурам и эпохам. В отличие от этого «жизненный мир» есть «универсальное интеллектуальное достояние», общее всем людям и обществам и продолжающее существовать в своем основополагающем значении и в эпоху науки. Вот почему понимание высших, специализированных типов познания и осмысления мира предполагает «путь, ведущий назад, к первичным самоочевидностям, в которых жизненный мир уже предан нам». Так, он пишет: «Любая вещь, которая дана нам в опыте и с которой мы имеем дело, -включая и нас самих, если мы думаем о себе, - предстает, независимо от того, замечаем мы это или нет, как вещь в мире, как вещь в определенном поле восприятия, являющемся в свою очередь лишь воспринимаемой частью мира. Поэтому мы должны обратить внимание и исследовать этот постоянно наличный мир-горизонт, с которым мы всегда имеем дело».198
Сведение привычных для нас форм сознания, мышления и познания к изначальным, с целью их проверки на подлинность, Гуссерль назвал «феноменологической редукцией», которая, как оказалось, чтобы быть содержательной, «сама также нуждается в применении и дальнейшем анализе собственных - феноменологических - концептов. Так, при рассмотрении вопросов методики и проблематики чистой феноменологии... не употребляя термин «концепт», Гуссерль озабочен, по существу, именно концептами, такими как «феноменолог», его самовыключение, как «феноменологические данности», их близость и дальность; как «ясность», подлинные и неподлинные ступени ясности, сущности нормального прояснения и другие. Они не являются четко определяемыми, логически строгими понятиями, обладают разноплановой структурой и свидетельствуют о том, что феноменология также нуждается в «нескованной фантазии», а «фикции» составляют ее «жизненную стихию».199 Тем самым, Гуссерль выходит на фундаментальные проблемы определенности языка: «Непосредственное интуирование имеет дело скорее с «точностью внутри самих схватываемых сущностей», что приводит, по Гуссерлю, к проблеме фундаментального соотношения описания с его «дескриптивными понятиями» (это, по-видимому, сфера концептов) и однозначного, точного определения с его «идеальными понятиями» (сфера понятий). Таким образом, существенно «возвысив» уровни абстрагирования даже внутри самой трансцендентальной сферы, Гуссерль столкнулся все с теми же проблемами концепта и понятия, описания и определения, точности понятия и точности «схватывания», реальности и «фикций» и вновь обнаружил, что «между сознанием и реальностью поистине зияет пропасть смысла». Таким образом, он опять пришел к проблеме фундаментального определения бытия.
Следующий шаг в развитии анализа бытия сделал Мартина Хайдеггер в своей известной работе «Бытие и время», где произведена подробная и детальная аналитика различных модусов бытия.
Хайдеггер начинает свое исследование с обоснования необходимости возобновления вопроса о смысле бытия и преодоления существующих предрассудков, к которым он относит следующие: а) «Бытие» есть «наиболее общее» понятие, б) понятие «бытие» неопределимо, в) бытие есть само собой разумеющееся понятие.201 Он критикует Гуссерля за недостаточность интен-ционалъной парадигмы феноменологической редукции, обращенной хотя и к нетрадиционным, но имеющим формы нормативной определенности моментам бытия. Хайдеггер же считает понятие бытия фундаментальным, он говорит о том, что нужно суметь увидеть бытийный вопрос как исключительный. А поскольку речь идет о вопросе, то далее автор «Бытия и времени» (БиВ) приступает к пониманию бытия в терминах «искание», «спрашивание», «спрошенное», «опрашиваемое». Поскольку квинтэссенцией искания является наука, то этот ряд уже наводит на мысль о том, что она имеет глубинные основания в самом бытии. При этом следует помнить, что для Хайдеггера бытие не нечто внеположенное, внешнее науке, которое она отражает.
Русские философы о языковых средствах выражения Бытия
Учение о предельных основаниях языка, как системы, обладающей собственным бытием, названное символизмом, разрабатывал А. Белый. Опираясь на западную традицию исследования языка, он внес в учение о языке новые идеи; так, он распространял творческий потенциал языка на ценности, а через них - на все познание и мировоззрение: «Если смысл определить ценностью, то падают твердыни теоретической философии; мировоззрение становится творчеством; философские системы приобретают символический смысл; в познавательных терминах символизируют они представление о ценности и смысле жизни; нечего в них искать теоретической значимости; теоретическая значимость остается только за гносеологией; сама же теория знания в своей метафизической форме есть ликвидация твердынь чистого разума; в результате такой ликвидации мировоззрение как теория переходит в творчество». 7
Главной идеей А. Белого была идея Символа: «Единство есть Сим-вол... Символическое единство есть единство содержания и формы» . Но символ - это не знак и не понятие, он обозначает не вещи: «Мир символов есть мир фикций; всякая символизация есть ложное обозначение предметов, существующих в терминах, которым ничего не соответствует...». Но элемент символизации есть в любом понятии, как содержательном, так и бессодержательном, как предметном, так и беспредметном, как действительном, так и условном. Этот элемент А.Белый называет «эмблематичность»: «Эмблема есть всегда эмблема некоторого единства; вершину классификации эмблематических понятий должно занять такое понятие, которое самый эмблематизм понятий выводит из единства; это единство само по себе уже не есть эмблема, а то, побуждает наше понятие строить систему эмблематических понятий; выше мы видели, что таким единством не может быть метафизическое единство; следовательно, самое понятие о метафизическом единстве есть эмблема».250
Поэтому овладение человеком символом (схемой эмблематизации) делает его абсолютным творцом, в соответствии со словами Библии: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Тем самым, «лестница творчеств, Символ являя во Плоти, самые метафизические определения подчиняет теургической практике».252 По А.Белому, «только символической единство бытию возвращает и ценность и смысл; преображается бытие - возносится бытие... Называя бытие именем безусловным, мы превращает все виды познаний и все виды творчества в эмблематику чистого смысла», которая «распадается на три части: в первой части выводится теоретическое место для понятия, которое должно лечь в основу системы эмблем; во второй дедуцируются сами эмблемы, независимо от путей, по которым мы восходили; и только потом уже, В третьей части, мы можем систематизировать все эмблематические места познаний и творчеств в любой дисциплине. Мы можем дать систему творческих ценностей в методах механического миропонимания: нетрудно видеть, что теургическое, религиозное, эстетическое и примитивное творчество в пределах механическою миропонимания примет вид взаимного превращения различного рода энергий. Мы можем дать систему творческих ценностей в пределах психологии, нетрудно видеть, что мы получим в итоге классификацию и соотношение творческих переживаний. Мы можем дать системе творческих ценностей гносеологическое обоснование: нетрудно видеть, что в итоге получим мы учение о формах и нормах творчества. Мы можем дать систему творческих ценностей в пределах метафизики: нетрудно видеть, что такая система примет вид учения о метафизических сущностях, предопределяющих творчества: таково, например, учение Шопенгауэра об идеях в искусстве. Наконец, мы можем дать систему творческих ценностей, входя из самого понятия о ценном: нетрудно видеть, что такая система будет эмблематикой чистого смысла, т.е. теорией символизма». 53
Для того, чтобы показать, как из Символа получается Логос и как они соотносятся, А.Белый обращается к Риккерту, который «конститутивные формы познания противополагает методологическим»: «Область теории знания есть прежде всего область выведения конститутивных форм, область науки есть область применения форм методологических... В теории знания всякое методическое содержание выводится из формы (методы); наоборот, отрешаясь от всякой научной методы в выведении конститутивных форм, мы содержание этих форм рассматриваем как их имманентное бытие; "общее" и "индивидуальное" являются нам не как формы, а как содержания. Мир бытия есть мир содержаний; содержаний столько, сколько форм; форма берется тут как образ; образ сменяется образом; мы переживаем образы как нечто иррациональное, неразложимое.
Имманентное бытие как хаос противопоставлено конститутивным формам познания; эти формы так же утверждают хаос в данности, как утверждают они и методические формы наук; форма образа и форма метода, выводящего содержание образа, теперь независимы друг от друга. Падает ценность научного мышления; мир образов, как хаос, прилипает к нашим глазам».