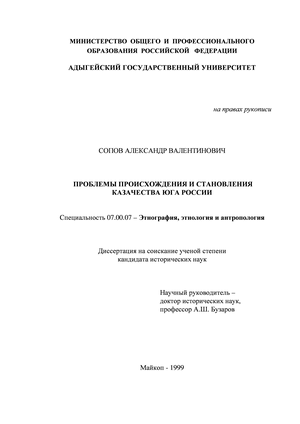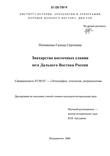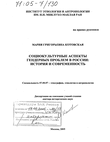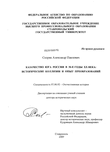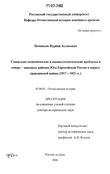Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Истоки казачества 38
1. Происхождение казаков 38
2. Проблема единства происхождения казаков по историко-этнографическим данным 53
3. Формирование территории казачества 76
Глава II. Хозяйство, культура и быт казаков 97
1. Хозяйственно-культурный тип 97
2. Материальная культура казаков 109
3. Духовная культура и быт казаков 122
Глава III. Становление казачества 133
1. Формирование казачьих общностей 133
2. Социальное устройство казачества 147
3. Особенности ментальности и поведенческие стереотипы казаков 157
Заключение 173
Библиографический список 187
Приложения 206
- Проблема единства происхождения казаков по историко-этнографическим данным
- Хозяйственно-культурный тип
- Духовная культура и быт казаков
- Особенности ментальности и поведенческие стереотипы казаков
Проблема единства происхождения казаков по историко-этнографическим данным
Как было сказано выше , вопрос происхождения казаков является дискуссионным. Одной из ведущих проблем данной дискуссии является проблема происхождения казаков из одного корня. Положительное решение ее позволяло бы однозначно определить казачество как народ (этнос). Для системного анализа вопроса о происхождении казачества (казаков), а стало быть, в определенной мере и их места в истории и в современной жизни, необходим разбор тех факторов, которые в совокупности позволяют отделить один народ (этнос) от другого и получили в науке название этнических определителей. Согласно В.П. Алексееву , Ю.В. Бромлею , Л.Н. Гумилеву , В.А. Тишкову и Н.Н. Чебоксарову , важнейшими этническими определителями того или иного народа являются: общее имя (этноним), язык (лингвистическая принадлежность, динамика развития и современное состояние), антропологический тип (сумма физических признаков представителей) и самосознание (самоидентификация, солидарность, комплиментарность).
Как уже отмечалось, важнейшим доказательством единства происхождения народа является наличие, а также однозначное и длительное использование общего имени (этнонима) — самоназвания или иноназвания . Представители "казачьей науки" считают, что звучание и начертание казачьего имени не подверглось значительным изменениям в течение двадцати веков. Означает оно "белые олени", является скифо-иранским племенным именем и первоначально звучало как "Кос-сака". Фонетические же изменения объясняются особенностями произношения и слуховых ощущений у разных народов. «Слово «казак», — писал в 1834 г. знаток восточных языков Барон Брамбеус (О.И. Сенковский), — есть собственное имя народа, который мы ныне называем киргизами» . Он считал, что «...это поколение, издревле известное в Азии отвагою, хищничеством и ловкостью всадников» , еще в давнее время передало свое имя отрядам легкой конницы, применяемой восточными властелинами для разных воинских назначений, «подобно тому, как народное имя швейцарцев превратилось в Европе в наименование известного рода служителей» . У завладевших Россией монголов это имя означало, вооруженных всадников, не приписанных ни к какому улусу, не составлявших собственности никакого хана, ни бека, бежавших от своих кочевых владельцев, так сказать — «вольных воинов» из разных поколений, соединявшихся в летучие отряды. «Слова «казак» и «вольный» были, как бы однозначащие и, поэтому, первое из них, соединяющее в себе при том понятие о войне, так нравилось беглецам из России и Литвы, поселившимся на Днепре и на Дону» .
В настоящее время существуют различные гипотезы происхождения казачьего имени: от косогов — кавказского народа, предков адыгов; от хазар (казар) — народа, создавшего могучую державу на Северном Кавказе в VI - X вв.; от Касахии — Закавказской области, упоминаемой Константином Багрянородным; от «каз» — тюркского слова «гусь» (отсюда аналогии с названием другого рода легкой конницы — «гусары»); от «ко» и «зах» — монгольских слов, означающих первое — броня, латы, защита, второе — рубеж, граница; отсюда «ко-зах» — защитник границы .
Существуют также версии происхождения и значения слова казак: от именования этим именем у татар бессемейных и бездомных воинов — бродяг, составлявших авангард татарских полчищ в XIV в.; от именования у бухарцев-сартов кочевников («казахи»); от значения этого слова на половецком языке — «страж», «передовой» .
Долгое время не было единого толкования понятия «казак». Из анализа документов XVI в. следует, что термин этот был очень многозначен и динамичен. Известно, что на севере России казаками назывались обедневшие крестьяне, нанимавшиеся к зажиточным односельчанам. Еще чаще звали казаками гонцов, посылавшихся с грамотами из Москвы к ногайцам или в Крым. Часто в русских источниках упоминались враждебные азовские казаки, ходившие на Русь за полоном .
Происхождение этнонима "казак" окончательно не выяснено . Все же абсолютное большинство авторов отмечают тюркское происхождение термина , который, по общему мнению, близок по смыслу к понятию "вольный, свободный человек", а также в ином значении — удалец, наездник и даже разбойник. Аналогии прослеживаются во многих языках. Так у персов "газак" — состоящий на оплачиваемой службе человек. По-монгольски "казых" — военный страж, пограничник. Слово "казах" является самоназванием крупного тюркоязычного народа Средней Азии (ранее кочевников). Достаточно хорошо известна этимология этого этнонима. "Казах" — бездомный скиталец, искатель лучшей доли, новопришлый поселенец. Термин этот издавна известен среди тюркоязычных кочевников Средней Азии и стал этнонимом во второй половине XV в. Учитывая вышеизложенное, трудно согласиться с обоснованностью версии Г.В. Губарева и А.И. Скрылова , ведущих представителей «казачьей науки», о том, что "казаки" является именем какого-то особого народа, сохранявшего этническую преемственность в течение двух тысяч лет. Скорее, она выглядит легендарной, а факты, приводимые в обоснование подобной точки зрения, могут быть с таким же успехом опровергнуты как и подтверждены. Анализ различных версий происхождения казачьего имени позволяет сделать вывод, что наиболее обоснованной точкой зрения является та, которая считает, что слово "казак" первоначально было профессиональным наименованием, используемым для обозначения неустойчивой вольницы искателей лучшей доли, готовых служить за деньги и используемых в войсках в качестве наиболее подвижной, передовой части. Данный термин применялся у всех или у большинства степных народов, в какой-то мере был заимствован их соседями и стал этническим названием гораздо позднее рубежа новой эры, а точнее, судя по источникам, где-то в середине XV в. Косвенно этот вывод подтверждается и тем фактом, что казаки Северного Причерноморья довольно часто и долго называли себя "черкасами" , а значит, имя "казаки" не было для них первоначально общим устойчивым этническим самоназванием. Как уже было отмечено выше, термин «казак» не имел единого значения, был очень подвижен и динамичен. Русские летописи и правовые акты знают "городовых казаков", несших гарнизонную службу, "вольное казачество", которое в Смуту начала XVII в., заимствовав организационные формы у донских и днепровских казаков, сложилось на основной территории России , "воровское" казачество — по сути, те же "вольные", только вышедшие из повиновения государю и превратившиеся в разбойничьи банды. В польских хрониках фигурируют казаки конвойные, реестровые, свитские и прочие .
Эти группы явно неоднородны по способу и времени образования, однако объединяющим началом для всех них является военная служба и особая вольная, "войсковая" организация: круг, выборность начальников-атаманов. Ключ к разрешению данной проблемы, на наш взгляд, может дать замечание Э.Х. Панеш: «Общее социально-политическое название отражало, прежде всего, устойчивый стереотип, психологически определенный особенностями культурно-политического и социального облика носителя» .
Хозяйственно-культурный тип
Внимание к изучению культуры как источнику познания изменений в обществе наметилось в мировой науке уже давно. Культура — понятие широкое и имеющее достаточно разнообразные толкования. Американские антропологи насчитывают более 200 определений культуры. При всем многообразии определений в целом важно то, что культура понимается как материальные и нематериальные продукты человеческой деятельности, ценности, идеи, признанные способы поведения, объективированные и принятые в общностях (группах), передаваемые из поколения в поколение.
Таким образом, этнокультурные особенности могут помочь в объяснении очень сложных и актуальных для современного общества явлений.
С этнологической точки зрения понятие «культура» подразумевает собой структуру, скрепляющую данное общество и предохраняющую его от распада. Многие антропологи, как отечественные (например, Э.С. Маркарян), так и зарубежные (например, Т. Шварц — один из ведущих современных психоантропологов), рассматривали культуру как адаптивную систему. Совокупность адаптивных моделей и может быть понята как культура. Именно в таком смысле и будем понимать термин «культура» применительно к нашей работе.
Историко-культурная типология всего разнообразия этнографических признаков группирует их по двум координатам: географической и исторической. Первый принцип опирается на факт возникновения сходного хозяйства и, следовательно, типологически близких явлений культуры в сходных условиях географической среды. Второй принцип базируется на общей истории культурных элементов. В первом случае явления сосуществуют в пространстве как непосредственный ответ на природную среду, и это называется хозяйственно-культурным типом (ХКТ). Во втором случае рассматривается общность исторической судьбы народов и их культур, а как результат этого — наличие единой территории распространения, называемой историко-этнографической областью (ИЭО).
Историко-этнографические (или историко-культурные) области — это части ойкумены, у населения которых в силу общности социально-экономического развития, длительных связей и взаимного влияния складываются сходные культурно-бытовые, или этнографические особенности. Наиболее ярко они выражены в материальной культуре (жилище, средства передвижения, пища, утварь и т.д.), но проявляются также и в некоторых элементах духовной культуры, связанных с хозяйством и бытом. ИЭО — исторические явления, они складываются и исчезают в процессе развития человечества.
По мнению Н.Н. Чебоксарова: «Именно культурная специфика вместе с языком, который ее выражает, должна рассматриваться в качестве главного критерия при разграничении этнических общностей» . Потому что «...в культуре каждого народа переплетаются явления, свойственные только ему одному...» Он же предлагает анализировать культурную специфику по трем частям: духовная — находится в общественном сознании людей; материальная — в материальных результатах деятельности людей; бытовая — проявляется в их поведении.
Формы коллективного труда, изготовление орудий труда и оружия, способы добывания и сохранения пищи, жилища, одежда, украшения, предметы повседневного обихода, нормы общественной и семейной жизни, сумма положительных знаний, наконец, песни, сказки, легенды, мифы, игры, танцы, зрелища — вот далеко не полный перечень элементов общекультурного достояния человечества. С культурой каждого этноса неразрывно связана и его религиозно-идеологическая направленность и особые, характерные стереотипы народной психологии. Не претендуя в столь кратком исследовании на глубину анализа и всеохватность обобщений, отметим, некоторые особенности культуры казаков и попробуем сделать некоторые предварительные заключения. Тип хозяйства. Ставшие в последнее время хрестоматийными утверждения о чисто кочевническом хозяйстве первых казаков вряд ли соответствуют действительности . Приводимые различными авторами примеры особого культа коня у казаков верны лишь для некоторых казачьих обществ. Так, например, известно, что у запорожцев наиболее многочисленной и мощной боевой силой была пехота, а не конница. Герои украинского фольклора казаки-запорожцы почти всегда пеши. Пехотинцами долгое время были и преемники запорожцев на Кубани — черноморцы . Отсутствие земледелия — еще не аналог кочевого скотоводства.
Кстати, у южных групп казаков в начале XIX в. еще были записаны прямые воспоминания о добрососедских отношениях с татарами на основе какой-то обоюдовыгодной торговли, существовавших, насколько можно понять, в первые годы организации донского казачества . Для обоюдовыгодного обмена имелись все основания. Например, скотоводческая продукция татар могла обмениваться на хлеб и ремесленные изделия протоказаков-червленоярцев (скажем, на тележные колеса, в которых полукочевники крайне нуждались, на гончарные, кузнечные изделия и т.п.). Обитатели приречных полос могли строить лодки и предоставлять их при надобности татарам, содержать и обслуживать перевозы, как это делали какие-то русские в излучине Дона еще в середине XIII в., по известному описанию Г. Рубрука . Было бы опрометчиво считать, что славяне были такими исконными оседлыми земледельцами, какими представляют себе средневековых славян многие исследователи на основе ретроспективного анализа сведений конца XIX — начала XX вв. о русских и украинских крестьянах. Если уж необходимо использовать сведения этого времени за недостатком более ранних, то логично обратиться, прежде всего, к материалам XVIII — начала XIX вв. не о крестьянах, а о донских казаках, прежде всего, хоперских.
Эти казаки, равно как запорожские и другие восточнославянские группы казаков, по крайней мере до середины XVIII в., а местами и дольше, имели хозяйство с преобладающим пастбищным скотоводством и второстепенным, иногда еще очень слабым земледелием .
Духовная культура и быт казаков
Существенный интерес представляет исследование семейно-бытовых устоев казачества. И здесь возникает проблема, которая опять же ставит под сомнение тысячелетнюю этническую преемственность казаков. Дело в том, что целый ряд исследователей (А. Ригельман, Ф. Щербина, Г. Боплан) отмечают бессемейность казаков XV - XVI вв. В Запорожской Сечи брачная и семейная жизнь отрицалась в принципе. Следовательно, и естественного прироста сечевого населения быть не могло. Его заменял прием в казаки (поступление в Сечь), а национальный состав принятых (по утверждению все того же Щербины и француза Г. Боплана ) отличался чрезвычайной пестротой. Схожая ситуация существовала и у донцов, которые в начале также были бессемейны. Впоследствии, однако, донские казаки стали обзаводиться женщинами, захватывая их в набегах на соседей. Но детей, рожденных от этих женщин, первое время убивали, зашивая в мешки и бросая в воду "как щенят". Позже донцы стали сохранять жизнь мальчикам, топя девочек. И лишь много позднее, в Донской области сформировалась относительно нормальная семейно-бытовая жизнь. Хотя по отношению к женщине казак долгое время еще оставался полным хозяином и мог, например, ее, неугодную, продать. Интересно, что также (по свидетельству А. Ригельмана ) поступали с детьми и в других казацких общинах на первых порах своего существования. Бессемейность, отсутствие естественного прироста и, главное, семейной традиционной нравственной устойчивости — по мнению Ф. Щербины, являлись основными причинами падения Запорожской Сечи. Тогда как донцы, обзаведясь семьями, сохранились . Заключение, конечно, далеко не бесспорное, но имеющее смысл. Действительность все же такова, что казаки вели семейную жизнь и на первых стадиях своего существования. «Известно, что в самом Запорожье по так называемым паланкам жили семейные казаки, а многие со стороны приезжали в Сечь с детьми — "молодиками" и "хлопцами" и, стало быть, имели семьи на стороне», — пишет Ф. Щербина . Семьи, размещенные по хуторам, имела и казачья старшина. Таким образом, общая генетическая преемственность, передача традиций из поколения в поколение все же существовала, хотя и была чрезвычайно ослаблена указанными выше ограничениями. К началу XX в., когда, по мнению Н.Н. Чебоксарова, сложилась современная этническая картина (вследствие сформирования основ современных форм хозяйствования), казачья патриархальность еще во многом сохранялась. Длительное сосуществование казачьей земледельческой, промысловой и военной общины определило многие стороны общественного быта и духовной жизни казаков. Обычаи коллективного труда и взаимопомощи проявлялись в объединении рабочего скота и инвентаря на период срочных сельскохозяйственных работ и в др. случаях. Характерно для казаков начала XX в. и сохранение большой неразделенной (из 3 - 4 поколений) семьи в 25 - 30 человек, что было обусловлено необходимостью обработки больших земельных наделов, распространением в определенных районах хуторского (натурального) хозяйства, с постоянной нуждой в рабочих руках и, в какой-то мере, со сложной обстановкой военного времени, а также невозможностью отделения молодой семьи до начала и во время службы, замкнутостью семейного быта. Глава семьи (дед, отец, старший брат) был полновластным руководителем всей семьи: распределял и контролировал работу ее членов, ведал ее доходами и расходами. Основываясь на вышеизложенном, можно сказать, что анализ семейно-бытовой стороны вопроса о происхождении казачества не дает оснований для выводов о раннем, в начале новой эры, оформлении самостоятельного казачьего этноса, т.к. то, что можно назвать семейно-бытовыми устоями, сформировалось у казаков в значительно более позднюю эпоху и еще в XV - XVI вв. явно не выглядело чем-то сложившимся. Фольклор. Обряды и праздники играли важную коммуникативную и воспитательную роль в традиционно-бытовой культуре казаков. Жизненный цикл каждой семьи сопровождался семейными праздниками и обрядами. Они не рассматривались, как внутрисемейное событие, ибо замкнутость индивидуальной семьи в общине была кажущейся. Семейные праздники и обряды закрепляли связь отдельных семей с общинным бытом, они показывали, как каждый выполняет свои обязанности перед «обществом», и делали «общество» непосредственным участником личной жизни его членов.
Песенно-музыкальная традиция казаков складывалась на основе смешения разных начал. Казачьи песни обычно пелись без музыкального сопровождения, хотя музыкальные инструменты у них были хорошо известны. Наиболее популярны были гармошка (иногда с колокольчиками), дудочка, пищики, бубен и трещотки. В случае необходимости в музыкальные превращались и предметы, далекие от искусства — ложки, гребенки, лучина и другие обиходные вещи.
Своеобразие бытового уклада казачества обусловило характер устно-поэтического творчества. Самым распространенным фольклорным жанром у казаков является песня. В песенном фольклоре преобладали трудовые песни, коротенькие припевки шуточного или сатирического характера, исполнявшиеся во время полевых работ. Они отвлекали от тяжелой монотонной работы, и их мелодия обладала своеобразным ритмом. Существовала у казаков и масса обрядовых песен: игровые, плясовые и хороводные.
Традиции хорового пения имеют глубокие корни. Широкому бытованию песни способствовала совместная жизнь в походах и на сборах, выполнение сельскохозяйственных работ всем "миром". Песенный репертуар составляют, в основном, историко-героические песни, связанные с конкретными событиями, а также те, которые отражают военный быт. Современные казаки (речь идет и о профессиональных коллективах и о сельской самодеятельности) используют в качестве своих как русские, так и украинские песни. Причем, в разных регионах — разные песни. Однако некоторые из песен являются только казачьими, не находя аналогий с народным творчеством украинцев и южных русских. Интересны исследования Т.С. Рудиченко, которая определила, что мужские обрядовые песни очень созвучны центрально-русской, «московской» песенной традиции, а женские обрядовые песни — просто двойники песен Волыни, Полесья, Украины и Польши.
Из других жанров фольклора значительное распространение получили исторические предания, топонимические рассказы. Характерной чертой казачьего фольклора, отличающей его от русского, часто называется отсутствие такого жанра как "богатырский эпос" или былины. Но "богатырские былины" отсутствуют в фольклоре и украинцев и южных русских, живущих сейчас как раз на той территории, где этот жанр устного творчества складывался. Былины сохранились лишь в народном творчестве населения, живущего к северу от валдайского водораздела. Причины данного явления связаны, скорее всего, с миграцией населения в период монголо-татарского нашествия и ордынского ига. В любом случае, указанная черта казачьего фольклора скорее объединяет казаков с их славяноязычными соседями, чем наоборот. Близкими оказываются и многие другие формы народной культуры. Отмечаются исследователями и наличие общих элементов обрядов и обычаев некоторых групп казаков (терцы, гребенцы, уральцы) и ногайцев. Например: наряд невесты, ее введение и посажение на войлок, оформление и поведение свадебного поезда, свадебные подарки, обычаи избегания, отношение к бездетным женщинам, ношение амулетов от болезней и др. Ряд сходных черт прослеживается и в мифологии: представления о земле, вихре, кометах, затмении. Для ногайцев и казаков указанных групп была характерна общая вера в албасты/лабасты. Этот древний тюркский образ покровительницы плодородия диких животных и охоты, переместился затем в разряд злых духов. Военно-бытовые песни терских казаков, по мнению Л.С. Киреевой, близки по тематике мотивам, образам тюркским «къазак йырлар».
Отмеченные эти и другие сходные элементы духовной культуры являлись не только порождением многовековых контактов народов, бытованием у них обычаев гостеприимства, куначества, аталычества, но и этническими связями. Повидимому, наиболее интенсивными они были до окончательного утверждения в степи ислама. В этой связи примечательны легенды о происхождении отдельных казачьих фамилий от золотоордынских родов.
Интересно, что на крестинах мальчика, "посвящая в казаки", надевали на него саблю и сажали на коня. Гости приносили в дар новорожденному ("на зубок") оружие, патроны, стрелы и развешивали их на стене. Аналогии подобному обычаю прослеживаются у степных кочевников, пуштунов и др. народов, прежде всего кавказских горцев, но не у оседлых европейцев, в т.ч. русских и украинцев.
Особенности ментальности и поведенческие стереотипы казаков
Термин «менталитет», по сравнению с терминами «сознание » и «психика », имеет существенный плюс. Он в принципе может выступать в паре с понятием «традиция» именно и постольку, поскольку подразумевает подвижность, соотнесенность как с прошлым, так и с настоящим, возможность сколь угодно глубоких внутренних противоречий. В этом смысле можно сказать, что традиция выражается в менталитете народа, или, точнее: менталитет – нематериализуемая составляющая традиции. В этом значении оно и будет употребляться. Кроме того, что не менее важно, «менталитет» понимается и как основа для самоорганизации общества, каркас для культурной традиции: «В образном виде менталитет можно представить строительной конструкцией, фундамент которой — сфера «коллективного бессознательного», а крыша — уровень самосознания индивида. Структуру менталитета образуют «картина мира» и «кодекс поведения». Поле их пересечений, очевидно, и есть то, что называют «парадигмой сознания» . Направленность данного определения ясна: речь идет о присутствующем в сознании человека стержне, который может при разных внешних условиях выступать в разных обличиях, но который является единым для всего этноса и служит как бы его внутрикультурным интегратором.
Таким образом, под «менталитетом» понимается некий всегда неосознаваемый и устойчивый пласт психики, который включает в себя определенные мыслительные модели, а ментальность — это некое свойство традиционного этнического сознания особым образом отражать (и выражать своим поведением) определенную этническую картину мира. (Существуют и другие удачные определения, которые автор в большой мере разделяет ).
Близко к понятию «менталитет» стоит понятие «этническая картина мира». Этническая картина мира представляет собой особым образом структурированное представление о мироздании, характерное для членов того или иного этноса, которое, с одной стороны, имеет адаптивную функцию, и с другой — воплощает в себе ценностные доминанты, присущие культуре данного народа.
Этническая картина мира не тождественна этнической культуре или этнической традиции. Она меняется с течением времени, более того, различным группам внутри этноса в один и тот же период могут быть присущи разные картины мира. Этническая картина мира — это представления человека о мире, сформировавшиеся на основании определенных культурно-ценностных доминант. Представления эти отчасти осознаваемые, отчасти бессознательные. В целом этническая картина мира есть проявление защитной функции культуры в ее психологическом аспекте. Исследований, которые бы специально рассматривали вопросы ментальности казаков, пожалуй, нет. В тех работах, которые так или иначе затрагивают эту проблему, обычно довольно безосновательно и расплывчато отмечается уникальность казачьей психологии, которая, к тому же, наделяется всеми возможными положительными качествами; или так же априори утверждается отсутствие какого-либо своеобразия ментальности казаков. Отмечается , что казачество, как целое, отличает деловитость, аккуратность, устойчивый быт, стремление к сытой жизни, культ крепкого хозяина и чувство собственного достоинства (порой гипертрофированное) — черты далеко не полностью совпадающие с цивилизационными ориентирами среднерусской деревни. (Город — не показатель, его ориентиры унифицированно неэтничны). Для исторической памяти самих казаков характерны представления об общей судьбе и родстве казачьих войск, едином образе жизни. Важным компонентом традиционного сознания казаков является представление о личной свободе казака и независимости всего войска, традиционная организация которого считалась гарантией свободы и всеобщего равенства. Особое место занимают представления казаков о своих традициях, среди которых они выделяют, прежде всего, свободолюбие, преданность воинскому долгу, коллективизм (точнее, с нашей точки зрения, корпоративизм), взаимопомощь, физическое и нравственное здоровье, веротерпимость и другие. В то же время необходимо сказать, что казачьи традиции общинного землепользования и традиционного быта (по мнению целого ряда исследователей ) носят патриархальный, глубоко антиличностный характер. С нашей точки зрения, точнее, было бы говорить о явном приоритете общинных, корпоративных ценностей над личностными. Особенности происхождения и положения казачества привели к формированию такой ментальной черты как двойственное отношение казаков к центральному правительству и власти вообще. С одной стороны, отдаленность от центра, длительное отстаивание своей независимости; с другой стороны, привилегированное, особое положение «первых защитников царской монархии», близость к главе государства, специфичность образа жизни привели к формированию как "хронической оппозиционности" и противопоставлению себя государству так и противопоставлению другим группам населения. Приведенные нами утверждения хорошо иллюстрируются М. Шолоховым. Гениальный писатель образно, точно и тонко отразил двойственность и неодноплановость «казачьей ментальности» . Подобные настроения во многом плод деятельности официальных средств массовой пропаганды Российской империи (продукция коих воспринимается многими ныне за чистую монету). Вопреки реалиям, следуя социальному заказу, они возводили казачье бытие в степень самого совершенного, идеального. Согласно их работам, выполненным на высоком профессиональном и полиграфическом уровне (типа «Картины былого Тихого Дона»), выходило, что 150-миллионную Россию создала и спасла более чем в 30 раз меньшая горстка казаков. Массированная идеологическая обработка, методично проводившаяся на протяжении поколений, сформировала искусственный менталитет. Институт августейшего атаманства в лице царского наследника еще больше воспалял настроения исключительности. Реалистичные, объективные научные знания до широких масс не доходили. Официальное «политическое зелье» заслонило истину, было возведено в традицию. Для многочисленного, но не очень грамотного и культурного слоя казаков очень характерны подобные настроения. Суть их в том, что мужик, хохол — быдло, казак — эдакий супермен. Эта примитивная философия пронизывала громадную казачью толщу и создавала устойчивый синдром, дошедший до наших дней и таящий в себе немалую опасность для казаков.
П.Н. Лукичев и А.П. Скорик (Новочеркасск) — используя широко известный гумилевский термин — считают определяющим качеством ментальности казачества некую суперпассионарность, которую они определяют как «способность к совершению действия, вплоть до самопожертвования, ради отвлеченной идеи» . (В другом контексте об этом же говорил Д.С. Лихачев: «...безотчетное стремление отдавать всего себя какому-либо святому делу...») . По их мнению, «полиэтническое казачество вбирало в свои ряды пассионариев со всех краев, областей и кочевий, а это обусловливало становление суперпассионарного психологического склада характера и развитие способностей этих людей к сверхнапряжению («богатыри», «разбойники», «гулящие люди» и т.п.)» .