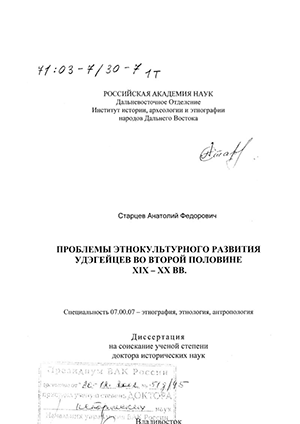Содержание к диссертации
Введение
ЧАСТЬ 1. Этнокультурные процессы у удэгейцев в досоветский период
Глава I. Традиционное хозяйство 85 —133
1.Охота и охотничье хозяйство. 2.Рыболовство и собирательство.
3. Способы и средства передвижения.
4. Домашние промыслы и орудия труда.
Глава 2. Материальная культура 134 —165
1. Поселения и постройки.
2. Одежда, головные уборы, обувь и украшения .
3. Пища и утварь.
Глава 3. Общественный строй и социальные отношения... 166 —206
1. Номенклатура родства.
2. Семья и формы брака.
3. Общественные и правовые отношения.
Глава 4. Этнокультурные контакты и торговые отношения удэгейцев с другими народами 207 — 258
1. Экономическое положение удэгейцев и их контакты с русскими и китайскими торговцами и японскими рыбаками .
2. Этнокультурные связи удэгейцев с народами Дальнего Востока, Маньчжурии и других регионов Азии.
3. Проблема этногенеза и этнокультурных контактов удэгейцев и тазов.
ЧАСТЬ 2. Этнокультурные процессы у удэгейцев в советский период
Глава 1. Политические и социально-экономические предпосылки этнокультурных процессов 259 —326
1. Административно-территориальное районирование как фактор социально-экономического и культурного развития районов обитания удэгейцев и других народов Севера.
2. Кооперация аборигенного населения и коллективизация хозяйств.
3. Охота и промысловое хозяйство .
4. Промышленное рыболовство и сельское хозяйство.
5. Средства связи и передвижения.
Глава 2. Отражение этнических процессов в материальной культуре 327 —348
1. Современные поселения: инфраструктура и быт.
2. Одежда.
3. Современная пища и утварь.
Глава 3. Изменения в системе социальных отношений и культуре этноса 349—392
1. Народное просвещение и подготовка кадров.
2. Здравоохранение.
3. Культурно-просветительная работа и художественная самодеятельность.
4.Семейно-бытовые отношения и воспитание детей.
ЧАСТЬ 3. Этнокультурные процессы у удэгейцев в постсоветский период
Глава 1. Проблемы социально-экономического и культурного развития этноса на современном этапе 393 —453
1. Возрождение национального самосознания и участие народов Севера в решении социально-экономических проблем.
2. Социально-экономические и правовые проблемы развития национальных хозяйств удэгейцев .
3. Современные проблемы социально-экономического развития удэгейцев: история борьбы этноса за сохранение и закрепление территорий традиционного природопользования.
4. Итоги этнокультурных процессов у удэгейцев и проблемы развития этноса .
Заключение 454
Приложение
- Одежда, головные уборы, обувь и украшения
- Экономическое положение удэгейцев и их контакты с русскими и китайскими торговцами и японскими рыбаками
- Охота и промысловое хозяйство
- Социально-экономические и правовые проблемы развития национальных хозяйств удэгейцев
Одежда, головные уборы, обувь и украшения
Материальная культура этноса отражает определенные географические территории жизнедеятельности человека, объекты (предметы, вещи), материально существующие в пространстве в определенные временные периоды, развитие хозяйственной деятельности, микросреду, приспособление к этой среде людей, удовлетворение бытовых и физиологических потребностей человека в пище, жилище, одежде, украшениях, изготовление и наличие определенных видов орудий груда, транспортных средств и т.д. " Материальная культура этноса во многом зависит от уровня развития промышленности в местах расселения аборигенов, социально-экономических и культурных преобразований, урбанизации коренного населения и других факторов, характеризующих разностороннее развитие этноса.
Духовная культура, в отличие от материальной, представляет систему производственных навыков, народных знаний, традиций и обычаев, связанных с хозяйственной, социальной и семейной жизнью человека. В состав духовной культуры входят различные виды искусств, народного творчества, религиозные представления и верования. Все аспекты духовной культуры передаются от поколения к поколению через устную информацию, наглядность, через существующие формы воспитания и др. .
Следует заметить, что деление культуры на материальную и духовную представляет чисто условное явление, потому что часто в предметном виде предстают перед нами и многие стороны духовной культуры - утварь, орудия труда, одежда, обувь и др. вещи с национальным орнаментом, резьбой, рисунком, вышивкой и т.п. которые создаются не только при помощи сознания, но и руками человека. Отсюда следует, что в действительности строгой дифференциации предметов материальной и духовной культуры часто не наблюдается. Н.А. Томилов считает, что «разграничение материальной и духовной частей культуры следует, видимо, проводить не только по сферам материальной и духовной (сознательной) деятельности, но также и по степени зависимости тех или иных культурных явлений от географической среды, и по их функциональному назначению» . Из выше сказанного, следует, что многие аспекты материальной и духовной культуры имеют не только общие, но и отличительные стороны, которые позволяют рассматривать духовный и материальный компоненты традиционно-бытовой культуры вместе или раздельно. В диссертационной работе мы сосредоточили свое внимание на основных проблемах развития хозяйственной деятельности, материальной культуры, семьи, социальных отношений этноса и т. д. Рассматриваются эти проблемы через культурно-бытовые стороны его жизни
Важный аспект этнокультурного развития удэгейцев — духовную культуру мы не рассматриваем в данной диссертации, считая, что эта сложная проблема уже охарактеризована в отдельных исследованиях искусствоведов, филологов и этнографов э. В то же время, изучая хозяйство, семейно-общественные отношения и многие другие аспекты материальной культуры с целью более детальной характеристики определенных черт культуры этноса, мы используем и некоторые аспекты духовной культуры.
В отечественной этнографической науке изучение этнических процессов сформировалось в самостоятельную субдисциплину, получило определенное теоретико-методологическое обоснование и воплощение в ряде опубликованных работ2 . Однако сущность этнических процессов в этих работах раскрывается не всегда однозначно. В частности, В.И. Козлов в конце 1960-х годов считал, что к этническим процессам относились только те, которые вели к изменению этнической (национальной) принадлежности людей" .
В отличие от В.И. Козлова, Л.В. Хомич, рассматривает этнические процессы более широко и указывает, что к ним следует относить и такие процессы, которые не ведут к изменению этнической принадлежности, а приводят только к изменению того или иного компонента этноса" .
В.В. Пименов, исследуя удмуртов, под этническим процессом понимает всякое закономерное изменение в системе этноса. «Это изменения экономического, социального, социологического, демографического, языкового, культурно-бытового, психического и т. п. порядка, проявляющиеся в ходе исторического развития народа как этнической общности, а также в ходе осуществления прямых и косвенных контактов различных народов» .
И.С. Гурвич под этническими процессами понимает «различные виды взаимодействия этносов, приводящие к изменению старых или возникновению новых этнических образований»30. К основным этническим процессам он относит процесс консолидации, ассимиляции отдельных этносов, этнические процессы, которые отражаются в бытовом укладе и в области национальной культуры. Например, у бесписьменных народов Севера, в том числе и удэгейцев, это проявляется в изменениях сложившихся веками форм материальной и духовной культуры, именуемых часто традиционными. И.С. Гурвич также считал, что этнические процессы отражают не только изменения в традиционно-бытовой, но в современной культуре .
Рассматривая разные точки зрения исследователей по проблеме этнических процессов в культуре этносов, Ю.В. Бромлей пришел к выводу, что их подходы к изучению одного и того же объекта исследования - народа нуждаются в разграничении. Этнические процессы, связанные с изменением этнической принадлежности, но не приводившие к ломке этнической системы в целом, Ю.В. Бромлей назвал
Экономическое положение удэгейцев и их контакты с русскими и китайскими торговцами и японскими рыбаками
Формирование удэгейского этноса Э.В. Шавкунов связывает с маньчжуро-удигэйским этапом, охватывавшем период с 30-х годов ХШ в. включительно по ХУП в. В этот период в результате господства монголов на Дальнем Востоке чжурчжэньский этнос был искусственно расчленен на несколько мелких и практически разобщенных этнических групп. В процессе длительного времени из этих осколков древних чжурчжэней в результате их слияния друг с другом и некоторыми соседними народами образовались удэгейцы, нанайцы, ульчи, орочи, маньчжуры и другие этносы .
Изучение языка. В 1928 —1933 гг. среди анюйских, хорских и самаргинских удэгейцев работал Е.Р. Шнейдер, который за короткий срок изучил язык и быт народа. Знание языка позволило исследователю получить многие сведения по хозяйству, материальной и духовной культуре удэгейцев и принять участие в создании письменности для них. Под его руководством для удэгейского языка был разработан алфавит на латинской основе и выпущены первые (переводные) книги, учебники, словарь с грамматикой, которые до сих пор являются важным источником при изучении истории и культуры удэгейцев .
В 1936 — 1937 гг., когда в соответствии с политикой советскою государства, вновь созданные языки народов севера переводили на русскую графику, удэгейский язык не был включен в этот процесс и книгопечатание, как и обучение, на нем прекратились . В 1937 г. Е.Р. Шнейдер вместе с группой североведов был необоснованно репрессирован и 8 января 1938 г. расстрелян . После этого удэгейский язык не изучался почти 30 лет.
Наконец, в 1968 г. большое внимание удэгейскому языку уделил 0.11. Суник. Он относил его к южной группе тунгусо-маньчжурских языков и обоснованно считал, что этот язык не монолитен и по целому ряду лингвистических признаков разделяется на несколько говоров, объединенных в три диалектные группы: хорско-анюйскую, бикинско-иманскую и самаргинско-хунгарийскую. Грамматический строй -морфология и особенно синтаксис - в основном единые и общие для всех трех наречий удэгейского языка J . Аналогичного мнения придерживался в 1984 г. и A.M. Певнов, когда проводил сравнительное исследование удэгейского и других языков народов Нижнего Амура132.
Изучением удэгейского языка занимались и сотрудники Ленинградского отделения Института этнографии, создавшие двухтомный сравнительный словарь по тунгусо-маньчжурским языкам . Материалы этого словаря позволяют проводить этнокультурное сравнение национальной терминологии удэгейцев с другими тунгусо-маньчжурскими народами.
В 1998 г. исследования И.В. Кормушина показали, что удэгейский язык, наряду с эвенкийским, эвенским, солонским, негидальским и орочским языками относится не к южной, а к северной ветви тунгусо-маньчжурских языков. Его исследование в корне меняет взгляд на происхождение этноса, что и находит подтверждение в этнической истории народа J .
Специальную статью по языковой ситуации хорских удэгейцев в 2000 г. опубликовал и М.И. Симонов. Здесь он дал только обзор употребления родного языка среди разных возрастных групп этноса и пришел к выводу, что удэгейский язык достиг ныне последней стадии своего существования .
Духовная культура представляет собой особый компонент традиционно-бытовой культуры этноса, включающий в свой состав религиозные представления, верования, народное творчество, обряды, обычаи и др. аспекты, связанные с хозяйственной, социальной и семейной жизнью человека. Изучению ряда аспектов духовной культуры посвятили свои труды многие исследователи народов Нижнего Амура и Приморья. С
50-х годов XX столетия начинается детальный процесс интенсивного изучения декоративно-прикладного искусства удэгейцев и других народов Сибири и Дальнего Востока СВ. Ивановым. Ученый, анализируя изобразительное искусство народов Сибири, под историко-этнографическим углом рассмотрел орнаментальное искусство удэгейцев, которое является составной частью как материальной, так и духовной культуры. Он ввел в научный оборот неопубликованные материалы музейных фондов страны, касавшиеся особенностей национальной утвари, шаманских головных уборов, верхней повседневной и праздничной одежды удэгейцев1 б.
Особого внимания заслуживает монография СВ. Иванова «Орнамент народов Сибири как исторический источник», в которой автор рассмотрел многочисленные сюжеты национальных орнаментов народов Сибири и Дальнего Востока. Изучая отдельные элементы орнаментов, СВ. Иванов пришел к выводу, что их мотивы свидетельствуют о культурных и этнических связях удэгейцев с орочами, ульчами, нанайцами и др. народами Нижнего Амура .
Охота и промысловое хозяйство
По мнению Е.Г. Демидовой, англо-американские этнологи разделяются на либеральных и реакционных ученых212. С точки зрения коммунистической идеологии те исследователи, которые писали только положительно о национальной политике Советского Союза, относились к либеральному направлению, а тех, кто критиковал эту политику, считали реакционными историками. В свою очередь политики США и Англии не одобряли деятельность ученых, которые усматривали положительные стороны в национальной политике СССР, и приветствовали тех, кто освещал национальную политику Советского Союза только с отрицательной стороны. Отсюда следует, что политики социалистического и капиталистических государств использовали историко-этнографическую науку и ученых в идеологических целях, поэтому они поощряли их борьбу друг против друга, и преследовали тех ученых, которые выражали иное, чем их взгляды, мнение.
Против разделения англо-американских исследователей на либеральных и реакционных ученых выступает Ю.В. Корчагин, который в специальной монографии утверждает, что в основе этого разделения лежит идеологический критерий \ Рассматривая проблему разделения англо-американских этнологов на либеральных и реакционных, можно согласиться с мнением Ю.В. Корчагина, но можно выразить и несогласие в этом вопросе. Дело в том, что сам Ю.В. Корчагин признает разделение англо-американских ученых на два лагеря. Одни из них выражали согласие с национальной политикой советской власти и приветствовали социалистические преобразования в культуре народов Севера России, а другие отмечали только недостатки в этих преобразованиях и считали, что советская власть этими преобразованиями преследует свои политические и определенные корыстные цели214.
Так называемое, с точки зрения советской науки, либеральное направление ученых сформировалось в годы Великой Отечественной войны, к представителям которого относили К. Ламонта, О. Латтимора и В. Манделла. Эти ученые пытались разобраться в причинах успеха советской национальной политики и огромного авторитета советского государства среди пробудившихся народов Азии. Поэтому они отмечали в основном положительные стороны советской политики и указывали на те огромные трудности, которые стояли на пути преодоления культурной и хозяйственной отсталости коренного населения Дальнего Востока. Так, например, В. Манделл серьезным препятствием для всестороннего развития народностей советского Дальнего Востока считал низкий уровень образования и охотничье-кочевое хозяйство, доставшиеся в наследство советской власти от старого строя \
Отмечая многие трудности, англо-американские историографы либерального направления объективно показали процесс развития народов Севера и дали объективную оценку советскому государству в деле решения национального вопроса в довоенный период. В книге «Народы Советского Союза» К. Ламонт писал, что советскому правительству «удалось установить полное равенство среди малочисленных народов и национальностей СССР 10. Отмечая изменения в сознании коренных народностей юга Дальнего Востока, он пришел к выводу, что эти народы впервые за всю историю своего существования почувствовали себя по-настоящему равноправными гражданами страны
В условиях «холодной войны» между СССР и капиталистическими странами «представители либерального направления — В. Манделл, О. Латтимор, К. Ламонт, опубликовавшие свои работы о народах Дальнего Востока преимущественно перед началом войны и на ее протяжении, — отмечает Е.Г. Демидова, — вынуждены были замолчать или изменить темы исследований». Некоторые из них «были обвинены в антинациональной деятельности и занесены в «черные списки». Обвинению подвергся О. Латтимор, предстал перед сенатской комиссией В. Манделл: его заподозрили в принадлежности к коммунистической партии. Члены комиссии пытались доказать участие В. Манделла в шпионаже в пользу Советского Союза, однако вынуждены были отказаться от вымышленного обвинения из-за отсутствия фактов»" .
По мнению советских историков, к числу реакционных англо американских ученых относились У. Коларц, Стефан и Этель Данн, Сэттон Уотсон, В. Вуценич и другие, которые преследовали цель доказать, что Советский Союз и его национальная политика не могут служить образцом для подражания. В книге «Народы советского Дальнего Востока»" У. Коларц, рассматривая проблемы национального строительства в СССР, в третьей главе, посвященной малочисленным народам Дальнего Востока, обратился к периоду довоенного формирования советской национальной политики и подверг его критике. Он доказывал, что политика Советского правительства по отношению к дальневосточным народам не была продуманной и планомерной, а поиски этнографами и органами советской власти форм и методов национального строительства, часто характеризующегося противоречивостью, он относил к неспособности большевиков решить эту проблему.
Однако в этом вопросе У. Коларц был не совсем прав. Как известно, особенности культурно-хозяйственного развития народностей Дальнего Востока требовали специфического подхода, выработки наиболее эффективных методов помощи коренным народам в преодолении отсталости во всех сферах социально-экономической и культурной жизни. Для достижения этих целей при Президиуме ВЦИК был образован Комитет содействия народностям северных окраин (Комитет Севера), в его работе приняли участие крупные партийные деятели и этнографы, хорошо знавшие народы Севера. У. Коларц признавал положительную роль комитета во всестороннем развитии КМНС, но все же считал, что большевики в Комитете Севера видели «инструмент экономической эксплуатации территорий Севера Дальнего Востока»"" .
Социально-экономические и правовые проблемы развития национальных хозяйств удэгейцев
Экономическое благосостояние аборигенов Приамурья и Приморья совершенно подавлено китайцами, — отмечал В.К. Арсеньев. - Эти хищники совершенно закабалили их. Обратили в рабство и лишили совсем всякой свободы, продают их за деньги и даже распоряжаются жизнью . Закабаленного должника китаец продает другому китайцу, и купленный раб, уже окончательно закрепленный, и сам и жена его, и дети становятся рабами до конца дней своих .
Одним из жестоких китайских торговцев был русский подданный Ли-Чин-Фу (Андрей Гартнов). Это разбойник, грабящий удэгейцев до последней рубахи и убивающий их. Он забил палками удэгейца Гулунга Соремага за то, что он пьяным ругал китайцев. От побоев едва выжил Масенда Пя-Лондига. Ли-Чин-Фу не позволял удэгейцам охотиться в своих владениях р. Имапа. Если аборигены не отдавали ему долг, то он зимой на льду пытал их водой. Другой китайский торговец — Дюдо-Чуй убил удэгейца Сомо Гялондига. Свидетелями были все иманские удэгейцы из селения на Вахомбэ" .
Каждый удэгеец, попав в число должников к китайскому торговцу, обязан был отдавать пушнину только своему кредитору. Но удэгейцы часто утаивали двух-трех соболей, рассчитывая продать их на стороне. Если этот обман раскрывался, то скупщики пушнины из числа отходнического населения пытали должника или забирали его семью-".
В.К. Арсеньев подчеркивал, что удэгейцы «ненавидят китайцев всею душою и более склонны дружить с русскими. Это видно в каждом их выражении и в речи, и в том доверии, которое они питают вообще к русскому человеку» . С орочами, тазами, приморскими и самаргинскими удэгейцами в торговые контакты вступали и японские рыбаки, которые по договору с Россией занимались рыболовством у берегов Приморья, где обитали кпы, приморские и са.маргинские удэгейцы. Японские шхуны, ежегодно приезжая ловить рыбу, привозили и свои товары для торговли с местным населением. Японцы охотно скупали у удэгейцев (р. Кусун) и тазов зверовые шкуры. Они платили за медвежью шкуру— от 9 до 12 руб. За шкуру выдры давали 18 руб. Лосиная шкура покупалась за 4 руб., а за шкурку куницы давали 2 руб. Ежегодно с реки Кусуна японцы увозили до 5 — 10 медвежьих и до 8 — 12 штук лосиных шкур. За взятые шкурки они расплачивались русскими деньгами или давали взамен рис и соль по ценам: рис (3 пуда) — 10 руб.; соль (1 пуд) — 1 руб."
Орочам, проживающим около Императорской гавани, японцы продавали рис по 2 руб. за один пуд. Японские рыбаки также покупали рыбу у аборигенов и русских. За одну рыбину они давали по 12 коп за штуку"". Японцы продавали водку от 1 до 2 руб., а китайцы - по 3 руб. за бутылку" .
Орочи и удэгейцы предпочитали приобретать соль у японцев не за наличные деньги, а в обмен на кожи. Иногда японцы удэгейцам и орочам давали соль в виде подарков или продавали им по цене 3 рубля за мешок (100 фунтов). Кроме этого, в настоящее время (1907 г.) японцы стали привозить для продажи аборигенам разные бусы и пуговицы, на которые так падки орочи
«Нужно отдать справедливость, — писал В.К. Арсеньев, — что японцы не хищничают в торговле, и свои товары продают по сходной для орочей цене. Так деревянные ящики с выдвижными коробками продают орочам по цене вдвое меньшей, чем они стоят в городе в русских магазинах. Таким образом, меновая торговля орочей и японцев благоприятно сказывается на первых в экономическом отношении их благосостояния» .
С развитием в крае русской торговли торговые сделки китайцев стали уменьшаться. Наиболее предприимчивые русские переселенцы открывали лавки и занимались развозным торгом; везде около аборигенных поселений основывали свои фактории русские торговцы и скупщики пушнины. Стараясь обезопасить себя от конкуренции со стороны китайских торговцев и скупщиков пушнины, они сбавляли цену на свой товар, не пропускали китайцев в зону своего влияния .
Торговец Степанов, захватив монополию торговли исключительно в свои руки, не допускал китайских купцов на р. Самаргу. Аборигенам (самаргинским удэгейцам и орочам) он продавал продукты питания, оружие, порох и патроны .
Степанов установил твердые цены на товары и продавал их по цене: пуд муки - 4 руб. 1 фунт свечей - 70 коп. 1 фунт пороха - 3 руб. 1 пуд риса - 4 руб. 1 фунт сахара - 50 коп. 1 коробка пистонов - 2,5руб. 1 пуд чумизы — 3 руб. 1 плитка чая - 70 коп. 1 сотня патронов — 20 руб. 1 пуд табаку - 1 соболь 1 банка молока - 50 коп. 1 кусок китай. Ткани - 1 руб. Из записей в полевых дневниках В.К. Арсеньева известно, что удэгейцы регулярно посещали лавку Степанова, приносили ему пойманных соболей, а взамен получали деньги, промышленные товары или продукты 1-. На р. Тумнин развивал торговую деятельность Клокк, в Императорской гавани и на р. Ботчи действовали Майданов, Марцинкевич, Панов, Берсенев, староверы Бортниковы и другие". Орочи с р. Копи делали свои закупки в Императорской гавани у русских торговцев и в китайской лавке, расположенной в доме господина Майданова34.
В 1907 г. на Маяке в Императорской гавани был открыт государственный склад — магазин для аборигенов. Государственной торговлей занимался смотритель маяка Майданов. В магазине у него орочи в 1908 — 1909 гг. купили 200 кульков муки, около 150 пуд. риса и 50 пуд. сахара. Основные закупки продовольствия были сделаны в китайской лавке или в магазинах торговцев Марцинкевича и Клока0 (см. таблицу):
Из таблицы видно, что на продовольственные товары самые малые цены были только в Императорской гавани у смотрителя маяка Майданова. Он в отличие от русских и китайских торговцев продавал продовольствие с государственного склада по цене, доступной для аборигенного населения. Однако товаров у Майданова было немного, и он не мог обеспечить все аборигенное население продовольствием. Поэтому удэгейцы и другие аборигены были вынуждены обращаться за товарами к другим торговцам.
Среди русских торговцев были и такие люди, которые тоже занимались обманом аборигенов. Берсенев из села Вознесенского брал у орочей соболей в долг и не платил им деньги. На одной только р. Ботчи он задолжал аборигенам 1000 рублей. Цены на свои товары он установил выше, чем у китайских и ряда других русских торговцев .
После зимней охоты на пушных зверей удэгейцы часто спускались к устьям рек, к русским поселениям. Там они обменивали пушнину, изредка рыбу и мясо на хлеб, муку, предметы быта, орудия труда и прочие вещи. Ф.Ф. Буссе в 1869 г. отмечал, что соседские отношения русских и удэгейцев весьма радушные и хорошие. «Они заходят друг к другу в гости, угощаются, и часто гость ночует у хозяина» .