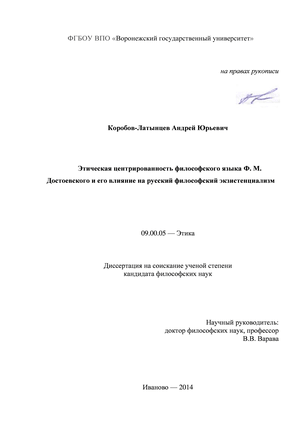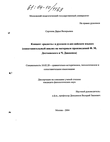Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Понятие философского языка
1. Язык как предмет науки и философии 13
2. Этическая проблематика в философском языке Ф. М. Достоевского как культурно-философский феномен 32
Выводы по главе I 65
Глава 2. Особенности философского языка Ф. М.Достоевского
1. Рецепции этико-философской мысли Ф. М. Достоевского в русской философской культуре 66
2. Влияние философского языка Ф. М. Достоевского на русскую культуру 99
3. Современный дискурс философского языка Ф. М. Достоевского .131
Выводы по главе II 147
Заключение 149
Библиографический список
- Язык как предмет науки и философии
- Этическая проблематика в философском языке Ф. М. Достоевского как культурно-философский феномен
- Влияние философского языка Ф. М. Достоевского на русскую культуру
- Современный дискурс философского языка Ф. М. Достоевского
Язык как предмет науки и философии
Язык как явление интересовал философию с давних пор. Уже Эпикур в своих Письму к Геродоту коротко говорит о происхождении языка. Эпикур пишет, что обстоятельства «научили и принудили человеческую природу делать много разного рода вещей и что разум впоследствии совершенствовал то, что было вручено природой, и делал дальнейшие изобретения», «вот почему и названия первоначально возникли не по уговору, но так как каждый народ имел свои особые чувства и получал свои особые впечатления, то сами человеческие природы выпускали каждая своим особым образом воздух, образовавшийся под влиянием каждого чувства и впечатления, причем влияет также разница между народами в зависимости от места их жительства. Впоследствии у каждого народа с общего согласия были даны вещам свои особые названия» [200; 752].
В. фон Гумбольдт, зачинатель европейской филологии, в статье «Лаций и Эллада» пишет, что «язык - это удобное средство для создания характера, посредник между фактом и идеей; он основан на общеобязательных, но в лучшем случае смутно осознаваемых принципах, и в большинстве случаев складывается из уже имеющегося запаса, поэтому представляет собой инструмент не только для сравнения наций, но и для обнаружения их взаимодействия» [64; 3-7]. Эту мысль о языке и его «смутно осознаваемых принципах» развивает Н. Хомский в своей генеративной лингвистике. Н. Хомский рассматривает язык как организм, выявляет закономерности языка, которые, по его теории, являются врожденными человеку. Поэтому усвоение родного языка, говорит Н. Хомский, – это частный случай роста живых организмов, и сама языковая способность есть биологическая способность и развивается в онтогенезе. Язык у Н. Хомского описывается в рамках когнитивной парадигмы.
Все эти подходы можно определить как лингвистические. Собственно лингвистической стороной философского рассмотрения языка занимались также и русские философы, например П. А. Флоренский и С.Н. Булгаков. И Флоренский, и Булгаков дают развернутое толкование строения языка, уделяя немало внимания морфологии и грамматике, речи и письму. Так, П. А. Флоренский в работе «У водоразделов мысли» в главе IV «Язык и мысль» в пункте пятом «Строение слова» пишет, что слово антиномично в своем употреблении и «сопрягает в себе монументальность и восприимчивость», и эту антиномичность следует искать в самом строении слова. Речь, пишет П. А. Флоренский, чтобы быть общезначимой, должна «необходимо опираться на некоторые первичные элементы, себе тождественные при всех взаимоотношениях» [176; 233]. Тем не менее, язык, речь, письмо у каждого человека сильно отличаются, потому как речь этого человека, как пишет Флоренский, принимает оттиск именно «именно моего способа пользования речью, именно моей духовной потребности, и притом не вообще моей, а в этот, единственный в мировой истории, раз» [176; 233]. Строение слова антиномично структурно: в нем есть твердость и текучесть, «причем и та и другая должны быть, однако, проработаны человеческим духом» [176; 234]. П. А. Флоренский здесь пишет, выражаясь традиционными терминами, о формах слова, о внешней и внутренней, которыми, как он полагает, обуславливается две стороны языка: 1 - Общеобязательная, надындивидуальная сторона – это «твердый состав, которым держится слово», это внешняя форма, которую «можно уподобить телу организма. Не будь этого тела – не было бы и слова как явления надындивидуального». Это «тело» мы получаем от родного народа и без такого «тела» не могли бы участвовать в народном языке. Однако же жизненная сила этого «тела» самого по себе «только тлеет, ограниченная узкими пределами, и неспособна согревать и освещать окружающее пространство» [176; 233].
Индивидуальная сторона, внутренняя форма, которую «естественно сравнить с душою этого тела, бессильно замкнутой в самое себя, покуда у неё нет органа проявления, и разливающей вдаль свет сознания, как только такой орган ей дарован. Эта душа слова – внутренняя форма – происходит от акта духовной жизни. Если о внешней форме можно, хотя бы и приблизительно, говорить как о навеки неизменной, то внутреннюю форму правильно понимать как постоянно рождающуюся, как явление самой жизни духа» [176; 234]. Внешнюю форму слова, пишет П. А. Флоренский, человеку невозможно изменить, не разрывая при этом своих связей с народом, к которому принадлежит человек, а через свой народ – со всем человечеством, потому как новообразование внешней формы делается не как просто приспособление внешней формы к частному случаю, т.е. внутренней форме, но «как всенародное языковое творчество, как вклад в сокровищницу языка» [176; 234]. Таким образом, для Флоренского язык имеет две стороны, с одной стороны, это универсум, который созидается всем народным духом и через который человек становится сопричастным не только своему собственному народу, но и через него – всем человечеству, это твердая сторона языка, которую человек застает уже данной; с другой же стороны – это индивидуальное явление, которое своей текучей стороной изменяется самим человеком и принимает оттиск его духовных устремлений и через то влияет исторически на твердую сторону языка, т.е. на внешнюю форму. Так П. А. Флоренский вскрывает сложную диалектику этих двух сторон языка.
Этическая проблематика в философском языке Ф. М. Достоевского как культурно-философский феномен
Обратимся к опыту М. Хайдеггера, оценивающего философию Ф. Ницше. М. Хайдеггер спрашивает в первом томе своего исследования: «почему Ницше излагает свою мысль так невразумительно?» Ответ: «потому что он говорит прямо из того, что подлинно следует знать» [183; 531]. И далее философ напрямую подходит к сути рассматриваемой нами проблемы, он пишет, что на самом деле в случае с Ф. Ницше (и в случае с Ф. М. Достоевским) не решено, что происходит: «или мыслитель должен говорить так, чтобы его понимал всякий, причем без какого-либо усилия со своей стороны, или осмысленное в данном случае стремится к такому выражению, которое предполагает длинный путь последующего обдумывания, на котором случайный человек непременно застрянет и только единицы, быть может, окажутся близкими к цели» [183; 531-532]. Ф. Ницше писал запутанно, Ф. М. Достоевский, наоборот, стремился к общепонятному языку, однако результат и в случае с Ф. Ницше, и в случае с Ф. М. Достоевским был одинаков: их плохо понимали. Следовательно, мыслитель не должен вовсе излагать свою мысль общедоступным языком, чтобы его понимал вообще всякий случайный человек, но он должен довериться своей мысли и выговорить её таким способом, какой она себе попросит сама. Ф. М. Достоевский стремился говорить на общепонятном языке, однако его подлинная мысль сама деформировала язык и создавала новый язык, который не был понятен случайному человеку, поскольку этому случайному человеку не могла быть понятна самая мысль, несомая в этом новом языке, поскольку сама мысль была нова. Однако этот новый язык, с другой стороны, был непонятен и «неслучайному» человеку, академическому профессиональному философу. В статье 1921 года «Преодоление очевидностей» Лев Шестов констатирует этот факт, говоря, что на произведениях Ф. М. Достоевского нет академического штампеля, это не философские трактаты, поэтому о Ф. М. Достоевском никогда не скажут в учебниках [195]. Лев Шестов здесь говорит, что Ф. М. Достоевский предлагает эксплицировать философские концепции оригинальным способом, не академическим философским языком. Поэтому университетская наука, говорит Лев Шестов, не принимала Ф. М. Достоевского всерьез и потому не признавала его вклада в этико-философскую мысль. Здесь даже можно высказать предположение, что новизна мысли определяется по языку. Новизна этики Ф. М. Достоевского, ломающей обыденные стереотипы человеческого поведения, сломала в итоге и представления о писательском языке.
Г. Померанц, рассуждая о новизне мысли Ф. М. Достоевского, вписывает язык нашего писателя в целую литературную традицию, традицию, которая, правда, до Ф. М. Достоевского только молчала, и заговорила именно через него, потому что только Ф. М. Достоевский нашел язык для того, что эта традиция хотела описать. Бездна – вот тема этой традиции. Бездна, которая отверзается человеку и пугает его, о которой предлагал молчать Ф. И. Тютчев и не будить её, бездна, которую культура закрывает изящными строениями рациональности. Но «творчество Ф. М. Достоевского разрушает стену ответов, построенных культурой, и сталкивает лицом к лицу с открытым вопросом. Мы находим у Ф. М. Достоевского и ответы, часто очень интересные. Но ответы на метафизические вопросы – только поплавки. Эти поплавки у Ф. М. Достоевского подвижны, не скрывают течения, не становятся плотиной поперек потока (как у многих мыслителей)» [141; 260]. Г. Померанц здесь описывает именно этико-философскую позицию Ф. М. Достоевского: не дать окончательный ответ, но указать на истину вопроса, в которой человек постигает свое бытие. Итак, у Ф. М. Достоевского все подвижно, все его «ответы» - лишь отметки в общем потоке реки, в которую с головой бросился Ф. М. Достоевский. «То, что душит Толстого, - пишет далее Григорий Померанц, - окрыляет Достоевского. Созерцание открытого вопроса, созерцание бездны, «родимого хаоса» [141; 257]. Ф. М. Достоевский вскрывает этическую проблему, которая бездной своей неразрешимости встает пред человеком и выдергивает его из мира, в котором рационализированы и закрыты все подлинные проблемы, и это предстояние перед бездной («открытость бездне», по Г. Померанцу) вызывает в человеке подлинные этико-философские усилия. Ф. М. Достоевский вскрывает проблему совести, которая всегда болит, свободы, которая всегда бьется в судорогах, проблему человека, который не может быть счастлив, если рядом с собой он видит свих несчастных братьев. Разумеется, эти проблемы (одну проблему) невозможно выразить средствами религиозного, теологического языка, языка морали, языка проповеди, языка строгих научных описаний. Для этих проблем (проблемы) необходим особый философский язык, который бы не давал из себя скорый ответ на открытый вопрос, но вместе с автором устремлялся бы в даль открытого вопроса, открывал бы горизонт мысли. Именно так открыл горизонт для русской философии Ф. М. Достоевский. То, что это горизонт философский, а не чисто литературный, доказывается тем, что среди наследников Ф. М. Достоевского в основном мы находим философов либо художников, тяготеющих к философичности, как в России, так и на Западе. Наследников Ф. М. Достоевского интересовала прежде всего этико-философская составляющая тексов Ф. М. Достоевского, собственно же художественные особенности Ф. М. Достоевского интересовали мало.
Так, Н.А.Бердяев замечал (подобные же замечания встречаются и у Льва Шестова, и у В.В.Розанова), что как художник Ф. М. Достоевский стоит ниже Льва Толстого. А вот отзыв самого Льва Толстого, читающего «Братьев Карамазовых»: «Начал читать и не могу побороть отвращение к антихудожественности, легкомыслию, кривлянию и неподобающему отношению к важным предметам» [51]. Ф. М. Достоевский и сам замечал про этот свой недостаток. Н. Н. Страхов писал Ф. М. Достоевскому по поводу издававшегося «Идиота»: «Во всем Вашем лежит особенный и резкий колори
Влияние философского языка Ф. М. Достоевского на русскую культуру
Наука страдает другим недостатком. Наука всегда хочет увидеть текст как систему (систему образов, сюжетов, конфликтов и т.д.) схематизировать текст, в результате чего она также не проникает вовнутрь текста, в самое нутро его. Религиозный подход страдает иным недостатком. Теолог всегда выискивает в тексте подтверждение для своего догмата, для свой веры, что часто заставляет его упрощать авторскую проблему и останавливаться на искусственных и ситуативных моральных сентенциях. Философия же действует иначе. Для философии нет ничего такого, на что изначально можно было бы опереться: ни потребности дня (как для критики), ни готовых схем (как для науки). (Разумеется, и литературная критика, и наука, и религия здесь берутся в своем крайнем и абстрактном выражении, ибо не было никогда такой литературной критики, которая искала бы в каждом тексте лишь отклики на сиюминутные проблемы, так же как нет такой науки, которая желала бы во что бы то ни стало положить текст на прокрустово ложе готовых схем, и такой религии, которая всякую религиозную проблему хоронила бы под тоннами моралите). Однако же в основном и главном эти подходы (религиозный и научно-критический) уходят от самого текста или стремятся от него уйти. Естественно, что при таком подходе (уходе) не фиксируется языковое своеобразие (стандартные замечания про «особенную стилистику» не в счет, поскольку у всякого автора своя «особенная стилистика»). Языковое своеобразие автора неизбежно упрощается, когда упрощаются его мысль. Так, для наглядного примера такого упрощения можно процитировать одну небольшую статью из известного православного журнала, где автор пишет, что Ф. М. Достоевский «нашел уникальный язык, с помощью которого донес до читателей, пребывших в духовном обмороке, благую весть» [135; 46]. Здесь опять же речь о новой этике Ф. М. Достоевского и попытке транскрибировать язык этой этике по правилам этики старой. Ведь Ф. М. Достоевский помимо Благой Вести донес еще и совсем иную весть, весть о бездне, и эту весть тоже нельзя не замечать. Здесь уместно будут процитировать слова двух наших философов-наследников Ф. М. Достоевского, С.Н. Булгакова и Льва Шестова. Первый писал, что в Ф. М. Достоевском помимо старика Карамазова, Свидригайлова и всех прочих негативных персонажей живут также и Алеша Карамазов, и Зосима, и в конце концов Тот, которому молился Алеша в минуту своего воскресения; Лев Шестов же замечал, что часто про Ф. М. Достоевского вспоминают так, будто он написал только лишь «Преступление и Наказание» и публицистику Дневник писателя, а про Кроткую, про господина с ретроградной физиономией забывают. Сложность и заключается в том, что в Достоевском уживались и те и другие, что он написал и то и другое, выговорил и то и другое, часто бросаясь из одной крайности в другою, потому что он не стремился выразить готовую выстроенную философскую систему, но жил философией и вместе с ней шел – через свои тексты, которые представляют живую жизнь Ф. М. Достоевского.
Этой живой жизнью и разъясняется то, что Ф. М. Достоевский порой противоречит самому себе, то, что он порой говорит разными языками одну и ту же мысль. Так, например, то, что Ф. М. Достоевский сказал в одном языковом режиме (объяснение издателю поэму о великом инквизиторе), очевидно, вовсе не равнозначно тому, что он сказал в ином (художественное произведение). Поэма о Великом инквизиторе по объему и глубине смысла не равняется тем объяснениям, которые приводит Ф. М. Достоевский издателю. Почему? Надо полагать, что дело именно в языковых режимах. То, что Ф. М. Достоевский высказал своим философским художественным языком, просто не вместилось в язык внешний, описательный, объяснительный, требующий ясных дефиниций, чуждый проблемам . М. Достоевского. М.М.Бахтин обвинял русских философов (Н. А. Бердяева, Льва Шестова и др.) как раз в том, что они вынимали философскую энергию из текстов Ф. М. Достоевского и делали с ней что хотели, совсем не учитывая особой организации и движений этой энергии, которую возможно увидеть только из структуры самих текстов Ф. М. Достоевского (не учитывали полифонию как основную особенность романов Ф. М. Достоевского8). Однако это обвинение неверное. Н. А. Бердяев замечал, что русская философия переводит Ф. М. Достоевского на философский язык. То же самое говорил Бахтин про свою интерпретацию Ф. М. Достоевского. Но отличие этих двух интерпретаций громадно. И отличие это видно будет прежде всего из вопроса о языке. Эту проблему поиска языка, адекватного языку Ф. М. Достоевского (другими словами – проблему философского перевода), очень точно подметил Роуэн Уильямс, который в своей книге «Достоевский: язык, вера, повествование» пишет, что «сама наша способность видеть вещи в масштабе чего-то большего, нежели их непосредственное окружение, означает, что мы постоянно прибегаем к языку, не вполне адекватному по отношению к среде, в которой эти вещи пробуждают нас видеть в них то, что выходит за пределы непосредственно наблюдаемого» [173; 20].
М. М. Бахтин писал, что он переводит на язык отвлеченного мировоззрения то, что было предметом конкретного и живого художественного виденья и стало принципом формы, а такой перевод всегда неадекватен» [9; 212]. Итак, мы имеем дело с двумя случаями перевода Ф. М. Достоевского. В. В. Бибихин писал, что любой перевод уже есть интерпретация. В случае же с Ф. М. Достоевским сама интерпретация неизбежно должна была быть вместе с тем и переводом. В чем разница двух переводов: перевода М. М. Бахтина и перевода русских религиозных философов? Если учитывать обвинение М. М. Бахтина, то русские философы не увидели основной структурной особенности Ф. М. Достоевского – полифонии, и потому принимали мысли отдельных героев за мысли Ф. М. Достоевского9. Однако разве мысли отдельных героев не есть и мысли самого Ф. М. Достоевского?10 Это можно доказать посредством сравнения
Дневника писателя с художественными произведениями Ф. М. Достоевского, в которых он в уста героев часто вкладывает свои собственные мысли (Князь Мышкин о католицизме, Версилов про русский дух и др.). Однако дело даже не в этом. Дело в том, что М. М. Бахтин, рассматривая поэтику романов Ф. М. Достоевского, следует невольно за спецификой философии Ф. М. Достоевского, которая слита со своим воплощением, но стремясь научно рассмотреть эти романы, он своеобразие романной поэтики Ф. М. Достоевского ставит на первое место, упуская совершенно из виду само этико-философское составляющее их, которому и соответствует своеобразие поэтики. Т.е. М. М. Бахтин начинает говорить о том, что следует из феномена, об эпифеномене, забывая про сам феномен.
В.В.Бибихин в работе «Слово и событие» пишет, что Достоевский «себе и читателю, живому человеку, не персонажам дарит дар слова, слезы, радость, личное достоинство, а если и персонажам тоже, то это просто прием, на месте которого в виду захватывающий цели мог бы стоять и любой другой, включая противоположный» [29; 79]. Это означает, что М. М. Бахтин не прав и т.н. полифония вовсе не главное достижение Достоевского, но «просто прием». Однако на её месте не могло быть другого приема, разве только Ф. М. Достоевский стал бы писать философские работы. Но он писал романы. Бибихин напрямую обращается в М. М. Бахтину, цитируя его и опровергая. Так, цитируя фразу М. М. Бахтина о том, что «художественная воля есть воля к сочетанию многих воль, воля к событию», В. В. Бибихин отрицает это положение и говорит, что сочетание многих воль еще не дает события, даже наоборот
Современный дискурс философского языка Ф. М. Достоевского
В. C. Соловьев в своих речах в память Ф. М. Достоевского как главный вопрос своего эссе ставит вопрос о том, чему служил Ф. М. Достоевский, поскольку «ни подробности частной жизни, ни художественные достоинства или недостатки его произведений не объясняют сами по себе того особенного влияния, которое он имел в последние годы своей жизни, и того чрезвычайного впечатления, которое произвела его смерть» [160]. И приходит к простому выводу, вполне вписывающемуся и поддерживающему его собственную философскую систему: что все творчество Ф. М. Достоевского направлено на христианскую проповедь, и фраза Ф. М. Достоевского «красота спасет мир» понимается лишь в контексте соловьевской триады истина-добро-красота: «В своих убеждениях он никогда не отделял истину от добра и красоты, в своем художественном творчестве он никогда не ставил красоту отдельно от добра и истины. И он был прав, потому что эти три живут только своим союзом. Добро, отделенное от истины и красоты, есть только неопределенное чувство, бессильный порыв, истина отвлеченная есть пустое слово, а красота без добра и истины есть кумир. Для Достоевского же это были только три неразлучные вида одной безусловной идеи» [160].
Таким образом, рецепция мысли Ф. М. Достоевского у В. С. Соловьева также есть рецепция отрицательная, поскольку В. С. Соловьеву важно вычленить в творчестве писателя то, что будет работать на его собственную философскую систему.
Филологические исследование конца 90-х о Ф. М. Достоевском оставляют по их прочтении почти всегда весьма скучное впечатление (за исключением немногих). В Ф. М. Достоевском видят моралиста, и всегда почти противопоставляют его «аморалисту» Ф. Ницше. Будто бы Ф. М. Достоевский написал только Алёшу и Зосиму, а другие, невыгодняе для таких трактовок произведения писателя, такие как «Кроткая», Поэма о великом инквизиторе или «Записки из подполья», написаны кем-то другим. Точно так же редуцируется и Ф. Ницше, который становится воплощенным злом и ложью.
Так, Ю. Н. Давыдов в своей книге противопоставляет Ф. М. Достоевского и Ф. Ницше, разводя их по разные стороны от христианства. Насколько это соответствует реальности, можно увидеть хотя бы по тому влиянию, которое оказал на Ф. Ницще Ф. М. Достоевский. Действуя по той же методике, что и Ю. Н. Давыдов (текстуальный анализ), современный отечественный философ Игорь Евлампиев, наоборот, сближает Ф. Ницше и Ф. М. Достоевского, связывая их обоих с «подлинным христианством». Так, в статье «Достоевский и Ницше» [74;114] философ вспоминает обращение Ф. Ницше к фигуре Иисуса Христа, которого он превозносит, «по существу, превращает в воплощение того самого высшего типа человека, о котором он говорил в «Заратустре» и который столь удачно назван «сверхчеловеком». Он отделяет Иисуса от христианства и, осуждая второе, утверждает, что никто не понял подлинного смысла его проповедей и его жизни. Уже в этом, - делает вывод И. Евлампиев, - проступает близость Ф. Ницше к Ф. М. Достоевскому; влияние Ф. М. Достоевского на Ф. Ницше в понимании Христа становится очевидным, когда Ф. Ницше называет Христа «идиотом», и мы отчетливо видим, что упомянуто это слово не в отрицательном, а в положительном смысле, в качестве прямой отсылки к роману Достоевского». Интересно, что в своей работе Ю. Н. Давыдов видит прямо противоположную коннотацию в употребленном Ф. Ницще слове. «Если всерьез продумать урок, - пишет Ю. Н. Давыдов, - преподанный нам автором «Преступления и наказания», «смыслоутрата» — это трагедия, возникающая не в присутствии «мертвого бога», а перед лицом мертвой, или — в лучшем случае — омертвевшей совести. Причем – это трагедия не для того, у кого умерла совесть, а для «других». Это трагедия для тех, чья совесть сохранилась и для кого жизнь не утратила своего смысла, а абсолюты – своей незыблемости. Ведь если нет такого сознания – нет и трагедии. Она превращается в жалкую карикатуру на саму себя, в бессмысленный фарс» [65; 140]. Однако стоит ли всерьез полагаться на известное утверждение, что Ф. М. Достоевский непременно преподает урок, непременно учит? Или, может быть, писатель хочет убедить нас, что преподает нам урок? Нас – и себя заодно. Но неужели же когда он пишет, что через великое горнило сомнений его осанна прошла, неужели же он тогда имеет в виду трагедию не своей, а чужой совести? Неужели же Ф. М. Достоевский не мучился отсутствием Бога? («Меня Бог всю жизнь мучил»). Неужели же нежелание быть счастливым среди несчастья окружающих, которым характеризуются все бунтари и правдоискатели Ф. М. Достоевского, неужели оно диктуется Ф. М. Достоевскому только общепринятым притупленным моральным абсолютом и не вызывает проблемы метафизической, проблемы о Боге? Неужели же Ф. М. Достоевский только моралист, для которого вся проблема – в том, что люди моральных законов Абсолюта не исполняют? Надо полагать, это не вся мысль писателя. Совесть болит не только потому, что вокруг разыгрывается трагедия чужой совести, но потому что в ней самой разыгрывается великая трагедия, потому что совесть (как и любовь, свобода) всегда болит, всегда умирает, это одно из её сущностных свойств. Это открыл Ф. М. Достоевский. С. Г. Семенова указывает именно на это открытие. Не в экзистенциальной проблематике выбора открытие Ф. М.
Достоевского, пишет она в своей фундаментальной работе «Метафизика русской литературы», но в том, что Ф. М. Достоевский в лице своего героя парадоксалиста из «Записок из подполья», этой «увертюры к экзистенциализму», «обнаруживает поразительный разрыв между сознанием добра и зла, между нравственным законом, даже принимаемым и почитаемым, и действием, поведением человека» [153; 265]. Мораль и генезис её, мораль Ф. М. Достоевского во всем её глубоком противоречии, в непростоте своей, – вот что должно интересовать исследователей, а не стандартное противопоставление «мораль Достоевского – антимораль Ницше». Монографии эти были интересны и необходимы нам при переоткрывании себе вновь своей же философии. Сейчас нам требуется глубина религиозного гнозиса (по словам Н. А. Бердяева), творческое осмысление и раскрытие проблем.