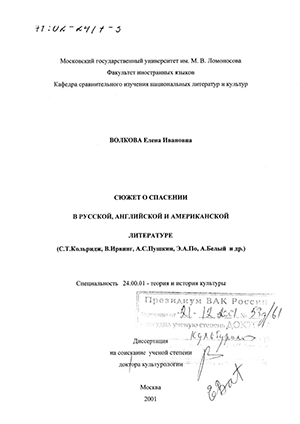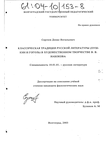Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Христианский метасюжет культуры 34
1. Христианская культура и межкультурная коммуникация 34
2. Проблема целостности культуры в контексте христианского учения о спасении 59
3. Метасюжет о спасении в духовной и художественной литературе 86
4. Парабола сакрального времени как основа метасюжета 116
5. Духовная автономия художественного произведения 125
Глава II. Церковная традиция таинства и святости в сюжете о спасении 148
1 Homo Confitens: Исповедь в Церкви и литературе 151
2. Homo Ludens Christianus: юродивый, шут, идиот в православной традиции святости 163
Глава III. Сюжет о спасителе в русской, английской и американской литературе первой половины XIX века: С.Т.Кольридж ("Сказание о Старом Мореходе"), В.Ирвинг ("Легенда об Арабском Астрологе"), А.С.Пушкин ("Сказка о золотом петушке") 183
1. Образ мудреца в духовной и художественной традиции: Библия, Гомер, Софокл, Шекспир, Новалис, Гофман, Кольридж, Ирвинг, Пушкин 191
2. "Сказание о Старом Мореходе" СТ. Кольриджа как притча о Спасителе 197
3. "Золотой петушок" как символ литературной эпохи: метасюжет о Спасителе в последней сказке А.С.Пушкина 217
4. Лжемессия в русской и американской литературе: "Заколдованный замок" Эдгара По, "Серебряный голубь" Андрея Белого и "Иллюзии" Ричарда Баха 246
Глава ІV. Литература как «спасительная» сила культуры: У.Вордсворт, С.Т.Кольридж, Э.А.По, Андрей Белый 270
1. Литература между Царством Небесным и природным: "Предисловие" У.Вордсворта к сборнику "Лирические баллады" и "Biographia Literaria" С.Т.Кольриджа 286
2. Андрей Белый: имя - символ - миф 297
3. Андрей Белый. Симфония Пятая. Теопоэтическая ("Символизм", "Арабески", "Луг зеленый") 311
4. Концепция "жизнетворчества" в контексте христианской сотериологии 325
5. Культура как преобразовательная деятельность по созданию ценностей 338
6. Религиозные искания Андрея Белого: "Эмблематика смысла" 347
Заключение 357
Примечания 367
Литература 379
- Метасюжет о спасении в духовной и художественной литературе
- Homo Ludens Christianus: юродивый, шут, идиот в православной традиции святости
- "Золотой петушок" как символ литературной эпохи: метасюжет о Спасителе в последней сказке А.С.Пушкина
- Андрей Белый. Симфония Пятая. Теопоэтическая ("Символизм", "Арабески", "Луг зеленый")
Введение к работе
ХРИСТИАНСТВО И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО:
МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ
Символом России стала икона - образ Божий, воплощенный в произведении искусства. Икона как неотъемлемая часть русской христианской духовности есть место встречи сакрального и художественного; понятие иконы как откровения лежит в основе православной концепции искусства. Слово "икона" происходит от греческого глагола "ико", основное значение которого "быть сходным, быть таким же": икона представляет лик Бога, либо образ преображенного человека, восстановившего в себе "образ Божий", поэтому почитание иконы есть выражение веры в спасение как восстановление духовно цельной личности. Иконопочитанием во многом объясняется традиционное уважение русских к образу и к художественному творчеству в целом. Сначала иконописец, а затем художник, поэт или музыкант в России - это всегда избранник Божий, наделенный высоким талантом и высокой ответственностью перед Богом и людьми.
Впервые вопрос о месте художественного творчества в христианстве был поставлен в споре иконоборцев с защитниками икон в 8 веке. Вопрос о том, может ли рукотворный образ воплощать собой
Царствие Небесное, ставит под сомнение духовную оправданность искусства. Иконоборцы считали, что, почитая образ искусства как святыню, люди создают себе кумиров, поклоняются материи-плоти. Запрет на изображение Бога в Ветхом Завете объяснялся тем, что до пришествия Христа никто не видел воплощенного Бога. "Я поклоняюсь не плоти, а Творцу плоти, Который ради меня стал плотью и смиренно прожил во плоти, и через плоть принес мне спасение, и я не перестану почитать Плоть, благодаря которой ко мне пришло спасение"1, - отвечает на обвинения иконоборцев Св. Иоанн Дамаскин. Св.Василий Великий подчеркивает, что в почитании икон "честь, воздаваемая изображению, переходит на первообраз". В день Торжества Православия, когда празднуется восстановление иконопочитания, в храмах звучит молитва:
Неописуемое Слово Отчее, воплотившись от Тебя, Богородица, приняло описуемую форму; вернув осквернившемуся образу человека древнее благообразие. Оно внесло в него Божественную красоту; проповедуя спасение, мы изображаем сие словом и делом.2 (рус.пер. М.Фортунатто)
Таким образом, в центре православной концепции искусства лежат догмат о Боговоплощении Спасителя и догмат о спасении: тема спасения изначально, онтологически, присутствует в христианском понимании искусства. По аналогии с Богом, принявшим образ человека ради его спасения, материальные образы искусства могут в той или иной степени раскрывать черты духовного мира, делать невидимое - видимым, невыразимое - выраженным в краске, звуке и слове, - содействуя тем самым спасению людей. Икона, наряду с храмовой архитектурой, литургической поэзией и музыкой, библейскими историями и притчами создает особый православный мир образов, слитых в единое литургическое целое православного богослужения.
Православная апология художественного творчества стала основой русского отношения к художнику, как к личности, наделенной религиозной миссией в обществе - писатель предстает пророком (Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Мережковский, Белый и др.), проповедником (Гоголь и славянофилы), исповедником веры и человеческой греховности (Достоевский). Пророчество, проповедничество и исповедничество русской литературы, дополняя друг друга, придали национальной культуре особую духовную глубину и сделали ее достойной частью мировой художественной культуры.
На Западе церковное искусство так же имеет богатую историю, но оно никогда не являлось столь обязательной, неотъемлемой частью богослужения, как в православии. Искусство скорее выполняло вспомогательную, символизирующую и декоративную роль, при этом на первый план со временем выдвинулась идея творчества и концепция художника как творца, создающего неповторимый мир образов. Считается, что впервые эта идея возникает у Николая Кузанского, который развивал концепцию творческого сознания как secundus deus, создающего собственный мир по примеру самого Бога. Эту идею позднее развивает Ж.Ж.Скалигер и Джордано Бруно: художник предстает подобием Прометея - "тем, кто благодаря индивидуальному пониманию мира и личностному восприятию духовного, творческого и природного начала (...) сам становится творцом..."3 В 18 веке концепция художника-творца (Schopfer) становится необычайно популярна в Германии, ее развивает Шлейермахер, йенские романтики, она находит философское подтверждение в философии Канта. Личность художника и его творческие преобразующие способности выступают на первый план в западноевропейском романтизме: задачей искусства становится не раскрытие тайны реального, хотя и невидимого духовного мира, а воплощение внутреннего мира художника. Место Царствия Небесного занимает царство внутреннего мира личности. В христианской картине мира духовный мир в идеале не противостоит миру внутреннему, поскольку Христос говорит, что "Царствие Небесное внутри вас". Но кризис веры в христианском мире привел к конфликту между Богом и личностью: художник в романтический, и позднее - в символистский, период выступает в первую очередь как пророк и демиург, чья миссия может осознаваться как создание собственного универсума и даже собственной религии (Блейк, Новалис, Мережковский, Белый). Задача литературоведа в таком случае заключается прежде всего в исследовании личности автора, его биографии и эстетических принципов, - процесса творчества в гораздо большей степени, чем результатов его труда -произведений искусства как таковых.
Об тенденции - традиционный христианский взгляд на искусство как откровение о Царствии Небесном (который получил наиболее полное выражение в православии) и более поздняя концепция искусства как самовыражения личности (которая наиболее ярко представлена в литературных теория западноевропейского романтизма и русского символизма) в течение трех последних столетий находятся в сложном взаимодействии друг с другом. Во второй половине двадцатого века в западном богословии наметилась тенденция к реабилитации искусства как откровения, большую роль в этом процессе сыграли труды немецкого теолога Ганса Урса ван Бальтазара, который рассматривает отделение теологии от эстетики, а сакрального - от прекрасного, как трагическую ошибку западного христианства,4 и теория символа Пауля Тиллиха, согласно которой, "главная функция символа - раскрытие тех уровней реальности, которые скрыты и не могут быть поняты иным образом"5 . Апология искусства в западной теологии смягчила отношение к иконе в протестантских конфессиях во второй половине 20 века и даже привела к растущей сегодня популярности православной иконы на Западе.
Одновременно концепция самовыражения, зародившись на Западе, оказала колоссальное влияние на русскую литературу и достигла апогея развития в теории символизма Андрея Белого.
В данном исследовании концепция искусства как откровения лежит в основе анализа художественных произведений, в то время как взаимодействие двух тенденций в истории литературы рассмотрено при сопоставлении литературных теорий У.Вордсворта, С.Т.Кольриджа и Андрея Белого. В основу данного исследования положен концепт спасения, восходящий к христианскому догмату о спасении, который имеет богатую традицию богословского толкования, опирающуюся на Священное Писание. Приход в мир Спасителя - центральное событие христианской истории - выбрано в качестве названия для библейского метасюжета. "Спасение ( греч. очоттіріа, лат. salus) - в религиозном мировоззрении предельно желательное состояние человека, характеризующееся избавлением от зла - как морального ("порабощение греху"), так и физического (смерти и страдания), полным преодолением смерти и несвободы. Спасение выступает как конечная цель религиозных усилий человека и высшее дарение со стороны Бога"6. В христианстве спасение рассматривается прежде всего как результат жертвенного прихода Бога в мир, призванного спасти человечество от власти греха, и в более широком смысле, как встреча человека с Богом, восстановление прерванной связи между ними, восстановление образа Божьего в человеке, преображение человеческой личности и вселенной. "Спасение -это всеохватывающая трансформация нашего человечества. Это причастие всей человеческой природы силе, радости и славе Божьим; это право с полным и бескомпромиссным реализмом сказать: "Его жизнь -это моя жизнь".7 Концепция спасения включает в себя сущностные для христианства понятия оправдания, искупления, благодати, примирения, прощения, освящения и прославления.8
В истории христианства сложились разные учения о спасении, но ни одно из них не стало догматическим. "Никакого четко сформулированного и общеобязательного учения о спасении в Православии нет. Одно из важных достоинств Православия в том и состоит, что внутри четко определенных вселенскими соборами догматических рамок существует определенное пространство для разномыслия, которым, по словам Апостола, "надлежит быть" (1 Кор.11:19)".9
Учение о спасении неразрывно связано с догматом о Воскресении Иисуса Христа, которое придает смысл жизни и вере в христианской картине мира. Этим обусловлен богатый смыслообразующий потенциал христианского метасюжета о спасении. Спаситель - одно из многочисленных имен Иисуса Христа. В Библии Его также называют Логос, Искупитель, Единосущный Сын, Сын Человеческий, Царь, Судия, Жених, Пастырь, Свет Миру, Путь, Истина и Жизнь, и многими другими именами.10 Сокращенная форма от Спасителя - Спас, вошла в названия русских православных праздников, икон и храмов: Спас Нерукотворный, Спас в силах, Спас Недреманное Око, рублевский Спас, Спас-на-полотне, Спас на крови. Медовый и Яблочный Спасы (Происхождение Честных Даров Древа Господня и Преображение) приходятся на время созревания плодов, что символизирует спасение как итог, плод человеческой жизни.
Идея спасения косвенным образом пронизывает многие аспекты светской культуры: ключевые для любой культуры, "волшебные слова" СПАСИБО и ПОЖАЛУЙСТА, которые чаще всего ежедневно произносятся людьми, в русском языке ни что иное как слова-образы спасения: СПАСИ ВАС БОГ - ПОЖАЛУЙСТА. Слово благодарности -"спасибо" - включает в себя молитву о спасении души благодетеля, прежде в русском языке были глаголы-синонимы "спасибить" и "поспасать". Человек обращается к Богу с просьбой отблагодарить благодетеля и просит для него самой высокой христианской награды - спасения души, дарования вечной жизни в Боге. Добродеятель же, произнося "пожалуйста" ("пожалуйста, спаси мя Боже"), присоединяется к молитве о собственном спасении. Слово "пожалуйста", кроме того, означает дарование, награду и приглашение, а потому само по себе символизирует концепт спасения как Божьего дара, открывающего врата рая для оправданных, спасенных Богом. Глагол "спасаться" иногда означает "молиться" и в молитве чаще входит в сочетания "спаси и помилуй" и "спаси и сохрани", что вводит в концепт спасения идею Божьего милосердия, любви и покровительства. В русской церковной среде восстановили первоначальное полное значение слова "спасибо" и вместо "спасибо - пожалуйста" говорят "Спаси Вас Господи" (в старообрядческой среде - "Спаси Христос"), на что отвечают: "Во славу Божью".
Нашу жизнь вне Церкви окружают многие словосочетания сотериологического происхождения: служба спасения, SOS (спасите наши души), скорая помощь, спасательный круг, спасательная лодка, "упаси Бог", "спасительное средство", "спасти положение", "вольному воля, спасенному рай", "без терпенья нет спасенья" и др. Кроме того, практически все формы человеческой деятельности направлены на поддержание жизненных сил человека, на спасение его либо от смерти, либо от деградации, как пути к смерти: медицина призвана спасать тело, образование - интеллект, Церковь - душу, культорология - культуру и т.д. Поскольку христианское понимание спасения связано с воскресением Христовым, с победой Спасителя над смертью и дарованием людям жизни вечной, то в этом смысле вся жизнь человеческая проходит в сложном противостоянии смерти и спасения от нее.
Светское понимание спасение существенно отличается от религиозного: в светской культуре речь идет преимущественно о спасении "внешнего человека" от внешних тяжелых обстоятельств (природных катаклизмов, болезней, нищеты, бесправия и т.п.), в то время как христианин стремится спасти "внутреннего человека" - душу, от внутренних катастроф и болезней ( от власти греха, богооставленности, безволия, тоски и пр.). "Фантастический и нетерпеливый человек жаждет спасения пока лишь преимущественно от явлений внешних, - замечает Достоевский по поводу байронического характера в литературе, - (...) и никогда-то он не поймет, что правда прежде всего внутри его самого...".11 Сюжет о спасении человечества лежит в основе Священного Писания, а потому может быть определен как христианский метасюжет культуры. Спасение представлено в эсхатологической перспективе, поскольку окончательное преображение человека и мира совершится после Второго Пришествия Христа, когда Бог воскресит людей в преображенном виде и сотворит "новое небо" и "новую землю". Поэтому в концепции спасения особое значение приобретает время и событийная последовательность евангельских книг. Показательно, что иконографический канон обычно воспроизводит библейские события в хронологической последовательности, разворачивая историю человечества на стенах храма и иконостаса как последовательный процесс спасения - от сотворения мира до Второго Пришествия и Страшного Суда."...История, то есть движение и процесс, важна, так как Христос явился в наш мир во времени, изменив отношения между человеком и Богом и открыв человеку путь к истинному общению с Богом. Христос облекся естеством и тем самым открыл каждому из нас возможность единства с Собой через таинства. Наша жизнь в истории обращена в будущее и состоит в осуществлении всех возможностей, данных нам Богом во Христе для достижения спасения себя и всего творения во Втором Пришествии". Пронизывая собой многие уровни культуры христианского мира, сюжет о спасении косвенным образом находит воплощение и в художественной литературе, как метасюжет и одновременно фабульный подтекст произведения. Выявление метасюжета о спасении в художественном тексте является одной из задач современной христианской герменевтики, науки об интерпретации художественного текста с целью выявления его смысла, познания истины, активно разбивающейся на Западе и в России. Сопоставительное изучение тенденций в западной и отечественной традиций художественного и теоретического освоения христианского метасюжета составляет основу содержания данного диссертационного исследования, цель которого: определить основные принципы христианского подхода к сопоставительному изучению явлений литературы и культуры; обосновать и рассмотреть понятие "христианского метасюжета культуры" в его связи с догматом о спасении, с библейским сюжетом и с сакральным календарем; ввести и обосновать понятие "сюжета о спасении" как ценностного сюжета в литературе, опосредованно преломляющегося в структуре и художественной ткани литературного сюжета; рассмотреть различные аспекты догмата о спасении в их проекции на такие проблемы современной культурологии, как взаимодействие христианства и культуры, понятие "христианской культуры"; духовные аспекты межкультурной коммуникации и компаративистики; целостность и ценность; взаимодействие культурологии и литературоведения; междисциплинарный характер культурологии; телеология культурологии; ввести понятия теопоэтики и теокультурологии; ввести и обосновать понятие "духовной автономии художественного произведения"; рассмотреть преемственность художественной литературы церковным традициям святости и таинства на примере традиций покаяния и юродства во Христе; выявить связь между христианским учением о сонесении креста и катарсисом; выявить "сюжет о спасении" в ряде художественных произведений русской, английской и американской литературы, в первую очередь - в "Сказании о Старом Мореходе" С.Т.Кольриджа и в "Сказке о золотом петушке" А.С.Пушкина; выявить особенности трансформации сюжета в зависимости от национального и исторического контекста; рассмотреть "сюжет о спасении" в истории теоретической мысли о сущности и духовной функции литературы и культуры (У.Вордсворт - С.Т.Кольридж - Э.А.По - А.Белый); исследовать художественный и теоретический мир Андрея Белого сквозь призму концепции литературы как "спасительной" силы культуры в ее проекции на закономерности духовной ориентации литературы в 20 веке; сформулировать перспективы исследования.
В задачу исследования не входит богословский анализ христианского учения о спасении: сотериологические аспекты христианства представлены имплицитно, так как они составляют ценностную основу, или метасюжет, данной работы, и эксплицитно, в том случае, когда они имеют прямое отношение к рассматриваемым проблемам и сюжетам.
Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы.. В первой главе "Христианский метасюжет культуры" сюжет о спасении рассмотрен в его актуализации на разных уровнях культуры и в его связи с различными проблемами современной культурологии и литературоведения. Христианский подход к изучению культуры ставит вопрос об оправданности такого понятия, как "христианская культура" и границах ее функционирования. Сопоставительный же характер работы вызывает необходимость в христианском осмыслении понятия "межкультурная коммуникация", пути к которому намечены в первом параграфе "Христианская культура и межкультурная коммуникация". Христианской картине мира органично присуща целостность - качество онтологическое для культуры в целом, поскольку культура призвана играть объединяющую роль в обществе. Во втором параграфе "Проблема целостности культуры в контексте христианского учения о спасении" предложен лингво-культурологический и религиозный анализ термина и понятия целостности культуры, который выделяет сотериологическое понимание целостности, ценности и культурологии в целом, как службы спасения культуры и как области, интегрирующей в себе различные сферы деятельности и познания.
Выявлению связи метасюжета с литературным сюжетом посвящен параграф "Метасюжет о спасении в художественной литературе", в котором рассмотрено учение о спасении как процессе, разворачивающемся во времени, взаимодействие сюжетности и духовности литературы, структурное соответствие литературного сюжета библейскому, концепция "сюжета о потерянном рае" и эсхатологического сюжета. Исследование сюжета опирается на категорию художественного времени: связь христианского метасюжета с сакральным временем в культуре и темпоральной параболой в художественной литературе рассмотрена в параграфе "Парабола сакрального времени как основа метасюжета", в котором основное внимание уделено особому типу времени-вечности, сложившемуся в христианской традиции и в наибольшей степени сохранившемуся сегодня в жизни православной Церкви. Вневременной характер времени в христианстве обуславливает универсальную природу христианского метода в литературоведении, который приложим и к интерпретации произведений дохристианской эпохи, поскольку в природе искусства изначально заложена способность раскрывать истину о духовной жизни человека. Параграф "Духовная автономия художественного произведения" подчеркивает иконическую природу искусства и смыслообразующий приоритет художественного произведения над его автором, творческий замысел которого может порой вступать в противоречие с духовным содержанием созданных им образов. Духовная содержательность художественного произведения также рассмотрена в связи с проблемой религиозной догматики: догматы христианства представлены как основа христианской герменевтики, определяющие духовную интерпретацию текста, но никоим образом не предполагающие иллюстративную роль литературы по отношению к церковным догматам. Для данной работы важен вопрошающий характер художественной литературы, трагическая теодицея художественной проблематики, которая часто не получает прямого ответа, а лишь указует на него или находит разрешение в "спасительном" катарсисе, рассмотренном в контексте христианской сотериологической концепции сонесения креста.
Вторая глава "Церковная традиция таинства и святости в счюжете о спасении" посвящена анализу преемственности художественной литературы формам церковной жизни и христианской святости как пути и цели спасения. Из необъятного многообразия материала выбраны две темы: "Homo Confitens: Исповедь в Церкви и литературе", поскольку из всех церковных таинств именно исповедь стала вербальным проводником непосредственного жизненного опыта людей в литургическую жизнь Церкви, и "Homo Ludens Christianus: юродивый, шут, идиот в контексте православной традиции святости", поскольку русская традиция юродства и английская традиция шутовства помогают раскрыть метафорический игровой характер художественного слова, его неоднозначность и скрытую парадоксальность. Сопоставление церковного таинства покаяния с литературной исповедью, а православного юродивого - с литературными шутами и "идиотами" указывают как на преемственность художественной литературы ее духовному сакральному прошлому, так и на существенное отличие от него.
Третья глава "Сюжет о спасителе в русской, английской и американской литературе первой половины 19 века: С.Т.Кольридж (Сказание о Старом Мореходе), В.Ирвинг (Легенда об Арабском Астрологе), А.Пушкин (Сказка о золотом петушке)" включает в себя многоуровневый анализ трех литературных текстов в их проекции на евангельский сюжет о приходе Спасителя в мир. При этом контактный случай литературного заимствования подчеркивает принципиальное отличие картин мира, воплощенных в художественном произведении (В.Ирвинг и А.С.Пушкин), а случай типологического параллелизма удивляет сходством мировоззрений, которое можно назвать встречей Кольриджа и Пушкина во Христе. Баллада Кольриджа и сказка Пушкина рассмотрены как притчевые повествования о жизненном пути человека и о трагической неспособности людей принять Бога и довериться Ему ("Сказание о Старом Мореходе" СТ. Кольриджа как притча о Спасителе." и "Золотой петушок" как символ литературной эпохи: метасюжет о Спасителе в последней сказке А.С.Пушкина.). Загадочные мистические повествования обретают смысловую целостность благодаря метасюжетному библейскому ключу. Литературоведческому анализу предшествует историко-литературный очерк "Образ мудреца в духовной и художественной традиции: Библия, Гомер, Софокл, Шекспир, Новалис, Гофман, Кольридж, Ирвинг, Пушкин." В четвертом параграфе "Лжемессия в русской и американской литературе: "Заколдованный замок" Эдгара По, "Серебряный голубь" Андрея Белого и "Иллюзии" Ричарда Баха" представлена инверсия "сюжета о спасении" на материале двух произведения, характерных для русской интерпретации образа антихриста в Серебряном веке и в современной американской массовой культуре.
Четвертая глава "Литература как «спасительная» сила культуры: У.Вордсворт, С.Т.Кольридж, Э.А.По, Андрей Белый." посвящена сопоставительному анализу трех литературных теорий, который призван выявить "сюжет о спасении" в истории литературно- теоретической мысли в ее движении от эстетики откровения (Кольридж), к "естественной эстетике" (Вордсворт), и далее - к мистической эстетики самовыражения Андрея Белого. Творческая личность и эстетические взгляды Эдгара Аллана По рассмотрены как типологическое звено между эпохой романтизма и символизма В первом параграфе "Литература между Царствием Небесным и природным: "Предисловие" У.Вордсворта к сборнику "Лирические баллады" и "Biographia Literaria" С.Т.Кольриджа, теория воображения Кольриджа, которая глубоко укоренена в христианской картине мира, рассмотрена сквозь призму его критики в адрес эстетических взглядов Вордсворта, вырастающих из "естественной религии" Руссо и культа природы, который просветители противопоставили христианской концепции Царствия Небесного. Раздел "Андрей Белый: имя - символ - миф"посвящен анализу мифопоэтики литературного псевдонима Б.Н.Бугаева как антропонимического символа литературной теории "спасения России" и духа Серебряного века в целом. В третьем параграфе "Андрей Белый. Симфония Пятая. Теопоэтическая. ("Символизм", "Арабески", "Луг зеленый")" композиция и стилистическое многоголосие теоретической трилогии Белого исследованы, во-первых, как проявление музыкального полифонического начала в эстетике символизма, и во-вторых, как актуализация принципа поступенчатого нисхождения духовного начала. Разделы "Концепция "жизнетворчества" в контексте христианской сотериологии" и "Культура как преобразовательная деятельность по созданию ценностей" посвящены рассмотрению смысла жизни как творческого преображения личности и смысла культуры как творческого преображения общества. Оба постулата культурологической концепции Белого вырастают их христианской концепции спасения и преображения мира, но идею духовного преображения заменяют на идею "жизнетворчества". В последнем параграфе "Религиозные искания
Андрея Белого: "Эмблематика смысла" теория символизма Андрея Белого представлена как попытка религиозного мифотворчества и богоискательства, объединяющая в себе православную иконику, формально-логический метод кантианства и религиозную эклектику теософии. Мифотворчествоы Белого очевидно выходит за границы христианского мировоззрения, заменяя личностного Бога безличностным Символом, а Священное Писание - художественным текстом.
Данная работа основана на принципе христианского "единства в многообразии"/"сходства в отличии" (термин Кольриджа "Unity in Multeity"), который связан со сквозной для диссертации темой целостности культуры и убеждением в том. что глубинный религиозный источник культуры питает национальное своеобразие народа и одновременно объединяет его с другими культурами. При этом связующей нитью повествования является не материал (который подчеркнуто разнороден, поскольку призван подтвердить всеобъемлющий характер христианского метасюжета о спасении), а стремление выявить тему спасения как ценностную основу христианской культуры, по-разному проявляющуюся в том или ином историческом и национальном контексте. В широком смысле, эта работа написана на тему "Христианство, культура и литература: проблемы взаимодействия"; в основу ее положено понятие транскультурного метасюжета о спасении, который рассмотрен одновременно как культуральный, литературный и литературоведческий сюжет на материале творчества русских и англоамериканских писателей эпохи Романтизма и Символизма. Таким образом, сопоставительный анализ вбирает в себя как национальный, так и исторический аспекты, рассмотренные по принципу типологического сравнения, укорененного в христианском метасюжете культуры. Методологической основой работы послужили учения Отцов Церкви св. Иринея Лионского, св. Григория Нисского, Блаженного
Августина, св. Иоанна Дамаскина и др. о спасении, труды философов русского религиозного возрождения (Вл.Соловьева, С.Булгакова, Н.Бердяева, П.Флоренского, Е.Трубецкого и др.), "богословие встречи" митр. Антония Сурожского, сотериология епископа Каллиста Диоклийского, понятие хронотопа встречи М.М.Бахтина, концепция творческого метода и художественной системы И.Ф.Волкова, а также теоретические исследования англо-американских теологов, литературоведов и культурологов последних 50 лет в сфере "религия, литература и культура" (Н.Фрая, Дж.Стайнера, Д.Джаспера, Дж.Милбанка, Ф.Кермоуда, Н.А.Скотта, Р.Алтера, Дж.Р.Уотсона, Г.Уорда, Э.Лаута, С.Мэссона и др.) Материал исследования также в определенной степени сыграл роль методологического ориентира, поскольку в работе проводится сопоставление трех теоретических концепций взаимодействия духовного и эстетического начала в творчестве - теории воображения Кольриджа, "естественной эстетики" У.Вордсворта и теории символизма Андрея Белого. Одной из задач исследования было ввести английскую традицию религиозного литературоведения и культурологии в современный научный оборот.
Конкретным литературным материалом для исследования послужили "Исповедь" Блаженного Августина, древнерусские летописи и жития святых, "Повесть о Горе-Злочастии", художественные произведения Гомера, Софокла, Данте, Дж.Чосера, У.Шекспира, Дж.Свифта, Дж.Г.Байрона, С.Т.Кольриджа, У.Вордсворта, В.Ирвинга, Р. Шатобриана, Б.Констана, А.С. Пушкина, Ф.М.Достоевского, Г.Т.А. Гофмана, Э.А.По, Дж.Стейнбека, Р.Баха, А.П.Чехова, А.Блока и Андрея Белого, а также "Предисловие" Вордсворта к "Лирическим балладам", "Biographia Literaria" Кольриджа и теоретическая трилогия Андрея Белого "Символизм", "Арабески", "Луг зеленый". В центре внимания исследователя - русско-англо-американский литературный треугольник, представленный в духовном и диахроническом компаративном аспекте.
Актуальность исследования обусловлена десятилетием духовного христианского возрождения, которое настоятельно требует научного осмысления проблемы взаимодействия христианства, литературы и культуры. Межкультурный сопоставительный характер работы отвечает современной потребности осознать единые духовные корни русской и западноевропейской культуры, переосмыслить историю литературы с христианской точки зрения и осознать национально-историческое своеобразие отечественной духовности в ее сопоставлении с западноевропейской традицией.
Новизна исследования. В диссертации впервые предпринята попытка осмысления явлений культуры и литературы сквозь призму христианского учения о спасении; впервые рассмотрены понятия христианской культуры и христианского метасюжета культуры в их связи с категориями целостности и ценности. В работе предложен и теоретически обоснован христианский метод исследования явлений литературы и культуры, который положен в основу изучения принципов межкультурной коммуникации, взаимосвязи сакральной (церковной) и художественной культуры, культурологии и литературоведения, структуры литературного сюжета, а также истории теоретической мысли англо-американского романтизма и русского символизма в ее обращении к духовно-эстетической проблематике культуры.
Кроме того, в исследовании впервые предпринята попытка литературоведческого анализа целого ряда художественных произведений античной, русской и англо-американской литературы (в первую очередь "Сказки о золотом петушке" Пушкина и "Сказания о Старом Мореходе" Кольриджа) сквозь призму христианского метасюжета о спасении, что позволило увидеть новые пласты смысла художественных текстов и выявить внутреннее духовное единство русской и западноевропейской литературы. В научный оборот введено понятие "сюжета о спасении" и "ценностного сюжета" как духовно-нравственного смыслового событийного ряда в художественном произведении.
В диссертации впервые представлен и осмыслен большой пласт англоязычной религиозной культурологии и литературоведения в его проекции на современные проблемы и задачи науки.
Диссертация прошла апробацию на многочисленных международных и общероссийских конференциях по христианству, культуре и литературе, среди которых:
Творчество Александра Блока и Андрея Белого: К 110-летию со дня рождения. - М, ИМЛИ им М.Горького,, октябрь 1990 г.
Россия и Запад: диалог культур. - М., ф-т иностранных языков МГУ, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 гг.
Сергиевские чтения. - МГУ, 1997, 1998 гг.
Рождественские чтения. - МГУ. январь 2000 г.
Пасхальные чтения. - МГУ, май 2000 г. Religion and Literature. - Москва, ВГБИЛ, январь, 1999. Life Conquers Death: Explorations on English and Russian Literature. - Durham University, UK, March, 2000. Cultural Crossroads. - 3rd International Conference on Cultural Studies. - Birmingham, June 2000. Back to Roots: Explorations in English-speaking and Russian Literature. - Москва, МГУ, декабрь, 2000.
10. Христианство и американская культура. - МГУ, январь 2001.
Исследование выросло из целого ряда лекционных курсов, который автор читал в 1989-2001 гг. на факультете журналистике и факультете иностранных языков МГУ им.М.В.Ломоносова, среди них: "Европейский романтизм и русский символизм", "Вечные сюжеты и образы мировой культуры", "Россия и Америка: параллели и контрасты", "История английской и американской литературы", "Язык и ценности христианской культуры", "Masterpieces of English and American Literature", "Face to Face: Character Typology in Russian and American Literature", "Golden, Silver, and Steel Age of Russian Literature". Педагогические истоки исследования определяют его практическую значимость.
В наши дни русская культура возвращается на духовные круги своя, все увереннее звучат голоса писателей-священников, переиздается забытое наследие Святых Отцов Церкви, оживает богословская мысль, заполняются страницы церковной истории XX века. Русская Церковь стремится после долгих лет вынужденного молчания как можно полнее рассказать о своих подвигах и страданиях, донести до людей слово Божье и по возможности раскрыть им правду о русской церковной жизни, чудом сохранившейся во времена гонений и запретов. Пока еще не написана полная история Русской Церкви XX века, остается много спорных вопросов и темных пятен в истории взаимоотношений Церкви и советского государства, идут богословские и политические баталии внутри церковных стен.
Христианство возвращается в российские школы, университеты, конференц-залы и научные труды. В литературоведении в последнее десятилетие сложилось целое духовно-аналитическое движение, направленное на выявление христианских ценностей, мотивов и образов в художественной литературе. В рамках этого направления идет главным образом широкая практическая работа по выявлению и описанию литературного материала, имеющего непосредственное отношение к русской православной традиции. В то же время в трудах С.С. Аверинцева, Д.С.Лихачева, В.Н.Топорова, А.Н.Горбунова, И.А.Есаулова,
В.А.Котельникова, В.Воропаева, В.Непомнящего, Вяч. Океанского и других ученых можно увидеть основу для будущей теории религиозного литературоведения и культурологии. Наиболее плодотворными оказались исследования творчества Пушкина, Гоголя и Достоевского, рассматривающие проблемы духовного становления писателей, их стремление художественно освоить и воплотить молитвенную и агиографическую традицию христианства, увидеть жизнь человека как путь к личному спасению души и преобразованию России.14 Публикации последних лет говорят об активном развитии нового религиозного направления в России, которое постепенно набирает силу и становится частью более широкого христианского направления в мировой гуманитарной науке.
Западная религиозная мысль в этой области развивалась в гораздо более благоприятных обстоятельствах (поскольку Западная Европа не испытала в 20 веке прямых гонений на христианство), но, к сожалению, пока не была освоена отечественной наукой в должной степени. На Западе поворот к религиозному прочтению литературы обозначился после войны выходом в свет книги Эриха Ауэрбаха "Мимезис" (1946). Ауэрбах сравнивает эпос Гомера с книгами Ветхого Завета и доказывает, что Библия оказала не меньшее влияние на художественную литературу Запада, чем античная классика. "Мимезис" положил начало современной духовно-художественной компаративистике, сопоставлению религиозных и художественных текстов с точки зрения стиля, концепции времени, типа характера и сюжета. "Мимезис" написан Ауэрбахом во время Второй мировой войны в Турции, где в отсутствии библиотек ему пришлось довольствоваться собственными знаниями. "Анатомия критицизма" (1957) Нортропа Фрая -второй существенный труд в области изучения христианства, мифологии и литературы, гораздо в большей степени погружен в литературоведческий контекст 50-х годов. Работы Нортропа Фрая, канадского священника и литературоведа, - представляют христианское направление в русле структурализма: он рассматривает отдельный текст и литературу в целом как целостную систему, обладающую единой базовой сюжетикой и поэтикой. Структура литературного "тела" становится объектом анатомии, как раздела литературоведения. Нортроп Фрай многим обязан идеям Г.-Г. Гадамера, П.Рикера, В.Онга и в наибольшей степени - работам Дж.Фразера "Золотая ветвь" и "Фольклор в Ветхом завете", которые стали для Фрая материалом для более глубокого и последовательно религиозного исследования. Фрай стремится обнаружить организующее начало в очень сложных литературных системах - в Библии ("Великий код: Библия и литература", 1981)) и творчестве Уильяма Блейка ("Ужасающая симметрия", 1947), выстраивает схемы сюжетной последовательности и образного параллелизма в Ветхом и Новом Завете, в Библии и в "Божественной комедии", проводит параллели между библейскими и художественными жанровыми формами. Подход Нортропа Фрая - типологический, его "анатомия" - это структурная библио-типология сюжетики и характерологии. Фрай - литературовед, обратившийся к Библии, как к духовной литературной матрице культуры, поэтому название одной из его книг взято из высказывания Блейка "Ветхий и Новый завет - это великий код искусства".
На примере трудов Нортропа Фрая видно, как новая критика, или структурализм, содействовал возрождению интереса к Библии и религиозным аспектам литературы в целом. Во-первых, структурализм отделил и даже изолировал художественное произведение от исторического, биографического и идеологического контекста, углубился в его собственное "автономное" содержание, что закономерно привело такого крупного ученого, как Нортроп Фрай, к поиску универсальной образной системы в целом. Так интерес к проблеме целостности отдельного текста и словесности в целом содействовал развитию духовного направления в науке о литературе. Во-вторых, идея "суверенной автономии текста" вызвала протест у теологов, которые стали подчеркивать религиозные аспекты художественного содержания и тем самым содействовали развитию христианской герменевтики.
Как структурализм, так и христианское направление в литературоведении берет начало в середине 50-х годов в США, где благодаря институту церковных университетов, христианство успешно утверждает себя в академических исследованиях. В то же время оно встречает недоверие и протест со стороны нерелигиозной критики: традиционный набор замечаний в адрес христианского литературоведения включает обвинение в догматизме, дидактизме и односторонней интерпретации художественного текста. Западная научная и богословская традиция преимущественно основана на рациональном аналитическом постижении мира и Бога. Но религиозное литературоведение - это особый сплав науки и религии, рационального и духовного, не поддающегося последовательному научному обоснованию. Этим прежде всего и вызвано неприятие христианской филологии со стороны рационалистической светской науки. В России, с ее богатой традицией апофатического богословия, "умного делания", и большим доверием к тайне бытия, христианский подход к изучению литературы и культуры может обрести более благодатную почву.
Интересно, что развитие христианского литературоведения в 50-60 гг. приходится на период, когда закладываются основы литературной компаративистики. В библейских образах стараются подчеркивать не национально-исторические, а универсальные вечные черты героев, которые могли бы служить архетипической основой для сопоставительных исследований, библейские характеры теряют свою конкретность и становятся символами человечества в целом.16 Параллельное развитие христианского и сравнительного литературоведения вводит религиозные аспекты в компаративистику и тем самым поднимает компаративные исследования до духовной проблематики.
Из США в середине 60-х годов христианское литературоведение приходит в Англию, где его пионерами становятся Джордж Стайнер и Руфь Этчелз, к которым постепенно присоединяются десятки ученых из различных британских университетов. По сведениям постоянно действующей американской организации "Конференция по изучению христианства и литературы" в ее состав входят более тысячи ученых всего мира.
В последние тридцать лет в англо-американской науке развивается встречное движение теологии и литературоведения. Теологи все чаще обращаются к художественной литературе, видя в ней образное познание Бога, а литературоведы обращаются к Библии, раскрывая ее религиозное содержание посредством анализа литературных особенностей текста. Работы Э.Ауэрбаха и Н.Фрая вдохновили целый ряд литературоведов к изучению литературного своеобразия Библии и религиозного своеобразия литературы18. Курс Н.Фрая "Библия как литературный памятник" ("Bible as Literature"), из которого выросла книга "Великий код", был не единственным в Америке 80-х. Курсы "Bible as Literature" в то время постепенно завоевывали свое место в университетских программах19. К изучению Библии все чаще начинают применять методы, выработанные наукой о литературе. В 1987 году в Англии выходит коллективный труд "Литературный указатель к Библии"(Хіїегагу Guide to the Bible), который можно рассматривать как существенный результат в развитии литературоведческой библеистики. Составители данного энциклопедического издания Роберт Алтер и Фрэнк Кермоуд отмечают, что "литературоведение достигло поворотного момента в своем развитии, когда Библия в новом качестве вернулась в литературное поле культуры"20. В центре внимания авторов "Указателя" - поэтика библейских текстов в ее связи с религиозным содержанием Священного Писания. Р.Алтер и Ф.Кермоуд сегодня, пожалуй, самые крупные ученые в области библейской нарратологии. Кермоудом создана оригинальная теория литературного финала, основанная на библейской концепции Апокалипсиса, к которой мы обратимся позднее в разделе о параболе сакрального времени в литературе. Встречный интерес теологов к особенностям библейских повествовательных структур лег в основу нарративной теологии, получившей развитие преимущественно в США и Германии.21
Вторым после "Литературного указателя к Библии" энциклопедическим справочным изданием стал "Словарь библейской традиции в английской литературе" (A Dictionary of the Biblical Tradition in English Literature", 1992), вобравший в себя несколько сотен статей, в которых прослеживается дальнейший путь библейских героев, символов и крылатых выражений в духовной и художественной литературе. Словарь не ограничивается англоязычной литературой, а включает также ссылки на произведения других европейских литератур, на русскую литературу в том числе. Особую ценность представляет библиографический раздел по истории перевода Библии на английский язык и исследованиям религиозных аспектов творчества целого ряда писателей.
Вторым, после Нортропа Фрая, крупным теоретиком в области литературы и религии стал английский теолог Дэвид Джаспер (род. 1951), сын настоятеля Йоркминстерского аббатства. Если Фрай - литературовед, обратившийся к изучению Библии, то Джаспер - теолог, обратившийся к литературе, которому с самого начало важно было установить добрые отношения между теологией и литературой. В 1986 году Дэвид Джаспер открывает в Дюрхамском университете Центр по изучению литературы и теологии, который начинает издавать серию "Литература и религия". Открывая серию публикаций нового центра своей книгой "Исследование литературы и религии: введение" (1989), он пишет: "Эта новая серия заново рассмотрит великие плоды художественного воображения, утверждая, что выявление религиозной жизненной силы гения может быть инструментом серьезного обновления теологии. (...) Богословие нуждается в понимании сущности литературы и в тщательном изучении способов текстуального анализа. Литература же никогда не должна забывать той тайны, которая наполняет ее сердце, тайны, которая не поддается упрощению и в конечном счете находится вне человеческого понимания".22 Для Джаспера важно установить отношения открытого диалога между богословием и литературоведением (в этом он ориентируется на эстетику Ганса Урса ван Бальтазара): "Во-первых, необходимо заново открыть для себя богословие для того, чтобы по новому взглянуть на философию, литературу и культуру. Во-вторых, само богословие должно быть готово к обогащению во взаимодействии с философией, литературоведением и культурологией"23. Устанавливая сложные опосредованные отношения между религией и литературой, Джаспер верит, что в шедеврах художественной литературы очевидно "таинственное действие Божественной благодати, с которой мы взаимодействуем, как автор и читатель, ради нашего духовного спасения. Ее пределы - конечные Истина и Добро, которые мы признаем, но о которых имеем лишь смутное преставление"24. Теория Джаспера активно развивается сегодня, можно говорить об определенной школе Джаспера, хотя официально таковой не существует, но влияние его идей на современные исследования очевидны. Для данной работы идеи Джаспера имеют особое значение еще и потому, что ему принадлежит, пожалуй, самое глубокое исследование религиозной эстетики Кольриджа ("Кольридж - поэт и религиозный мыслитель", 1985), многие идеи которого он развивает и сегодня.
Центр Джаспера в Дюрхаме просуществовал до 1991 года, а затем переместился в университет г. Глазго, где работает и сегодня, но с недавних пор он стал межрелигиозным центром и включает в себя не только христианство, но и буддизм, иудаизм и другие религии. В 1992 году, спустя пять лет после открытия центра и журнала "Литература и теология: журнал междисциплинарных исследований в литературной теории и критике", Джаспер отмечает, что в университетах по-прежнему не существует такой дисциплины как "Литература и теология", да и не должно, на его взгляд, существовать, поскольку религиозный подход к литературе должен быть свободен от дисциплинарной ограниченности, находить духовный смысл в новых теориях и смежных дисциплинах, должен быть междисциплинарной сферой вопрошания последних вопросов бытия (в основе которых лежит теодицея) не только в литературе, но и шире - в искусстве и культуре, и не бояться при этом обвинения во вторжении на чужую территорию. Сам Джаспер в последнее время все чаще обращается к живописи и кинематографу: "Я всегда считал, что эта новая междисциплинарная сфера призвана не заменить какую-либо из уже сложившихся дисциплин, как, например, теология, или литературоведение, но должна стать чем-то "неуместным", что обнимает собой многие различные сферы культуры и привлекает внимание к неожиданным связям между ними. Круг ее может быть даже шире, и не нужно бояться вопроса: когда ты перестанешь вторгаться на чужую территорию - в музыку, историю искусства, политическую историю - на которые у тебя нет "профессионального" права голоса и где ты можешь показаться круглым идиотом?"25 При этом для Джаспера важно, что религиозный подход к литературе должен сохранять способность погружаться в образную ткань художественного произведения, ценить художественную деталь и стилистический нюанс, распространяясь таким образом не только вширь, но и вглубь мира образов.
Вопрос о "вторжении на чужую территорию" возникает сегодня не только по отношению к религиозному литературоведению, но и по отношению к культурологии в целом. (Этот же вопрос актуален и для естественных наук, где в последние десятилетия 20 в. возникло много междисциплинарных институтов.) История формирования культурологического объекта исследования на Западе и в России может пролить свет на эту проблему. На Западе, образно говоря, культурология пришла в академическую аудиторию тогда, когда все стулья были уже заняты, и ей... пришлось сесть на пол, то есть ей досталось широкое низкое поле культуры - сфера массового сознания и социального бытования: кулинарные традиции, быт, интерьер, спорт, транспорт, досуг, обычаи и нравы, средства информации (телевидение, газеты и журналы), попкультура и т.д. и т.п. Нет ничего странного в том, чтобы сидеть на полу в английской или американской университетской аудитории, это выглядит очень демократично: в основу понятия культуры на Западе и положен принцип демократизма, заимствованный из политической жизни. Культурой в первую очередь называется то, что характерно для общества в целом, что получило широкое распространение в современной жизни. Английские культурологи в качестве предельно широкого термина предпочитают слово «society» слову «culture». Для определения культуры применяется главным образом горизонтальный и исторический принцип (духовная и эстетическая вертикаль культуры учитывается в гораздо меньшей степени): предполагается, что культурное поле должно широко простираться перед глазами современного человека. Характерно, что ни на одной из трех конференций «Международные перекрестки культурологии», организованных Международной ассоциацией культурологов, не нашлось места для секции по литературе, а если литература и присутствовала как объект исследования, то только в виде массовой литературы, доступной широкому читателю. Принцип демократизма в отборе научного материала приводит к тому, что объектом исследования в культурологии на Западе становится преимущественно сфера средств массовой информации и попкультуры. Культура в результате часто оборачивается своей малокультурной стороной, объект исследования (культура) в конечном итоге опровергает свое собственное название и предназначение. При этом теория культуры развивается в заведомо элитарном направлении: те, кто смотрят изучаемые культурологами мыльные оперы, никогда не смогут понять теоретических концепций массовой культуры. Разрыв между объектом исследования и его теоретическим осмыслением в современных Cultural Studies колоссален.
Устойчивые традиции высокой культуры привели к тому, что культурология в России старается охватить и высокие сферы культуры: религию, литературу, музыку и изобразительное искусство. Символом русской культуры в мире стали златоглавый храм и икона, а в 19 веке Россию прославила художественная литература, принесла ей мировую известность, сделала русских объектом почитания и подражания. Русская литература 19-начала 20 века вобрала в себя многие сферы культуры: религию, философию, политику, музыку, живопись, журналистику и даже экономику. Литература играла культурообразующую роль в русской жизни, представляя собой не просто часть национальной культуры, но широкое литературное поле культуры в целом. Поэтому в России невозможно отделить литературу от культуры, а литературоведение - от культурологии. Показательно, что на Западе теория культуры в основном выросла из теории литературы и языка - из концепций Р.Барта, Ж. Дерриды, П. Рикера и др.
Религиозный подход к литературе и культуре позволяет поднять позицию исследователя над многими сферами культуры и тем самым поднять изучение массового культурного пласта по вертикали духовной проблематики. Пафос религиозного осмысления всех уровней культуры лег в основу недавно возникшего в Великобритании движения "радикальных ортодоксов", которое ставит своей целью анализ проблем современной культуры с христианской точки зрения. "Такой подход, -утверждают составители программного сборника статей "Радикальные ортодоксы: новое течение в богословии" (Radical Orthodoxy: a New Theology", 1999) , - не предполагает возвращения в прошлое, напротив, мы намерены рассмотреть те аспекты гуманитарного знания, которые были наиболее продуктивно разработаны светской наукой: эстетику, политику, пол, плоть, личность, материю, пространство - и переосмыслить их с христианской точки зрения, то есть в их связи со Святой Троицей, Христологией и Евхаристией"27.
Английское слово "orthodox" можно перевести как "традиционный", "ортодоксальный" и как "православный"28, но слово "православный" в данном случае ввело бы читателя в заблуждение, поскольку радикальные ортодоксы принадлежат к разным христианским конфессиям и понимают слово «ортодоксальный» в более широком смысле, как "преемственность и верность христианскому символу веры и наследию Святых Отцов Церкви и в смысле восстановления более богатого и последовательного представления о христианстве, чем то, что сложилось в позднее Средневековье как искажение целостного христианского наследия" . Свою задачу радикальные ортодоксы видят в выходе теологии на широкое поле светской культуры. Ортодоксы выступают против автономии богословия, "ограничивающегося проповедью Слова Божьего". Джон Милбанк утверждает, от имени радикальных ортодоксов, что весь мир может быть объектом богословского изучения, поскольку этот мир создан Богом и Его высшая воля так или иначе явлена во всем бытии, независимо от того как люди относятся к своему Создателю. Радикальные ортодоксы не желают отдавать гуманитарное знание во власть нео-языческой культуре, они хотят наполнить все сферы знания христианским мировоззрением, основанном на Библии и учении Отцов Церкви. Одновременно новая школа выступает против секуляризации богословия, которое, на их взгляд, должно двигаться "вперед к Отцам Церкви", стремясь охватить всех и вся, поскольку во всех и во всем Христос. Это богословское движение к истокам, вглубь христианства и одновременно вширь светского поля культуры можно рассматривать как трехмерное расширение сотериологической миссии богословия. Наставление, данное Иисусом Христом апостолам "рцыте все языцы", ортодоксы понимают как "рцыте все науки", то есть благовествуйте во всех областях знания.
Таким образом, сегодня и на Западе и в России возрождается призыв Ломоносова развивать науку как родную сестру религии. Однако очевидно, что у новой теокультурологии на Западе существуют два серьезных оппонента: светская гуманитарная наука и современная западная теология, исказившая, на взгляд ортодоксов, основы христианства. Поэтому в их статьях большое место уделено полемике как с теологией, так и с философией Нового времени. Джон Милбанк в статье "Богословская критика философии" раскрывает гносеологическую концепцию нового течения. "Быть человеком, - пишет он, - означает прежде всего видеть колоссальную глубину смысла во всех явлениях мира"30. Филипп Блонд в статье "Восприятие: от современной живописи к видению Христа" вводит понятие богословского реализма, в соответствии с которым реальность существует в ее связи с Богом и "говорит" о Боге: "Имеющий глаза, да увидит." Все живые существа окутаны дымкой невидимого, которое они могут либо признавать, либо отвергать. Независимо от отношения к невидимому, именно оно является источником жизни. Если же человек не видит божественного содержания мира, тогда реальность для него вовсе лишена смысла или является лишь пустым полем приложения его собственных сил. Как только Христос сделал невидимого Бога видимым, так и вера в Христа делает невидимое зримым и наполняет жизнь смыслом". 31 (Слова Блонда перекликаются с пастернаковскими «жизнь символична, потому что она значительна».)
Для радикально-ортодоксальной теории истинное знание включает в себя момент откровения, как проявления бесконечного в конечном. Джон Милбанк опирается на учение Фомы Аквинского, который видел в откровении средство просвещения интеллекта, и на взгляды Отцов Церкви: "Противопоставление разума откровению не имеет никакого отношения к христианству, оно является проблемой секуляризованной науки. Отцы Церкви рассматривали разум и веру как органичные составляющие более глубокого процесса причастности человека Божественной Мудрости: для того, чтобы разумно рассуждать, человек уже должен быть просвещен Богом, откровение же, по отношению к разуму, представляет более высокую степень Божественного просвещения" . При этом Милбанк подчеркивает, что познание мира в вере, соединение разума с откровением находится в неразрывной глубокой взаимосвязи с процессом спасения человеческой души . Следовательно процесс познания в вере предстает как путь к очищению и спасению человека.
Группа радикальных ортодоксов представляет лишь часть многообразного научного поля, которое можно определить как "Христианство, литература и культура". Как западная христианская культура в целом, эта научная сфера развивается в диалоге между консервативным и либеральным направлениями, что часто определяется конфессиональной принадлежностью ученого.34 Для данного исследования важно, что внутри англо-американской теокультурологии сложилось определенная тенденция к освоению наследия Святых Отцов, к возрождению и популяризации традиционного христианского мировоззрения, которое становится основой для освоения широкого пространства и острых проблем современной культуры, а также содействует возвращению герменевтики откровения - интерпретации художественного произведения в его связи с духовными истинами христианства.
Метасюжет о спасении в духовной и художественной литературе
Читателя в первую очередь интересует сюжет книги: событийность, динамичность, развитие действия. С момента открытия книги читатель оказывается в плену особого времени, оно движется стремительно, завораживает внимание, держит человека в своей власти.... Отчего время чтения столь привлекательно, откуда это чувство иного мира, в который мы открываем дверь, как только открываем книгу? Книга и формой своей напоминает дверь.... Время разворачивается по спирали сюжета, оно вдруг останавливается в описании пейзажа или портрета, а нетерпеливый читатель торопит: скорее, скорее узнать, что же будет дальше.... Волей-неволей с самой первой страницы книги мы устремлены к ее концу, предчувствуем его, пытаемся предвидеть развязку, а самые нетерпеливые из нас сразу открывают последнюю страницу. Они считают, что главное в сюжете - это его начало и конец, завязка и развязка, Альфа и Омега. В пародийной форме эта закономерность представлена в анекдоте о Василии Ивановиче-писателе. Открывает Петька его книгу и читает: « Сел на коня Василий Иванович и выехал со двора: цок-цок-цок...». Наугад открывает книгу посредине и видит все те же «цок-цок-цок», в недоумении смотрит на последнюю страницу : «Василий Иванович вернулся домой». Конец оказался возвращением к началу.
В сюжетности литературы ее большое преимущество перед другими видами искусства, Аристотель называл фабулу основой и душой трагедии. Но любое преимущество в своем безмерном развитии оборачивается опасностью. Сюжетность, возомнив себя главной ценностью литературы, решила жить независимо от художественности. Результатом стала обширная массовая второсортная литература -детективы, боевики, любовные романы - опирающиеся на «лихо закрученный сюжет» о насилии и страсти. «В природе художественного творчества противоречий, надо сказать, больше, чем мы привыкли замечать, - пишет Валентин Распутин, - Одно из них заключается в том, что сюжетное, событийное движение, за которым читатель следит, казалось бы, прежде всего, а потому автор продумывает и выверяет тщательней всего, на деле, похоже, лишь отдаляет читателя от писателя. (...) А сближает их не само действие, а та скрытая и невидимая сила, с помощью которой действие происходит и которая, как это бывает и в механике, направлена в другую сторону. (...) герои уйдут и уедут, скрывшись из виду, и происшедшее с ними в конце концов забудется, но то, что произошло благодаря героям с читателем, внутренняя движущая сила их нравственного и духовного возбуждения останется в нем навсегда».103
Следовательно, сюжет, при всей его значительности, не самоценен, а выполняет в литературе функцию, подчиненную нравственной и духовной движущей силе искусства. Связь с духовными силами выводит значение сюжета за рамки художественной сферы. Показательно, что и само слово «сюжет» в последние годы вышло за рамки искусства: сегодня говорят о сюжете научной работы, имея в виду логическую канву повествования (философский или литературоведческий сюжет), о сюжете реальных событий (бытовой сюжет). Расширение семантического поля слова «сюжет» есть возвращение к жизни, на которой всякий сюжет основан. Жизнь сама по себе есть сюжет человеческого бытия, в начале которого человек «выезжает из дома», то есть его душа обретает плоть, выходит в мир дольний, а в конце «возвращается домой», то есть покидает землю своего странничества и возвращается в мир горний.
В литературе сложилось множество сюжетных канонов, легко узнаваемых вечных сюжетов и ситуаций, и мастерство писателя часто определяется умением сделать знакомое необычным, придать неожиданный поворот сюжету, избежать банальной развязки. Но каким бы неожиданным и новым ни был сюжет, есть особая привлекательность в том, что у него обязательно будет конец. Если книга скучна, трудна для понимания, но обязательно должна быть прочитана, то последняя страница освобождает читателя от тягостного плена. Если же книга увлекла воображение и интеллект, наполнила сердце радостью, принесла в нашу жизнь ощущение другой реальности, то мы с сожалением и страхом следим за тем, как тают страницы справа от нас: толщина правой части книги, которую еще предстоит прочесть, - это мера жизни в мире воображения, где время бежит быстрее, жизнь кажется ярче, а люди -более значительными. Помню, как в юности, в пору увлечения толстыми романами Дюма, Гюго, Диккенса и сестер Бронте, я недоуменно смотрела на прочитанный том, который обещал, казалось, новую жизнь, - но вот, прочитанный и тем исчерпавший себя, он казался обманщиком, не оправдавшим надежд на вечную радость книгобытия. Прочитанная книга уже не походит на дом с открытой дверью, а более напоминает гроб, крышку которого мы захлопываем, когда закрываем книгу. Все, конец. Но как невозможно принять смерть человека, так трудно принять и конец книги: есть что-то пугающее в том, что целый мир, вырастающий из страниц книги в процессе чтения, мир, населенный людьми, наполненный проблемами, событиями и глубочайшим смыслом, вдруг как бы уходит обратно в небытие, и стопка переплетенной бумаги в обложке кажется унизительно материальной и незначительной формой для сокрытого в ней мира.
Жизнь читателя "внутри книги" есть прежде всего жизнь "внутри сюжета". Во второй половине двадцатого века "база данных" сюжетики значительно расширилась и одновременно упростилась благодаря бурному развитию кинематографа, видеопроката и компьютерных технологий. В компьютерной игре человек может непосредственно вмешиваться в сюжет игры или фильма, изменять ход событий, стать персонажем и соавтором одновременно. Привлекательность виртуального "сюжетобытия" объясняет популярность новой молодежной субкультуры "толкинистов" и "ролевиков" (возникшей в 70-ые годы на Западе и набирающей популярность в последние десять лет в России), которая основывается на вживании и творческом развитии сюжетов, преимущественно заимствованных их жанра "fantasy". Толкинисты и ролевики переносят "жизнь в сюжете" из виртуальной реальности в саму жизнь, придавая ей статус вымышленной игровой реальности и тем самым продолжая в определенной степени жить в книжном или видеомире после того, как книга или фильм закончились.
Конец книги не только выводит нас из состояния полета в литосфере, но и приносит чувство нравственного примирения с миром, поскольку высокая литература всегда демонстрирует власть доброго начала над злым. Сколь бы трагичен ни был конфликт произведения, порок оказывается наказан, а добродетель вознаграждена, если не на страницах самой книги, то в воображении читателя, вдохновленном ее сюжетом. Ахилл сменяет гнев на милость; Одиссей восстанавливает порядок на Итаке; а смерть Ромео и Джульеты восстанавливает мир между Монтекки и Капулетти; Наташа Ростова счастлива в замужестве, а дядюшка Скрудж - в сострадании к бедному родственнику; в потоке слез оживает сердце Раскольникова.... И пусть безысходно трагична развязка Гамлета и безнадежно одинок старый Фирс, оставленный в заколоченном доме, - слезы, пролитые читателем, наполнят его сердце состраданием, а значит - любовью к миру.
Homo Ludens Christianus: юродивый, шут, идиот в православной традиции святости
Юродивый представляет одновременно исповедальную и проповедническую церковную традицию, осуществляя и ту и другую в форме "театра спасения". Сегодня за рубежом основным визуальным символом России является собор Василия Блаженного, который ежедневно появляется на телеэкране в заставке русской программы новостей. Но немногие на Западе знают, что Василий Блаженный - это юродивый (the Holy Fool), человек, который добровольно надел на себя маску безумного для того, чтобы спасти свою душу и души окружающих его людей. «Мирским вариантом юродивого» Панченко называет русского Ивана-дурака: поведение его бессмысленно с мирской, обыденной точки зрения (не сеет, не пашет, лежит на печи и песни поет), но приобретает особое значение в ситуации борьбы добра со злом (становится жертвой благоразумных, но жестоких братьев и получает особую помощь сверхъестественных сил). Иван-дурак оказывается тем самым библейским «последним, который становится первым», тем самым «немощным, в котором сила Божия совершается». Его образ подчеркнуто противопоставлен практической мудрости мира сего: он глуп и ленив по земным меркам, но любим миром потусторонним. При этом в сказке обычно не мотивируется любовь волшебных сил к Ивану, нет у него особых достоинств, которые бы объясняли помощь Жар-птицы или огненной кобылицы. Правда, он беззлобен, прост и искренен в своем поведении, не знает зла (в этом заключается его существенное отличие от хитрых и завистливых братьев), а потому и становится избранником сил добра и справедливости. Прочтение же фигуры Ивана-дурака вне ее религиозного содержания приводит порой к примитивному толкованию сказочного героя как символа русской лени и глупости. Богатый духовный потенциал фольклорного героя хорошо понимал Гончаров и на нем выстроил сложный и необыкновенно притягательный образ Обломова, наполнив мотив лени высоконравственным пассивным сопротивлением злу и философской установкой на поиск смысла жизни ("Где же здесь человек? Покажите мне человека!").
Фигура юродивого, дурака приобретает особое звучание в творчестве Достоевского. Попытка создания идеального героя получает воплощение в образе идиота князя Мышкина. Таким образом архетип дурака/идиота богато представлен в русской культуре на разных уровнях: в религии, фольклоре и литературе, не говоря уже о том, сколь часто сегодня можно услышать, как у кого-то опять «крыша поехала» в этой «стране дураков». Анализ образа в русской культуре требует дифференцированного подхода, поскольку дурак может быть воплощением либо безумия (например, в политике), либо высшей мудрости (в религии ), либо амбивалентного сочетания того и другого ( в художественной литературе).
Разное понимание глупости/безумия можно обнаружить и в Библии. Глупец - это человек, который презирает знание, мудрость и наставление (Притч. 1:7), помысл которого - грех (24:9), для которого "преступное деяние как бы забава" (10:23), его убивает гневливость (Иов 5:2), он верит всякому слову, много смеется, часто упрекает людей, ленив, многословен и т.д. Книгу Притчей Соломоновых можно рассматривать как энциклопедию мудрых афоризмов о глупости, в то время как Псалтирь раскрывает библейскую концепцию безумия: "люди безумные хулят имя твое" (Пс. 73:18), "вседневное поношение Твое от безумных" (Пс. 73:22). В Притчах подробно перечислены многочисленные проявления глупости; в Книге пророка Иеремии выявлена духовная основа глупости ("народ Мой глуп - не знает Меня", 4:22); автор псалмов делает акцент на одном симптоме безумия - человек начинает хулить Бога.
Человек может принять мудрость Бога за глупость, поскольку людям порой недоступно понимание высшей мудрости небес. Апостол Павел в Первом послании к Коринфянам противопоставляет земную "мудрость" - мудрости во Христе: "Никто не обольщай самого себя: если кто думает из вас быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом..." (Кор. 1,3:18-19). Наставление апостола Павла - "если кто думает быть мудрым в веке сем, то будь безумным" - стало христианским основанием для духовного подвига юродства. Апостол иронически обращается к Коринфянам, сравнивая их относительно безбедную жизнь и спокойную жизнь с жизнью апостолов, которая была полна лишений и страданий: "Мы безумны Христа ради: а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии" (Кор.1, 4:10).
Юродство, таким образом, есть следование за Христом, которого также обвиняли в безумии, колдовстве, смеялись над ним и посчитали недостойным жить среди людей. Юродивый провоцирует людей своим поведением: намеренно вызывает хулу и поношения. Его "провокация" проверяет способность человека увидеть свой грех в обличий и поведении юродивого, потому что юродивый намеренно становится аллегорией греха, он воплощает и, воплощая, обличает грех. Юродивый ходит по улицам обнаженным (даже в жестокий мороз), либо потешно одетым . "Самый способ существования юродивых, их бесприютность и нагота служат укором благополучному, плотскому, бездуховному миру", -отмечает Панченко в статье "Юродство как общественный протест"178. Нагота юродивого, считает исследователь, отсылает нас к фигуре сатаны, который обычно изображается на фресках обнаженным. Если мы вспомним, что в Библии одежда символизирует состояние души человека (вспомним стыд, который почувствовали обнаженные Адам и Ева после грехопадения, или брачную/небрачную одежду в притче о брачном пире), то нагота юродивого определенно оказывается символом греховности человека. Одновременно нагота демонстрирует победу юродивого над силами природы, так как он с Божьей помощью согревает свое тело молитвой даже морозной зимой. Поведение и облик юродивого становится многозначным символом, интерпретация которого зависит от духовного развития окружающих его людей. Те, кто понимают духовную суть юродства, почитают подвижника, те, кто не способен разгадать загадку, - смеются над святым (Панченко).
Загадка юродивого заключается, во-первых, в том, что он может, при помощи пантомимы или иносказания, разыгрывать перед людьми людские грехи: с одной стороны, они оскорбляют людей, с другой -показывают, с какой легкостью люди оскорбляют друг друга, и то, насколько они исполнены гордыни, нетерпимы к насмешке и обличению. О.Иоанн Ковалевский описывает двух юродивых, Николая и Федора, которые жили по разные стороны Волховского моста в Новгороде и часто при встрече на мосту, на виду у всех, дрались друг с другом. Так они "обличали междоусобия современных им новгородцев, распри которых так часто бывали кровавыми и совершались главным образом на Волховском мосту"
"Золотой петушок" как символ литературной эпохи: метасюжет о Спасителе в последней сказке А.С.Пушкина
Последняя сказка Пушкина загадочна и многосложна. Она не вписывается ни в русскую, ни в восточную фольклорную традицию. Детей "Сказка о золотом петушке" пугает своей трагичностью, а взрослых озадачивает необычностью и неопределенностью образов. Читатель привык к тому, что в русской народной сказке, как правило, царь раздает подарки, дочерей-невест и полцарства в придачу, а если он глуп, то его сменяет на троне добрый молодец и красавица-царевна. В пушкинской сказке, напротив, царь получает загадочный подарок от таинственного старца, а в конце все главные персонажи погибают, оставив тридесятое государство без царя и наследников. В восточной сказочной традиции обычно победу одерживает хитроумный, что и происходит, к примеру, в "Легенде об арабском астрологе" Вашингтона Ирвинга, от которой вероятно оттолкнулся Пушкин. В любом случае сказочный конец должен быть счастливым. Отсутствие такового в "Сказке о золотом петушке" смущает и порой отталкивает читателя.
Подходя с фольклорной меркой к сказкам Пушкина, Белинский оценивает их своеобразие как «ложное стремление к народности»: "Народные сказки хороши и интересны так, как создала их фантазия народа, без перемен, украшений и подделок». Подход Белинского говорит об узком понимании народности и практически отказывает художнику в праве на авторскую сказку, на творческое освоение фольклорных жанров, что, безусловно, ограничивает свободу и сферу литературного творчества. Писатели-сказочники 19-20 веков убедительно показали, что авторская сказка способна вобрать в себя богатство как фольклорного, так и литературного наследия. Такие "сказочники" как К.С.Льюис и Дж.Толкиен смогли создать собственные мифологические миры на основе библейской традиции. Право художника на свободное творческое обращение с фольклорной и мифологической традицией хорошо понимал Б.Томашевский, который положительно оценивал свободное обращение Пушкина с фольклорными сюжетами и образами.
Сказка Пушкина прежде всего интересна своим отличием от фольклорного канона и обретает свой смысл при анализе этого отличия как ценной и многозначительной самостоятельности автора.
В советском литературоведении сложилась социально-критическая интерпретация «Золотого петушка» как сатиры на царский строй. Сказку называли сатирическим памфлетом на николаевский режим, а мудрец и Шамаханская царица выступали в роли представителей сказочного мира, несущего возмездие и смерть глупому ленивому царю Дадону. Вульгарно-социологическое прочтение не могло объяснить добродушно-иронического отношения рассказчика к Дадону и вовсе не раскрывало существа волшебных образов сказки, концентрируя внимание читателя лишь на образе ленивого царя.
Кроме того, сложилось и биографическое прочтение сказки: за образом Шамаханской царицы видели Наталью Николаевну, околдовавшую Пушкина своей красотой, а схватку Дадона с мудрецом трактовали как пророчество о дуэли Пушкина с Дантесом. Но биографический подход заведомо обедняет и, в данном случае, искажает содержание художественного произведения, поскольку судьба поэта является не целью, а одним из источников его творчества. В то же время, автобиографичность сказки позволяет прочитать ее как символическую исповедь поэта: прожитая жизнь представлена молодостью, исполненной страстных желаний и грубых ошибок, и зрелостью как временем расплаты и Божьей милости. При этом рассказчик-сказочник представляет историю Дадона как типичную сказку, окаймляя ее традиционным зачином и заключительной моралью. Исповедальное начало, наполняя форму сказки-проповеди, объединяет ее с поэмой Кольриджа.
Перед нами трагикомическая сказка, заключительная сцена которой количеством смертей скорее напоминает шекспировские трагедии, чем волшебные сказания народа. Ироническая легкость стиха лишь подчеркивает трагизм концовки и усиливает эффект некоего беззаботного наслаждения убийством, презрительной радости, звучащей в безумном смехе Шамаханской царицы-демоницы:
Загадочный трагизм сказки говорит о том, что смысл ее не только не вписывается в фольклорный канон, а скорее направляет нас к классической литературной и евангельской традиции, столь существенной для позднего Пушкина. Перед нами оригинальная аллегорическая притча о встрече человека со спасителем, универсальная по своему содержанию, и, подобно евангельским притчам, имеющая отношение к жизни любого человека.
Дадон - говорящее имя: «дадоном» во Владимире, как отмечает Даль, называли неуклюжего, несуразного человека. Можно было, видимо, сказать с укоризной: «Экий ты, право, дадон!». Нарицательное употребление слова «дадон» подчеркивает то, что образ царя в сказке можно рассматривать как аллегорию среднего или любого человека в его внутренней душевной неустроенности, слабости, нескладности, греховности. Важно отметить в этой связи, что Пушкин не использовал имени царя Абуна Абеса из восточной легенды, сюжетом которой он воспользовался, а выбрал имя, которое звучит на восточный манер, встречается в сказках (на это указывает Даль) и одновременно используется в русском языке как насмешливое прозвище для несуразного человека.
При этом Пушкин создает образ жизненного пути царя, концепцию судьбы человека, - это своего рода итоговое произведение поэта, в котором он достигает особой целостности в воззрении на жизнь человека в целом. Написанная в 1934 году, сказка предлагает нам образ судьбы-ошибки, которая в той или иной степени применима к жизни любого человека.
Андрей Белый. Симфония Пятая. Теопоэтическая ("Символизм", "Арабески", "Луг зеленый")
По аналогии с лилипутами, назвавшими Гулливера Человек-Гора, Андрея Белого можно назвать Человек-Символ русской культуры. Не только многогранностью дарования, но прежде всего сочетанием гармонии и катастрофичности сознания Андрей Белый символизирует русскую культуру XX века. Не случайно Белый приходит в литературу с поколением младших символистов, он приходит как своего рода младший сын символизма и русской классической литературы в целом. Вместе с даром слова он наследует у русской литературы трагическое видение мира как распавшегося целого, и сам становится символом двойственности и катастрофичности отечественной культуры в ее устремленности к потерянной гармонии и красоте бытия.
Андрей Белый будто родился в "рубашке" символизма. В статье с настойчиво-символистским названием "Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития"(1927) он пишет: "На вопросы о том, как я стал символистом и когда стал, по совести отвечаю: никак не стал, никогда не становился, но всегда был символистом (до встречи со словами "символ", "символист"); в играх четырехлетнего ребенка позднейший осознанный символизм восприятия был внутренней данностью детского сознания".
Детское восприятие мира художественно воссоздано в антропософских повестях Белого "Котик Летаев" и "Крещеный китаец". Как часто детей ласково называют "котик", "котенок", "киска", подчеркивая их нежность, игривость и беззащитность. Котик Летаев - это "летающий котенок", маленькое нежное существо, способное подняться в воздух, ввысь, к небесам. Герой повести - трехлетний мальчик Котик Летаев - представлен изнутри его собственного сознания, в потоке смешанных ощущений, ассоциаций и видений.
Иисус Христос говорит об особой близости детей к Богу, когда предостерегает своих учеников: "Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие Небесное" (Матф. 19,14), а затем, повторив предостережение, поясняет, что Он имел в виду под словами о детском Царствии Небесном:"Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного" (Матф. 18,10). Ангелы-хранители детей предстоят перед самим Богом, поскольку дети чисты и невинны. Святые отцы часто уподобляют детей ангелам, т. е. легким воздушным существам с крыльями, посредникам между Богом и людьми, летающим (ср. "Летаев") в духовном пространстве вселенной. Таким образом, название повести и имя главного героя Котик Летаев - это символ, воплощающий детство, нежность, любовь, возвышенность души, независимость от дольнего, устремленность к горнему и особую родственную, ангельскую, близость к Богу.
В течение первых трех лет жизни, считают антропософы, человек сохраняет прямую связь с небесным миром, которая позднее ослабевает. Котику Летаеву полных три года, т.е. его связь с духовным миром еще не разорвана, и мы можем погрузиться в непосредственный художественный мир невидимого. "Здесь, на крутосекущей черте - в прошлое я бросаю немые и долгие взоры...
Мне - тридцать пять: самосознание разорвало мне мозг и кинулось в детство; я с разорванным мозгом смотрю, как дымятся мне клубы событий; как бегут они вспять...
Прошлое протянуто в душу; на рубеже третьего года встаю пред собой; мы - друг с другом беседуем; мы - понимаем друг друга." Итак, герою-рассказчику тридцать пять лет, когда он обращается к себе трехлетнему. С тех пор, как "сумрачный Дант" написал "Божественную комедию", цифры три и тридцать пять ("Земную жизнь пройдя до половины...") в художественной традиции стали опознавательными знаками дантевской традиции. Экспозиция "Котика Летаева" во многом напоминает первую песнь "Комедии" Данте : действие начинается у подножия горы, пространственная вертикаль которой символизирует духовный подъем. У Данте гора окружена сумрачным лесом - символом земной греховной юдоли, мрака, не просвещенного Божественным светом. Герой Белого находится в горах, "каменистые пики" которых "грозились; вставали под небо, перекликались друг с другом; образовали огромную полифонию: творимого космоса; и тяжковесно, отвесно - громоздились громадины; в оскалы провалов вставали туманы; мертвенно реяли облака; и -проливались дожди; бегали издали быстрые линии пиков; пальцы пиков протягивались, лазурные многозубия истекали бледными ледниками и нервные, бледные линии гребнились повсюду; жестикулировал и расставлялся рельеф; пенились, проливались потоки с огромных престолов; и говор громового голоса сопровождал меня повсюду: по часам плясали в глазах на бегу: стены, сосны, потоки и пропасти, камни и кладбища, деревеньки, мосты."
Для Данте достаточно одного холма (т.е. невысокой горы) и одного леса, чтобы воплотить идею греховного мира (лес) и устремленности человека к Богу (гора). У Белого та же картина предстает во множестве собственных копий (горные пики, многозубия, потоки и пр.) и во множественности метафорических описаний (оскалы провалов, пальцы пиков, престолы гор и пр.), и даже время распадается на множество часов ( по часам плясали в глазах на бегу). Все представлено в яркой дробящейся множественности и динамичном движении вниз (проливались дожди, многозубия истекали, проливались потоки облако падало под ноги и т.д.). Статичность и лаконичность Данте говорят о духовной возвышенности созданной им картины. Множественность образов Белого подчеркивает динамичность движения, поскольку читатель своим внутренним взглядом вынужден стремительно нестись в потоке новых впечатлений, образов, ассоциаций, и закружившись в словесном вихре, упасть в изнеможении, подобно тому , как упал Данте , выслушав рассказ Франчески, носимой в страстном вихре наказания:
Первая картина "Котика Летаева" (пространственная и цифровая символика которой во многом напоминает начало "Божественной комедии") по своему содержанию и образности более соответствует описанию дантевского ада. В отличие от Данте, находящегося у подножия горы и устремляющего свой взор к ее вершине, Андрей Белый стоит на горе и смотрит вниз - на себя трехлетнего, в то время как младенец (детское Я героя) стоит, подобно Данте, в долине и протягивает руки к своему взрослому Я. Младенцу (символизирующему самосознание героя) предстоит пройти в медитативных воспоминаниях рассказчика путь до вершины собственной зрелости.
Мир оказывается перевернутым: духовный верх оборачивается низом, поскольку внизу начинается и заканчивается путь героя, а верх символизирует расцвет личности, наступающий в середине жизненного пути, но далеко отстоящий от духовной долины бытия.
"Прошлый путь протянулся отчетливо: от ущелий первых младенческих до крутизн этого самосознающего мига; и от крутизн его до предсмертных ущелий - сбегает Грядущее; вних ледник изольется опять водопадами чувств. (...)