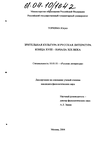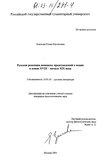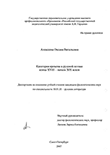Содержание к диссертации
Введение
Часть первая. Поэтика противоречия в русской литературе конца XVIII — начала XIX века
I. Поэтика противоречия в творчестве Г. Р. Державина 24
Примечания 62
II. Поэтика противоречия в творчестве Н. М. Карамзина 68
Примечания 90
III. Поэтика противоречия в творчестве К. Н. Батюшкова 95
Примечания 134
IV. Поэтика противоречия в творчестве В. А. Жуковского 140
Примечания 179
V. Поэтика противоречия в творчестве И. А. Крылова 186
Примечания 203
Часть вторая. Поэтика противоречия в творчестве р А. С. Пушкина
I. Поэтика противоречия в творчестве А. С. Пушкина (1813—1830) 206
Примечания 311
II Поэтика противоречия в творчестве А. С. Пушкина (1830—1836) 334
Примечания 444
III. Поэтика противоречия и проблема каменноостровского цикла 465
Примечания 554
Заключение 582
4 Примечания 588
Литература 589
- Поэтика противоречия в творчестве Г. Р. Державина
- Поэтика противоречия в творчестве Н. М. Карамзина
- Поэтика противоречия в творчестве А. С. Пушкина (1813—1830)
- Поэтика противоречия в творчестве А. С. Пушкина (1830—1836)
Введение к работе
Предметом нашего исследования явилось изучение определенной структуры художественного мышления Пушкина, которую, вслед за самим Пушкиным, можно назвать поэтикой «противоречия». Под этим, в первую очередь, понимается тот способ организации художественной целостности произведения, которая в пределе создает эффект полноты, гармонии, многосторонности, всеохватности, что достигается, в частности, тем, что к парадоксальному единству сводятся противоположные начала.
Стремление Пушкина к многосторонней полноте изображения известно: «Однообразность в писателе доказывает однообразность ума, хоть и глубокомысленного»1. Ярче всего размышления на эту тему выразились в противопоставлении Пушкиным Байрона и Шекспира: «Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества» (О драмах Байрона, 1824 (VII, 52)), в то время как Шекспир явил миру «многосторонний гений» (Table-Talk (VII, 516)).
Подобное осознание многосторонности позволило Пушкину занять уникальную позицию в современном ему литературном процессе. Так, в письме к П. Катенину (№ 185, фев. 1826) он пишет: «Многие (в том числе и я) многим тебе обязаны: ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба мысли» (XX, 201). В «Письме к издателю» «Московского Вестника» (1828. Т. VII. С. 71—72) эта мысль развивается следующим образом: «...каюсь, что я в литературе скептик (чтобы не сказать хуже) и что все ее секты для меня равны, представляя каждая свою выгодную и не выгодную сторону» (VII, 71—72) (ср.: «...направление одностороннее, всегда непрочное...» (VII, 48)).
Современный исследователь пишет: «Позиция Пушкина по от-
ношению к классической и романтической поэтике выявляет себя скорее негативно — в ироническом его отношении к любой литературной партии, любой односторонне-полемической программе. Пушкинский „истинный романтизм" стремится к синтезу всех противоречащих друг другу позиций, „старого" и „нового", и в то же время ни одну из этих позиций не принимает без известной доли иронии. Поэтому данный феномен не поддавался какому-либо программатиче-скому определению» . Аналогичная логика обнаруживает себя не только в литературной сфере, но и в жизненной. Так, осмысляя последствия декабрьского восстания, Пушкин пишет Дельвигу: «Не будем ни суеверны, ни односторонни — как французы, но взглянем на трагедию взглядом Шекспира» (X, 200). С категорией противоречия Пушкин связывает и проблему гения: «Гений, парадоксов друг» (III, 161). Именно поэтому гений «с одного взгляда открывает истину» (Письмо к Толю № 782 от 26 янв. 1837. XX, 621). Отметим, что в пушкинских оценках гениальности повезло только двум русским поэтам — Г. Р. Державину и И. А. Крылову. «Отчего у нас нет гениев и мало талантові Во-первых, у нас Державин и Крылов, во-вторых, где же бывает много талантов» (X, 145).
Эта специфическая многосторонность, естественно, была отмечена современниками — как положительно («Пушкин — Протей» Н. И. Гнедич, «Пушкин — наше все» Ап. Григорьев), так и отрицательно — как отсутствие единой темы творчества, поверхностность мыслей при многообразии предметов изображения (например, Ф. Булгарин). Между тем, именно современником Пушкина была описана та особая структура, благодаря которой достигается эффект полноты как смысла, так и изображения. Речь идет о статье И. В. Киреевского «Нечто о характере поэзии Пушкина» («Московский вестник», 1828 г., ч. 8, №6), где критик, характеризуя второй период
творчества Пушкина, отмечает, что «теперь является он поэтом-философом, который в самой поэзии хочет выразить сомнения своего разума, который всем предметам дает общие краски своего особен-ного воззрения... Он в целом мире видит одно противоречие» . Противоречивость мира изображается через разногласие, ибо, как пишет критик, «только разногласие связует два различных созвучия»4.
В работах В. Г. Белинского будет подробно проанализировано «протеистическое» начало в творчестве Пушкина, а философская глубина его произведений, к сожалению, не будет оценена, хотя компенсируется мыслью о художественной высоте его творений: «Пушкин как поэт велик тем, где он просто воплощает в живые прекрасные явления свои поэтические созерцания, но не там, где хочет быть мыслителем и решителем вопросов» .
На этом фоне было вполне закономерно появление статей Д. И. Писарева, утверждавшего идейную пустоту и блестящую форму ее выражения в творчестве Пушкина, «в котором было много пищи для воображения и в котором не было никакой пищи для ума.. .»6.
Только конец XIX века вернул Пушкину не только его философ-ско-поэтическую глубину, но и попытался осознать саму противоречивость пушкинской натуры, противоречивость его художественного мышления. Так, М. О. Меньшиков в статье «Клевета обожания» (1899) пишет: «Если стихи его подбирать как документы, то с одинаковым правом вы можете утверждать, что Пушкин был и истинный христианин и грубый язычник, и народолюбец и противник народа, и человек целомудренный и циничный грешник, и враг насилия и сторонник его. В разный возраст, в разные моменты того же возраста, смотря по преобладанию той или другой из стихий, его составляющих, он высказывал совершенно различные взгляды, которые с своей, относительной точки зрения одинаково верны, а с абсолютной —
одинаково ошибочны. Когда Пушкин утверждал, что народ подл, то относительно он был столько же прав, как тогда, когда утверждал, что народ благороден. Народ одновременно и подл и благороден, смотря потому, какие струны души его приведены в действие. Но Пушкин был бы абсолютно не прав, утверждая что-нибудь одно из двух; но он этого и не делал»7.
Философская критика конца XIX — начала XX века попыталась осмыслить весь творческий путь поэта как «явление гармонического сочетания, равновесия двух начал» язычества и христианства8. Или еще более широких, но более абстрактных категорий — полноты и неполноты9. Становилось понятно, что «всякая попытка приписать Пушкину-поэту однозначно определенное религиозное или философское миросозерцание заранее обречена на неудачу, будучи по существу неадекватной своему предмету»10. «Это живое ведение или, вернее, это самопознавшая себя жизнь не исчерпывается никакими „мыслями" или „идеями". Ее идеальное содержание выразимо лишь в комплексе противоборствующих и взаимноуравновешивающих друг друга идей — есть „соединение противоборствующего и гармония разнородного", как определял самое жизнь Гераклит»11. С. Франк попытался определить причину этого: «...качество благоволения и сочувствия вытекает из широты его духа, из факта, что его дух действительно (а не только формально-художественно) охватывает всю неизмеримую сферу человеческой духовности, что ему поистине не чуждо ничто человеческое. Поэтому он по своему существу, в глубочайшем смысле слова сверхпартиен: он не замыкается ни в каком „миросозерцании", ни в каком духовном направлении, ни в какой од-носторонней теории» . Именно потому, что «...мысль Пушкина всегда предметна, направлена на всю полноту и целостность бытия и жизни — более того, есть, как указано, как бы самооткровение самой
конкретной жизни, то его жизненная мудрость построена на принципе совпадения противоположностей (coincidentia oppositorum), единства разнородных и противоборствующих потенций бытия»13.
Описанный выше комплекс идей в дальнейшем из сферы общеэстетической и общефилософской приблизился к исследованию более конкретных проблем поэтики художественных текстов Пушкина.
Особое место в этом процессе принадлежит рукописи Ю. Н. Тынянова, созданной в 1921—1922 годах, но впервые опубликованной в 1975 году, «О композиции „Евгения Онегина"», положившей начало исследованиям поэтики противоречия в сфере художественной формы, понимаемой как факт художественного содержания14.
Другое плодотворное направление исследований оказалось связано с работами М. М. Бахтина, описавшего эффект диалогической (или двусубъектной) природы пушкинского лирического текста15. Для изучения Пушкина (являющегося преимущественно лириком) возможность анализировать лирический текст как единство двух различных голосов открывала перспективы проникновения идеи «противоречия» в область поэтики. Относительно пушкинской прозы аналогичный опыт был проделан В. В. Виноградовым при анализе «Пиковой дамы»16.
Значительный вклад в исследование указанной проблематики связан со структурно-семиотическим анализом, который в основу своего подхода к художественному тексту положил идею семантических оппозиций. Так, Ю. М. Лотман отмечает, что «...в ходе работы над „Евгением Онегиным" у автора сложилась творческая концепция, с точки зрения которой противоречие в тексте представляло ценность как таковое. Только внутренне противоречивый текст воспринимался как адекватный действительности... Пушкин пошел здесь по самому неожиданному, казалось бы, пути: он не ослабил, а
предельно усилил ощущение литературной условности в целом ряде ключевых мест романа. Однако, решительно отказавшись от тенденции к соблюдению на всем протяжении произведения одинаковых принципов и единой меры условности, он сознательно стремился сталкивать различные их виды и системы, ...при котором у читателя возникало иллюзорное впечатление выхода за пределы литерату-
ры» .
С иных методологических позиций эту же проблему поднимает П. В. Палиевский: «Задача Пушкина была иной: самому стать мыслью и смыслом, средоточием и предметом духовных исканий, предложить реальный идеал — что само по себе как понятие было несовместимо... Ради этого... он и разработал свой метод-стиль объединения противоположностей: не при помощи их решения, а, можно было бы сказать, утверждения их соотносительного места в растущем целом... Пушкин везде избирает „крайнее", но всегда на оси, проводящей это крайнее через невидимый центр в противоположную, кажется, еще более дикую крайность, однако, .. .расширяя целое до способности все дальше их объять» .
Системно, но на основе диалогического характера пушкинской целостности, особенности поэтики противоречия выявлены в работе Н. Д. Тамарченко «Целостность как проблема этики и формы в произведениях русской литературы XIX века». На уровне возникающей целостности для поэта характерно равновесие противоположностей, еще не раскрывших себя и выступающих не как «отвлеченные жизненные принципы», а как «эстетические облики двух миров»19. На второй стадии — становления — «целостность противостоящих начал распадается»20 и каждое из них предельно проявляет себя в диалоге. Наконец, на стадии завершения — осуществленной целостности — у Пушкина сопрягаются «уже предельно проявившие себя на-
чала»21, причем противоречия не разрешаются, а «оставляются» внутри изображенного мира, где мы ощущаем лишь возможность общей для них единой меры. Налична эта мера лишь в творческом сознании, свободно входящем внутрь изображенного мира и вби-рающем его весь в себя» .
Во многом исследование поэтики противоречия было актуализировано изучением диалогической природы художественного текста. Так, в 1983 году появляется работа С. Н. Бройтмана «Проблема диалога в русской лирике первой половины XIX века», где утверждается, что именно в лирике Пушкина впервые в истории русской поэзии зарождается полноценная возможность появления диалогически ориентированного поэтического слова: «Пушкинский диалогический автор уже не „одержим" другим, а „неразделен и неслиян" с ним. Пушкин знает о собственной изображенности и „другости" („смертности") и, как это ему свойственно, принимает ее так, чтобы ее преодо-
леть» .
Несколько иные по своему составу художественные построения исследуют Ю. В. Манн и В. М. Маркович24. В сфере их интересов — романы середины XIX века, где прослеживается столкновение именно двух противоположных точек зрения, жизненных установок. Сюжет же романов выстраивается так, что обнаруживает взаимную неполноту каждой из позиций, тем самым утверждая невозможность одной монологической правдой охватить многообразие мира. Это так называемый диалогический конфликт, истоки которого Ю. В. Манн видит у Н. М. Карамзина (очерк «Чувствительный и холодный»).
Изучение принципов и форм диалогизации как лирического слова, так и эпического повествования выводили исследователей к постановке более широкой проблематики — становлению и развитию художественности в русской литературе конца XVIII — начала XIX
века . Иногда процесс рассматривается еще более широко — на фоне западно-европейской культуры XVIII— начала XIX века26.
В 1989 году выходит монография Стефани Сандлер «Далекие радости. Александр Пушкин и творчество изгнания», где, в частности, описываются те особенности пушкинских текстов, «которые дают возможность их различной интерпретации» в связи с тем, что «главной особенностью поэтического таланта Пушкина, развившейся за годы ссылки, является способность оппонировать собственным аргументам и, таким образом, рассматривать их словно со стороны»27.
Вот как определяет особенности поведения, творчества и художественного мышления Пушкина Б. М. Гаспаров: «...Двойственность и в то же время взаимная дополнительность образа типична для Пушкина; она стоит за многими „противоречиями" пушкинского творчества и поведения»28. Философски расширенное понимание диалогиз-ма положено в основу исследования художественной антропологии Пушкина Б. Т. Удодовым29. «Бинарное взаимодействие» осознается современными исследователями как первооснова пушкинского миропонимания: «...Пушкин,— пишет А. Н. Иезуитов,— наиболее полно, гармонично и совершенно воплотил в своей жизни и в своем творчестве „бинарное взаимодействие" как поистине универсальную и важнейшую закономерность всего бытия — материального и духовного, охватывающую собою и прошлое, и настоящее, и будущее,
жизнь всего человечества и каждого человека» .
Интересны наблюдения И. Б. Роднянской над поэтической афори-стикой Пушкина. Она подчеркивает, что первой особенностью ее является антиномичность и парадоксальность, а второй — «пунктир-ность», «перескок-перелет через целые цепочки логических и ассоциативных звеньев»31.
Современные исследователи подчеркивают в пушкинском стиле
сочетание сложного в простом, гармонии и дисгармонии: «Такие
^ привычные определения пушкинского стиля как классически строй-
ный, органичный — малоконкретны: ...за простотой и предсказуемостью жизненных отношений Пушкин неизменно открывает связи, не укладывающиеся ни в какую окончательность. Стиль наглядно демонстрирует это проступание сложного в простом, дисгармонии в гармонии»32.
На взгляд Т. Г. Мальчуковой, принцип противоречия дает воз
можность по-новому подойти к изучению взаимодействия античной
^ и христианской традиций в художественном мире Пушкина: «...Он
стал полноправным наследником великого культурно-исторического
синтеза и создателем христианской по духу классической литературы
в России. В духовном мире его поэзии христианские идеалы любви,
милости и смирения уживаются с античными идеалами свободы, сла
вы и красоты. Поэтому, думается, неверно сводить аксиологию поэта
к одному христианству или к одной античности, как и противопос
тавлять в нем язычника христианину. Будет, кажется, вернее, если,
^ отвращаясь от односторонности, которую Пушкин называл „пагубой
мысли", и, не боясь противоречий, „противочувствий", которых не боялся и не избегал и он сам, понимать эти разные идеалы в ценностном мире поэта диалектически — как единораздельную целостность»33.
Осознание особой значимости логики противоречия для творческого сознания Пушкина привело к пересмотру некоторых фундаментальных причин, лежащих в основе эволюционных путей развития пушкинского творчества. «Чем же объяснить эту феноменальную способность к развитию?» — спрашивает В. И. Глухов. «...Эта способность была следствием бесподобной творческой одаренности и активности самого поэта, его особого склада сознания, склонного к
тому, чтобы находить взаимоисключающие тенденции в окружающем мире и отражающей их человеческой мысли... Нетрудно понять, что в художественном постижении Пушкиным действительности должны были неизбежно появляться исключающие друг друга тенденции, а, следовательно, и внутренние противоречия, которые, требуя своего разрешения, стимулируют интенсивные поиски новых путей в поэзии... Главное же — в постоянной предрасположенности Пушкина к художественному постижению действительности в ее противоположностях и контрастах, к осмыслению ее полярных сторон и их взаимосвязи, что порождает в его собственном сознании исключающие друг друга тенденции, противоречия, стимулирующие повышенные темпы работы его творческой мысли»34.
Способы преодоления Пушкиным противоречий осознаются современными исследователями как своеобразная культурологическая модель развития русской культуры: «Если... он вводил противоречия для того, чтобы найти меру их преодоления, тогда он создавал ценность „середины", обособляясь от абсолютизации сложившихся стереотипов культуры и формируя логику развития личности, измеряемую выживаемостью во все более усложняющемся мире», — пишет А. Давыдов. «Итак, не полифония господствует в пушкинском мире, а конструктивная напряженность многоголосия, гармония. Ценностный вектор поворачивается от монологизма сложившихся стереотипов к синтезу нового смысла в зоне между ними. Возникает синтез небесного в земном, трансцендентного в имманентном как содержание и этапы развития логики „середины". Это и есть пушкинский „магический кристалл", основная гуманистическая методология Пушкина и его медиационное решение проблемы воспроизводства культуры. По Пушкину, человеческое, чтобы выжить, должно обладать рефлексией, диалогичностью, способностью к синтезу и муже-
ству измерять свою жизнеспособность смертью» .
ф Наконец, исследуются формы проявления поэтики противоречия,
в частности — парадокс. Так в статье В. Шмида «Парадоксальность Пушкина» сама пушкинская личность осознается как парадокс, изучаются парадоксы пушкинского чувствования, парадоксы пушкинских художественных характеров, их поступков, судеб; онтологические парадоксы, парадоксы жанра, интертекстуальности, литератур-
ности .
Можно сказать, что исследователи-пушкинисты в тех или иных
^ аспектах обращались к анализу противоречий в творчестве поэта, но
эта особенность его мышления не была предметом специального монографического исследования. Именно это обстоятельство определяет как новизну, так и актуальность данной работы.
Наше исследование не претендует на исчерпывающую полноту,
более того, его цель — скорее прояснить саму проблему, осознать ее
масштаб и значительность как для анализа пушкинского наследия,
так и для истории русской литературы конца XVIII — начала XIX
'* века.
Мы обратились не к какому-нибудь определенному периоду эволюции Пушкина, но, выборочно обращаясь к тем или иным произведениям поэта, созданным в разные эпохи творчества, рассматриваем их как наиболее показательные для каждого этапа его творческого пути.
При этом обнаружилось, что уже первые дошедшие до нас литературные опыты поэта демонстрируют владение поэтикой противоречия. А это значит, что ранний Пушкин имел возможность опереться на определенную литературную традицию. Именно поэтому нам пришлось расширить объект изучения, так как возникла необходи-мость обратится к пушкинским предшественникам, к пушкинским
учителям, чтобы прояснить тот литературный контекст, которым пи-
ф талось пушкинское творчество. Среди многообразия авторов, мы ос-
тановились на важнейших для нашей темы — на творчестве Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского, И. А. Крылова.
В связи с тем, что предметом анализа оказались столь разные ав
торы, необходимо было не только учесть их индивидуальные отли
чия, но и попытаться найти как объединяющие их историко-
литературные и литературоведческие темы, так и определенное
v^ единство литературоведческого анализа выше означенной проблемы.
Методические и методологические аспекты литературоведческого анализа менялись в связи со спецификой самого исследуемого материала.
Оказалось важным прояснить философско-эстетические пред
ставления писателей, на которые опирается их поэтика противоре
чия, определить особенности ее функционирования в различных ху
дожественных системах, учесть индивидуальность каждого автора,
'* своеобразие его стиля. Поэтика противоречия, в свою очередь, реали-
зуется на различных уровнях художественной целостности — на уровне образном, композиционном, стилистическом и стилевом.
Современные теоретики определяют художественную целост-ность как единство противоположных начал . Однако способы, которыми эти противоположные начала приводятся к единству, оказываются разными.
Важно подчеркнуть, что само представление о художественном целом как единстве противоположностей складывается в эстетике как раз в конце XVIII — в начале XIX века. Так, для А. Баумгарте-на — основателя эстетики как самостоятельной науки — «в основе художественного творчества лежит единство многообразия, которое
и есть совершенство мира (perfectio mundi)» . Специфика и универ-
щ сальность эстетического впервые осознаются как единство противо-
положностей в теории и практике немецкого романтизма — в фило
софии И. Канта и Ф. В. Шеллинга. Произведение искусства и строит,
по Шеллингу, «воссоединение» идеального и реального, бесконечно
го и конечного, сознательного и бессознательного, познаваемого и
созидаемого; только благодаря такому «воссоединению» оно и может
предстать как «особенная вещь»: «...в истинном универсуме для осо
бенных вещей может быть место лишь постольку, поскольку они
* вбирают в себя неделимый универсум и, таким образом, сами суть
универсумы» .
Более конкретно и систематически диалектическая природа художественного произведения раскрывается Гегелем.
Разумеется, что круг этих идей существенно влияет на развитие
русской эстетической мысли. Так, кантианскую теорию на русской
почве развивает Л. Г. Якоб40. Романтическое представление о произ
ведении как об органической целостности характерно для А. И. Га-
w лича: «...Целость органическая принадлежит к... существенным
свойствам изящного. Она оживляет многоразличные, друг для друга существующие части материи одною, по себе значительною идеей... Сия-то органическая целость отличает изящное от всех прочих предметов...»41.
Любопытно отметить суждение М. М. Гиршмана о том, что «решающий этап в становлении понятия о литературном произведении как художественном целом осуществляется на стыке эстетики и критики авторами, особенно близкими к реальному движению литературы: И. В. Киреевским и В. Г. Белинским. Но прежде чем непосредственно обратиться к их суждениям, надо сказать «...и о тех качественных переменах в художественной практике, которые служили
плодотворной основой для нового взгляда на произведение и которые наиболее отчетливо представлены в творчестве А. С. Пушкина»42. Представляется, что значительную роль в этом процессе сыграла как раз поэтика противоречия, на основе которой в творчестве Пушкина фактически формируется поэтика целостного текста.
Если целое текста рассматривать как единство семантических приемов в движении, «этапы которого — разрушение слова, воссоздание его значения и построение поэтического мира как модели действительного», то механизм, порождающий это движение, можно определить как художественный образ43. В свою очередь, подчеркнем, что этот процесс может протекать по нескольким семантическим конфигурациям — по аллегорической, метонимической или метафорической, что создает логическую основу для типологических исследований. Более того, на разных уровнях текста могут действовать разные по своей природе семантические закономерности.
Исследование этих процессов, взятых в историческом аспекте, позволяет описать становление художественности русской литературы конца XVIII — начала XIX века через осознание меры поэтической условности, реализованной в творчестве того или иного автора. Таков историко-литературный аспект исследования.
Мы обратились к анализу различных в жанровом отношении произведений А. С. Пушкина (лирика, драма, проза, роман в стихах), показав тем самым, что выявленная закономерность художественного мышления писателя носит метажанровый характер.
Более того, межтекстовые связи зачастую организуются Пушкиным по принципу противоречия, что дает ему возможность создавать новые по своим организационным принципам художественные ансамбли (лирические, прозаические, драматические циклы, роман
«Евгений Онегин»).
При обращении к творчеству Пушкина нас интересовала не только эстетико-философская база поэтики противоречия, не только ее реализация как на разных уровнях художественного целого текста, так и при создании художественной целостности, но и трансформация поэтики противоречия из области художественной формы в сферу художественного содержания, в сферу художественного (и не только художественного) мышления поэта.
Выход в сферу художественного содержания изменяет и аспект литературоведческого анализа. Он смещается в сферу идейно-тематическую.
Все вышесказанное позволяет говорить о картине мира, которая складывается в позднем творчестве Пушкина, основные категории которой оформляются с опорой на логику противоречия.
Теоретическая значимость работы определяется тем обстоятельством, что позволяет выделить принципиально новый объект исторической поэтики и предложить методологию его описания.
Сообразно поставленной задаче диссертация состоит из двух частей. Первая часть — «Поэтика противоречия в русской литературе конца XVIII — начала XIX века» — состоит из пяти глав, в которых исследуется это явление в творчестве Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского, И. А. Крылова. Выбор этих писателей связан с особой ролью, которую они сыграли в качестве пушкинских учителей.
Вторая часть — «Поэтика противоречия в творчестве А. С. Пушкина» — состоит из трех глав, которые охватывают, разумеется выборочно, весь творческий путь Пушкина, где в отдельную самостоятельную главу выделено исследование особенностей формы и со-
держания так называемого каменноостовского цикла, который явился итогом творческого и духовного развития поэта.
Методологической основой работы явились труды виднейших пушкинистов, начиная с В. Г. Белинского, П. В. Анненкова, П. И. Ба-ртеньва, К. Я. Грота, классические исследования В. В. Виноградова, Б."ВТТомашевского, Д. Д. Благого, Г. А. Гуковского, С. М. Бонди, Б. С. Мейлаха, Н. В. Измайлова, Г. П. Макогоненко, Б. П. Городецкого, заканчивая новейшими работами С. Г. Бочарова, Ю. М. Лотмана, С. Н. Бройтмана, В. М. Марковича, Б. Т. Удодова, Б. М. Гаспарова, В. Э. Вацуро, С. А. Фомичева, Н. Н. Скатова, В.П. Старка, Р.В Иезуи-товой, В. А. Грехнева, С.А. Кибальника, М. Ф. Мурьянова, О. А. Проскурина, Т. Г. Мальчуковой, В. И. Глухова и многих других.
В зависимости от особенностей анализа мы использовали разные методы исследования — от биографического и текстологического до историко-литературного и структурно-типологического.
Основные идеи исследования прошли апробацию на внутриву-зовских, межвузовских, региональных, всероссийских и международных конференциях (Тбилиси (1986), Новосибирск (1986), Владивосток (1988, 1990, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004), Ленинград (1988), Санкт-Петербург (1998, 2002), Ставрополь (1990), Харьков (1998)).
Основное содержание работы отражено в 18 тезисах, 22 статьях и пяти монографиях.
Поэтика противоречия в творчестве Г. Р. Державина
В оценках Пушкиным творчества Державина обращает на себя внимание настойчивость, с которой он подчеркивает то его свойство, которое Л. В. Пумпянский назвал «соединением несоединимого»1.
Работая в конце 1835 года над воспоминаниями о Державине, Пушкин не только рассказывает забавный эпизод встречи А. А. Дельвига с Гаврилой Романовичем, но и создает его (Державина) подчеркнуто контрастный образ: «Дельвиг вышел на лестницу, чтобы дождаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую „Водопад". Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: где, братец, здесь нужник? Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил свое намерение и возвратился в залу» (VIII, 65). Отрывок строится на контрасте между возвышенной темой поэзии и прозаическим бытом, контрасте, на котором основаны многие поэтические открытия Державина.
После январского лицейского экзамена, где Пушкина «заметил» «старик Державин» (V, 165), осенью того же 1815 года Пушкин пи шет балладу «Тень Фонвизина», в которой выделяет тоже свойство в облике Державина: 1 Так ты здесь в виде привиденья?.. Сказал Державин,— очень рад; Прими мои благословенья... Брысь, кошка!., сядь, усопший брат (I, 162). Чуть ниже тень Фонвизина восклицает: Что сделалось с тобой, Державин? И ты судьбой Невтону равен. Ты Бог — ты червь: ты свет — ты ночь... (I, 163) В первом отрывке мирно сосуществует экзотическая ситуация явле ния тени умершего писателя и бытовой жест; а во втором — знаменитую оксюморонную строку из оды Державина «Бог», слегка изменив ее, Пушкин использует в качестве характеристики самого поэта. В Михайловском, перечитав всегоДержавина, в письме к Дельви гу (от 8 июня 1825 г.) он делится своими впечатлениями: «Он (Дер жавин — А. И.) не имел понятия... о гармонии... Он не только не вы держивает оды, но не может выдержать и строфы» (X, 148). Не слу чайно именно с Дельвигом обсуждает Державина Пушкин, так как, видимо, это продолжение еще лицейских их разговоров (см., например, письмо Пушкина к П. А. Плетневу от 31 января 1831 (X, 336)). Отсутствие гармонии в поэзии Державина позже будет противо поставлено Пушкиным творчеству В. А. Жуковского и К. Н. Батюш кова. Словесная живопись Державина определяется как «яркая и не ровная», а отличительная черта школы Жуковского—Батюшкова — «гармоническая точность» («Карелия, заточение Марфы Ивановны Романовой», 1830 (VII, 125)). Современный исследователь подчерки вает: «Поэтика Державина — это поэтика стилистических контрастов...»2.
Работая в 1832 году над незавершенной поэмой «Езерский», Пушкин подчеркивает ту поэтическую реформу, которую произвел Державин в жанре оды: Державин двух своих соседов И смерть Мещерского воспел; Певец Фелицы быть умел Певцом их свадеб, их обедов И похорон, сменивших пир, Хоть этим не смущался мир (IV, 344). і
Действительно, «...совмещение высокой поэзии с поэзией частых интересов и домашних забот сделало возможным новый подход к торжественной оде»3. К этим негармоническим контрастам можно относиться по-разному: они могут «бесить всякое разборчивое ухо» (X, 148), но они же могут оказаться источником поэтических нова ций: «Есть различная смелость; Державин написал: „орел, на высоте паря", когда счастье „тебе хребет свой с грозным смехом повернуло, ты видишь, видишь, как мечты сиянье вкруг тебя заснуло". Описание водопада: Алмазна сыплется гора С высот и проч. ... Мы находим I эти выражения смелыми, ибо они сильно и необыкновенно передают нам ясную мысль и картины поэтические» («Материалы к отрывкам из писем, мыслям и замечаниям» (VII, 66)).
Из этого по необходимости ограниченного обзора пушкинских оценок можно заключить, что принцип соединения несоединимого, принцип контраста и противоречия реализуется на всех уровнях ху дожественного мира Державина — от его общеэстетических пред ставлений до сознания отдельных образов и словесных тропов, от от № дельных композиционных решений до принципиальных основ его художественного мышления.
Если попытаться осмыслить роль подобных приемов в поэтике Державина, то начать, вероятно, следует с риторических традиций, на которых покоится поэтика оды. Размышляя о качествах, которые составляют достоинство высоких од и гимнов, Державин выделяет разнообразие и противоположности . Поясняя смысл этих категорий, он отмечает, что «разнообразие бывает троякое: одно в картинах и чувствах, другое в слоге и украшениях, третье в механизме стихов, словоударении или рифме.
Поэтика противоречия в творчестве Н. М. Карамзина
В творчестве Н. М. Карамзина поэтика противоречия приобретает осознанный и принципиальный характер. Это уже не проблема стилистики или образные особенности решения какой-либо поэтической темы. Принцип противоречия для Карамзина носит философский, эс-тетико-мировоззренческий характер. Если обратиться к его поэзии, то отнюдь не блестящие оксюмороны или эффектные антитезы составляют ее центр. О Карамзине-стихотворце верно сказал П. А. Вяземский: «В нем не было лиризма. В прозе его, напротив, много движения и музыкальной певучести... Он требовал, чтобы все сказано было в обрез и с буквальной точностью... В философических стихотворениях Карамзин также заговорил новым и образцовым языком. В них свободно выражается мысль»1. Тут уместно вспомнить раннюю работу Б. М. Эйхенбаума, в которой он писал: «Какая разница по сравнению с поэтикой Державина! Там, по выражению кн. Вяземского, „все сияло, все горело ярким блеском. Много было очарования для воображения и глаз, но сердце оставалось в стороне"... Мы слишком мало обращали до сих пор внимания на то, что Карамзин был не только художником, но и мыслителем и, можно сказать, первым нашим философом»2.
В 1798 году Карамзин пишет важнейшее для нашей темы и программное для себя стихотворение «Протей, или несогласия стихотворца», которое выстраивается как развернутый ответ на тезис, сформулированный в подзаголовке: «Говорят, что поэты нередко сами себе противоречат и переменяют свои мысли о вещах», что подчеркивает стихию размышления и рассудочный характер текста:
Ты хочешь, чтоб поэт всегда одно лишь мыслил, Всегда одно лишь пел: безумный человек! Скажи, кто образы Протеевы исчислил? Таков питомец муз и был и будет ввек. Чувствительной душе не сродно ль изменяться? Она мягка как воск, как зеркало ясна, И вся Природа в ней с оттенками видна. Нельзя ей для тебя единою казаться В разнообразии естественных чудес. ...что видит, то поет, И, всем умея быть, всем быть перестает .
«Протей, или несогласия стихотворца», 1789 Дальнейший текст стихотворения разворачивается либо как антино-мичные решения одной темы (например, темы любви), либо как совмещение двух противоположных тем (например, тема деревенской жизни и городской, которые в литературной традиции классицизма противопоставлялись друг другу, а в стихотворении Карамзина объединяются пафосом восхищения). Невозможно понять то, что называется авторской позицией, ибо она представлена прямопротивополож-ными идеями. Но можно эту позицию описать иначе— как возвышающуюся над каждой конкретной мыслью, причем это возвышение мотивировано эмоциональной реакцией. «Едва ли не впервые в русской литературе,— пишет С. Н. Бройтман,— он (Карамзин — А. И.) с одинаковой убедительной силой воспевает то, что казалось взаимоотрицающим, например, естественное состояние и цивилизацию»4. Такая структура текста свойственна не только философской поэзии Карамзина, она обнаруживается и в его публицистике. В статье «Мысли об уединении» он сталкивает две прямопротивоположные мысли. С одной стороны: «Имя уединения принадлежит к... магическим словам. Назовите его — и чувствительный воображает любезную пустыню, густые сени дерев, томное журчание светлого ручья, на берегу которого сидит глубокая задумчивость с своими горестными и сладкими воспоминаниями!..». А с другой стороны: «Нет, нет! Человек не создан для всегдашнего уединения и не может переделать себя. Люди оскорбляют, люди должны и утешать его. Яд в свете, антидот там же...». Долее Карамзин все же указывает на то, что каждая из этих мыслей в последнем пределе оказывается неверной. Они приближаются к истине только в своей относительности: «Но временное уединение бывает сладостно и даже необходимо для умов деятельных, образованных для глубокомысленных созерцаний...». Итог звучит так: «Такие противоположности разительны и могут быть источником живых удовольствий»5. Структура этого рассуждения поразительно напоминает структуру стихотворения Карамзина, а та, в свою очередь, заставляет вспомнить, например, пушкинскую «Деревню», в которой тоже парадоксально объединяются два диаметрально противоположных изображения деревни. Это не случайно. Пушкин прошел значительную школу «Арзамаса», главой которого был Карамзин и в котором царил мифологический культ поэта-Протея, основание которому В. С. Краснокутский находит именно в этом стихотворении Карамзина6. Таков историко-литературный контекст этого карамзинского стихотворения.
Поэтика противоречия в творчестве А. С. Пушкина (1813—1830)
Обращение к самым ранним из дошедших до нас литературным опытам юного Пушкина показывает, что поэтикой противоречия он владеет сразу на уровне достижений современной ему литературы. Это, безусловно, означает, что исторически поэтика и эстетика противоречия приобрела к началу XIX века относительно определенный и осознаваемый характер. Более того, возникает отчетливое ощущение, что Пушкин в силу Ф определенных личностных качеств был особым образом настроен на ее восприятие.
Среди источников, которые могли бы способствовать формированию особого качества мышления Пушкина, следует остановиться на особенностях личности поэта.
Эта необходимость вытекает из нескольких соображений. Во первых, сама поэтическая практика поэзии начала XIX века выдвига ет в качестве одной из проблем соотношение личности автора и об лика его поэтического воплощения. Именно поэтому соотношение поэтического образа Пушкина (то, каким он вырисовывается в его произведениях) и биографического его облика должно было не только осознаваться в качестве проблемного, но и быть предметом особой заботы Пушкина.
Во-вторых, существенной особенностью пушкинского творчества можно считать биографизм (или особого рода лиризм, если под этим термином понимать ярко выраженное личностное начало). И. И. Пущин отметил: «Вообще он любил придавать своим героям собственные вкусы и привычки»1. Среди множества пушкинских характерн ее стик выделим те, где ярче всего проявилась «антиномичность пуш кинской натуры»2. Некоторые устойчивые черты пушкинской лично сти проявились еще в детстве. Мария Алексеевна, бабушка поэта, вспоминает: «Не знаю, ...что выйдет из моего старшего внука: маль чик умен и охотник до книжек, а учится плохо, .. .то его не расшеве лишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и рас ходится, что его ничем не уймешь; из одной крайности в другую бро сается, нет у него середины. Бог знает, чем все это кончится»3. Это же свойство было отмечено и в лицейскую пору И. И. Пущиным: «Случалось точно удивляться переходам в нем: видишь, бывало, его поглощенным не по летам в думы и чтения, и тут же внезапно остав # ляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что дру гой, ни на что лучшее не способный, перебежал его или одним уда ром уронил все кегли»4. Другой мемуарист подчеркнул иную осо бенность Пушкина — артистически подражать разным стилям и ма нерам поведения: «Пушкин еще отроком, в Лицее, попал в среду сто явшей в Царском Селе лейб-гусарской молодежи. Там были и фило софы, вроде Чаадаева, и эпикурейцы, вроде Нащекина, и повесы, вроде Каверина. Все это были люди, блестящие не по одному мунди ру, разыгрывавшие роли, каждый по своему вкусу. В их кругу впе т чатлительный юноша естественно делался тем, чем были они: с Чаа даевым мыслителем, с Нащокиным искателем чувственных наслаждений, с Кавериным кутилою...»5. Любопытно отметить, как Пушкин охарактеризовал самого себя в лицейскую пору в черновых строфах восьмой главы «Евгения Онегина»: Когда порой бывал прилежен, Порой ленив, порой упрям, Порой лукав, порою прям, ( Порой смирен, порой мятежен, Порой печален, молчалив, 9 Порой сердечно говорлив (V, 547).
Отметим, что эта поэтическая автохарактеристика носит подчеркнуто антиномичный характер. Интересно, что эта самохарактеристика совпадает с той, которую Пушкину-лицеисту дал Г. С. Чириков: «А. Пушкин. Легкомыслен, ветрен, неопрятен, нерадив, впрочем, добродушен, усерден, учтив, имеет особенную страсть к поэзии»6. Это совпадение только подчеркивает объективность самооценки своей личности самим Пушкиным.
Особо отметим, что нам важно подчеркнуть не просто сложность і и многогранность личности Пушкина, но именно противоречивость свойств, составивших его природу. «...Редкие качества соединялись в Пушкине, как две крайности, два полюса, которые дополняют друг друга и составляют одно целое»7. Пушкину, как верно отметил И. П. Липранди, «...по природе его, нужно было разнообразие с разительными противоположностями.. .»8.
В 1820 году И. А. Каподистрия, начальник Коллегии иностран ных дел, отправляя Пушкина на юг к генералу Инзову, писал: «Нет той крайности, в которую бы не впадал этот несчастный молодой че & ловек,— как нет и того совершенства, которого не мог бы он достиг нуть высоким превосходством своих дарований»9. Близко знавший Пушкина на юге И. П. Липранди, будучи тонким наблюдателем, пишет: «Я знал Александра Сергеевича вспыльчивым, иногда до исступления; но в минуту опасности, словом, когда он становился лицом к лицу со смертью, когда человек обнаруживает себя вполне, Пушкин обладал в высшей степени невозмутимостью, при полном сознании своей запальчивости, виновности, но не выражал ее... Эти две крайности, в той степени, как они соединялись у Александра Сергеевича, должны быть чрезвычайно редки» . Вот портрет Пушкина, нарисованный бароном Е. Ф. Розеном: «Очень хорошо помню первое на меня впечатление, сделанное Пуш киным. Тотчас можно было приметить в нем беспокойную, порыви стую природу гения — сына наших времен, который не находит в се бе центра тяжести между противоположностями нашего внутреннего дуализма»11. Многие современники отмечали сложность общения с Пушкиным на том основании, что «...он был очень неровен в обра щении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескон чаемо любезен, то томительно скучен,— и нельзя было угадать, в ка ком он будет расположении духа через минуту» . Или: «В большом Л кругу он был довольно молчалив, серьезен... Но в кругу приятелей он был совершенно другой человек; лицо его прояснялось, он был удивительной живости...»
Поэтика противоречия в творчестве А. С. Пушкина (1830—1836)
Конец 1830 года ознаменовался уникальным по интенсивности творческим взлетом Пушкина, вошедшим в историю культуры как «чудо болдинской осени». Творчество болдинской осени уникально не только объемом и масштабом, но и широтой новых литературных форм — Пушкин пишет первое законченное прозаическое произведение, создает цикл «опытов в драматическом роде» (так сам Пушкин обозначил цикл «маленьких трагедий»), по существу завершает работу над «Евгением Онегиным», обращается к литературно-критической деятельности. Современные исследователи пытаются осознать все многообразие болдинского творчества в качестве единой художественной системы, подчеркивая общность мотивов, образов, проблематики и т. д.1 Пушкинская картина мира усложняется, приобретая драматические и даже трагические черты. Именно поэтому актуальной становится тема счастья, которая осознается как уникальное совпадение между внутренними устремлениями личности и возможностью реализовать их в окружающем мире. Такие случаи бывают (ср.: сюжет «Метели», «Барышни-крестьянки»), но они — редкость. Гораздо чаще между личностью и миром устанавливаются противоречивые отношения. Именно они привлекают пристальное внимание Пушкина.
Особое место в системе этих размышлений отведено теме внутреннего мира личности — её способности духовным усилием преобразить трагичность существования во внутреннюю гармонию. Высшее свое проявление эта способность находит у поэта, художника, взгляду которого становится доступна неочевидная для обычного восприятия высшая гармония мира, которая позволяет ему обрести особую, парадоксальную форму гармонических отношений с действительностью, природа которых все же носит напряженно-катастрофический характер.
В этом процессе Пушкин опирается на христианскую традицию. Христианско-библейский контекст приобретает специфический характер: христианско-библейская традиция давала возможность изобразить идеальную норму человека и человеческих отношений. Но как соединить, с одной стороны, высокость Божественной истины, а с другой стороны,— анализ реальных человеческих взаимоотношений? Попыткой ответить на этот вопрос стал один из первых прозаических опытов Пушкина — одна из «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» — «Станционный смотритель».
В. Г. Белинский, разрабатывая эстетику реализма, специально подчеркнул проблему идеала и его авторского выражения в литературе нового типа. Если поэтика дореалистического письма прямо выражала авторский идеал через изображение «украшенной природы» («старая поэтика позволяет изображать все, что вам угодно, но толь-ко предписывает при этом изображенный предмет... украсить» ), то поэтика реализма остро осознает дистанцию между идеалом и действительностью, между авторским пониманием жизни и логикой самой жизни. Поэтому авторская позиция выражается косвенно, опосредованно («...идеал тут понимается не как украшение... а как отношения, в которые ставит друг другу автор созданные им типы, сообразно с мыслию, которую он хочет развить своим произведением»3).
Эти идеи получили признание и дальнейшее развитие. Соотношение нормативной (идеальной) и познавательной функции искусства определенным образом характеризует и художественный метод. «Реалистическое искусство говорит: вот как на самом деле ведет себя человек. Классическое искусство говорит: вот какова норма поведе ния человека. Антиреалистическое искусство рисует выдуманно образцового человека, выдавая его за действительно существующего ... . В реалистическом произведении все задачи нравственного воспитания, формирования характера, эмоционального влияния разрешаются через посредство художественного понимания»4.
Тем самым в реалистическом искусстве соотношение нравствен ного идеала и изображения жизни расподобляется, начинает осмыс ляться как проблемное. Особенно ярко эта проблематичность прояв ляется в произведении эпического рода, так как оно «ориентировано на изображение мира и человека. Естественно, что именно здесь мо Л жет с наибольшей полнотой реализоваться познавательная функция литературы. Что же касается нормативной функции, то и она выражается в эпическом произведении не только и не столько в прямо-оценочных суждениях, сколько на языке пространственно-временных (повествование) и фразеологических (прямая речь героев) отношений» . «Станционный смотритель» А. С. Пушкина — одно из первых реалистических произведений, определивших значительные особен ности русскою реализма, в частности, его гуманизм. Отсюда — при Й стальное внимание исследователей к этой небольшой и, на первый взгляд, понятной повести.
Однако уже простого обращения к литературоведческой традиции достаточно, чтобы обнаружить не просто разные, а порой прямо-противоположные толкования смысла повести, авторского отношения к событиям.
Первая сложность, с которой сталкивается читатель,— сказовая природа повести. Основные ее сюжетные звенья подаются то через слово титулярного советника А. Г. Н., то через слово Самсона Выри # на, то через слово рыжего мальчика. И все это обрамлено «молчаливым образом Белкина» (С. Г. Бочаров). «Мы все узнаем с чьих-то слов и по чьим-то впечатлениям,— пишет С. Г. Бочаров,— «Нет сплошного, вполне „объективного" действия, которое было бы обозримо во всех его точках, и нет безличного повествователя (в третьем лице), который бы все знал. Кругозор каждого из рассказчиков ограничен, и между их сообщениями и впечатлениями образуются пропуски, скрывающие, кажется, „самое главное"— причины того, что произошло, и факты („что было потом"). Мир самого события преломлен в живом человеческом мире его восприятия и рассказывания от одного к другому. Реальность встает за рассказами, в них не исчерпанная»6.
Сказовая природа повести создает атмосферу неопределенности и недосказанности, непроясненности мотивировок поступков героев. Вот как рассказывается о посещении Минского лекарем: «Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки, и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дня через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил обедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольные друг другом» (VI, 136). Чуть ниже сам лекарь так «пересказывает» это событие: «Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец или только желал похвастаться дальновидностью» (VI, 138), так и остается загадкой для читателя. Эта закономерность действует и в центральных эпизодах повести. Так, реакция Дуни, уезжающей с Минским, лишь названа, да и то весьма характерно: «Дуня стояла в недоумении...» (VI, 137). Рассказ ямщика это недоумение нисколько не снимает:
«Ямщик, который вез его, сказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте» (VI, 138). В исследовательских пересказах эта недосказанность часто конкретизируется так, что бед-ная Дуня оказывается чуть ли не «похищена» Минским . Между тем из самой повести это с очевидностью не следует.