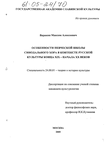Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Предпосылки осмысления реальности церкви в культуре XX века 17
1. Традиция романтизма в экклезиологической мысли А.С. Хомякова 17
2. Церковь, свобода и иерархия: Ф.М. Достоевский и митр. Антоний (Храповицкий) 37
3. Церковь и всеединство, прот. С. Булгаков 60
Глава II. Образ церкви в творчестве мыслителей русского зарубежья 82
1. Персонализм и антропология в трактовке церкви у В.Н. Лосского 82
2. Церковь, история и культура у протоиерея Георгия Флоровского 98
3. Евхаристическая экклезиология протопресвитера Николая Афанасьева и «теургические» интуиции Серебряного века 120
4. Церковь и культурная ситуация XX века: прот. А. Шмеман 135
Заключение 163
Библиография 166
- Церковь, свобода и иерархия: Ф.М. Достоевский и митр. Антоний (Храповицкий)
- Церковь и всеединство, прот. С. Булгаков
- Церковь, история и культура у протоиерея Георгия Флоровского
- Евхаристическая экклезиология протопресвитера Николая Афанасьева и «теургические» интуиции Серебряного века
Введение к работе
Работа посвящена отечественной экклезиологии в контексте русской и мировой культуры и философии XIX – XX вв., прежде всего, осмысляется влияние романтической культурной традиции на основные понятия экклезиологии; рассматривается взаимодействие в образе церкви архетипов культуры, принципов православного богословия и идей европейской философией.
Актуальность исследования
Экклезиология занимает существенное место в отечественной
культуре XIX – XX веков. Учение о церкви в отечественной традиции
– феномен, возникший на грани религии, философии и культуры. О
культуре и культурной традиции в настоящем случае необходимо
говорить, так как русская православная экклезиология формировалась
далеко не только в рамках богословского знания. Импульсы ее
развития исходили из русской классической литературы, религиозно-
философской мысли, публицистики. Существенную роль в
формировании экклезиологии играл «национальный миф»,
воплощающий в себе архетипы, идущие из глубин древности, нередко
приобретая христианскую окраску, но сохраняя мифологическую
основу. Прямо или косвенно, на отечественной экклезиологии
сказывались ведущие течения западной культуры. Выявление
культурного и философского слоя экклезиологических концепций
представляется насущно важным, так как это способствует
целостному постижению русской культуры.
В последнее время стало общим местом указывать на ее тесную связь со своей православной основой, в том числе и там, где культурные явления носят явно секулярный и даже антиклерикальный характер. Однако не менее важно рассмотреть и противоположный подход к русской культуре, когда подлежат выявлению те культурные феномены и мотивы, которые вошли в конкретные теологические концепции, повлияли на их возникновение и развитие. Взгляд на экклезиологическую проблематику через призму русской культуры XIX – XX веков имеет все шансы послужить связующим звеном между церковью и культурой, теологией и культурологией. Экклезиологические теории в своем историческом, общественно-политическом и духовно-нравственном воплощении оказывают значимое влияние не только на религиозный этос, но и в целом на интеллектуальное пространство культуры. Настоящее исследование представляет собой попытку выявления и систематизации основных
линий развития экклезиологической мысли в контексте культуры и философии XIX – первой половины XX века.
Объект исследования
Объектом нашего исследования является наследие мыслителей русского Зарубежья.
Предмет исследования
Предметом исследования являются экклезиологические
концепции видных представителей русской религиозно-философской мысли XX века.
Цель исследования
Цель исследования состоит в анализе и систематизация основных идей или принципов учения о церкви в XX веке, восстановление культурного и философского контекста русской экклезиологической мысли, а также выявление общих принципов, определявших конкретные экклезиологические теории.
Задачи исследования
Достижение указанной цели предполагает решение целого ряда задач, среди которых:
– определение основных линий развития экклезиологической мысли русского Зарубежья в контексте культуры XIX – XX вв.;
– связь экклезиологии Хомякова с проблематикой европейской
романтической традиции. Осмысление роли выработанных
Хомяковым подходов в дальнейшем развитии отечественной экклезиологии;
– исследование культурных мифологем «всеединство», «соборность», «старец» и др., влиявших на мыслителей русского Зарубежья;
– выявление ключевых аспектов персоналистического
поворота в экклезиологии митр. Антония (Храповицкого),
Н. Бердяева, В. Лосского, А. Шмемана (выраженного в понятиях: «сострадательная любовь», «свобода и иерархия», «личность и соборность» и др.) в соотношении с творчеством Ф.М. Достоевского;
– выявление связи евхаристической экклезиологии
Н. Афанасьева с теургическими тенденциями в культуре Серебряного века.
Степень разработанности проблемы
Методологическую основу диссертации составляют работы по
культурологии, религиозной философии и теологии отечественных
авторов С.С. Аверницева, В.В. Бибихина, П.П. Гайденко,
Р.А. Гальцевой, В.В. Зеньковского, О.Е. Иванова, В.М. Лурье,
прот. Иоанна Мейендорфа, П.А. Сапронова, И.С. Свенцицкой,
Г.П. Федотова, С.Л. Фирсова, прот. Георгия Флоровского,
С.С. Хоружего, Л.Е. Шапошникова, В.К. Шохина, западных
мыслителей М. Вебера, Р. Гуардини, М. Мосса, Р. Отто, М. Элиаде.
В контексте церковно-исторических исследований
экклезиологическая тематика отражена в трудах В.В. Болотова,
А.И. Бриллиантова, А.П. Лебедева и др. Религиозно-философским
вопросам в экклезиологии русского Зарубежья посвящены работы
А.С. Аржаковского, И.В. Борщ, К.П. Гаврюшина, М.В. Назарова,
Н.А. Струве, Л.Е. Шапошникова, а так же западных исследователей
Р. Бардьяну, Э. Блейна, И. Дестивеля, митрополита Иоанна
(Зизиуласа), М. Раева, Д. Уильямса, архиепископа Роуэна Уильямса, М. Плекона, архиепископа Каллиста (Уэра), К. Фельми.
Начало исследованию религиозно-философских аспектов экклезиологии было положено уже в 30-е годы XX века, когда возникла необходимость обоснования юрисдикционной идентичности разных групп церковной эмиграции. Аргументы сторон достаточно быстро стали предметом религиозно-философского, церковно-исторического и канонического исследования. Работы представителей русского Зарубежья, посвященные как экклезиологии в целом, так и конкретным дискутируемым проблемам, образуют критическую и исследовательскую линию.
Экклезиологическая тема в «Путях русского богословия»
(1937) протоиерея Георгия Флоровского – одна из ведущих,
Флоровский описывает отечественную интеллектуальную и
культурную традицию под знаком ее богословских возможностей,
неразрывно связанных с реальностью церковного опыта. Флоровский
поднимает вопрос идентичности существующих в академическом
богословии и религиозной философии определений церкви
святоотеческим образцам и православной духовности в целом.
«Западному пленению русской богословской мысли»
противопоставляется искомый, состоявшийся исторически и
интеллектуально в Византии, но не в России, образ церкви, который
еще предстоит выразить. Флоровскому удалось достаточно точно
выявить объем «бывшего и несбывшегося» в русской
экклезиологической мысли, обнаружить «псевдоморфозы» в
экклезиологических подходах XIX и начала XX века.
Вплоть до конца XX века попытки целостно проанализировать основные подходы в экклезиологии Зарубежья в контексте культуры не предпринимались, однако отдельные проблемы достаточно
подробно комментировались. Так, в ходе полемики между
юрисдикциями русской традиции, в 30-70-е годы возникла обширная
литература, разбирающая тему церкви и ее современного состояния в
культурологическом, каноническом и богословском плане. Например,
в работах Г.П. Федотова, Н.А. Бердяева, протопресвитеров
М. Польского и Г. Граббе (впоследствии епископа) со стороны РПЦЗ,
а также митрополита Сергия (Страгородского), И.А. Стратонова,
архиепископа Василия (Кривошеина) со стороны РПЦ (МП),
протопресвитера А. Шмемана в Американской православной церкви,
однако их работы, представляя собой апологию своих юрисдикций, не
ставили перед собой цель теоретически обобщить и критически
исследовать все имеющиеся позиции, тем более они не ставили перед
собой задачи исследования экклезиологии с позиций религиоведения
или философии культуры. Существует ряд источников, которые
можно назвать публицистическими, сюда можно отнести статьи
Н.А. Бердяева, Г.П. Федотова, И.А. Ильина, А.В. Карташева и многих
других представителей русского церковного Зарубежья разных
юрисдикций. Притом, что среди этих работ встречаются ценные
наблюдения и важные критические суждения, сам жанр
публицистической реплики, ее полемический характер не дают авторам этих работ возможность детально и развернуто описать экклезиологические концепции Зарубежья.
Еще одна группа исследований – работы, написанные в 60-80-е годы в СССР советскими религиоведами и историками философии Н.С. Гордиенко, В.А. Кувакиным, В.А. Молоковым, М.П. Новиковым и др. При относительной осведомленности в истории русского церковного Зарубежья, эти авторы делают акцент на критике политических аспектов экклезиологических теорий.
Из литературы последнего времени можно назвать
монографию Л.Е. Шапошникова «Консерватизм, модернизм и
новаторство в русской православной мысли XIX – XX веков».
Исследование Шапошникова затрагивает генезис экклезиологических
идей с XVIII до 90-х годов XX века, рассматривает основные подходы
в академической экклезиологии, подчеркивая, в частности,
доминирование «общественной» (церковь как общество лиц) или
«христоцентрической» линии в богословии. Подход, реализуемый
Шапошниковым, предполагает расположение авторов по шкале
модернизм – консерватизм, консерватизм соответствует определению
церкви как общества, института, модернизм – харизматической (или
пневматологической) идентичности церкви. Работа
Л.Е. Шапошникова крайне интересна тем, что в ней впервые предпринята попытка корректно описать экклезиологические теории на языке культурологи и религиоведения, учитывая одновременно ценностный подход, характерный для теологии.
Положения, выносимые на защиту:
1. Экклезиология русского Зарубежья представляет собой
уникальный культурный феномен, представляющий собой сплав
религиозно-философских и теологических идей, возникших в русской
культуре XIX – XX веков, основу которых заложили еще XIX веке
А.С. Хомяков, Ф.М. Достоевский, митрополит Филарет (Дроздов),
стоявшие у истока отечественной религиозно-философской традиции.
2. Отечественная экклезиологическая мысль испытала
серьезное влияние русской классической литературы и религиозной
философии, такие ее темы как соотношение авторитета и свободы в
церкви, местной и вселенской церкви, власти иерархии и народа
церковного, и ряд других, неотделимы от ключевых проблем,
поднимавшихся в русской культурной традиции XIX – XX веков.
Опираясь на образы русской литературы, в особенности у
Ф.М. Достоевского, экклезиология, с одной стороны, получила
сильный импульс для своего развития.
С другой стороны, в ней наметилась тенденция к утере дистанции
между философской интерпретацией церкви, часто в рамках
«национального мифа», и ее неотмирной природой. Таким образом,
экклезиология является одной из сфер отечественной
интеллектуальной и культурной жизни, а церковь одним из
важнейших предметов для осмысления.
3. В рамках отечественной экклезиологической мысли
сложился целый ряд концепций церкви: 1) церковь – основанная
Иисусом Христом и апостолами историческая институция,
соединенная вероучением, иерархией и таинствами (митрополит
Филарет (Дроздов), академическая экклезиологическая мысль). 2)
Хомяков А.С., испытывая неудовлетворенность «общественным»
объяснением природы церкви, подозревая его зависимость от
католического пост-Тридентского богословия, мыслят церковь как
организм, связью которого является любовь – особый дар Бога, равно
распространяющийся на всех христиан. 3) Митрополит Антоний
(Храповицкий), опираясь на образы романов Ф.М. Достоевского,
понимает церковь, с позиций антропологии настаивая на значении
пастырства (духовного наставничества) как способа объединения
разрозненных в грехопадении индивидуумов.
Прот. С. Булгаков рассматривает реальность церкви в плане
потенциального, являющегося целью истории всечеловеческого
единства (апеллируя к концепции всеединства и богочеловечества
В.С. Соловьева), что ведет к совпадению церкви и мира. Так же этому
автору свойственно харизматическое понимание церкви близкое
А.С. Хомякову. Прот. Г. Флоровский предлагает важные критические
замечания к уже сформулированным подходам исходя из дихотомии:
русского (новоевропейского) прочтения экклезиологической темы –
Византийского его понимания. Для Флоровского тема церкви связана
с этими двумя ведущими традициями. В.Н. Лосский разрабатывает
оригинальную концепцию экклезиологии усиливая
персоналистический (особенно важно здесь различение личности,
индивидуума, природы) аспект темы. Что само по себе является
важным вкладом в персоналистическую традицию религиозной
философии и культуры Серебряного века. Протопресвитер
Н. Афанасьев развивает евхаристическую, мистериальную
экклезиологию, являющуюся важным, вероятно, завершающим, звеном в линии мистериальных, теургических концепций в культуре Серебряного век и русского религиозно-философского возрождения рубежа веков. Протопресвитер А. Шмеман, адаптировав подход Афанасьева к церковной практике, соотносит экклезиологическую проблематику с широким кругом вопросов современной культурной и религиозной ситуации.
4. Указанные подходы к экклезиологии: институциональный,
персоналистический, сакраментальный в их взаимосвязанности и
различиях соотносятся с культурными ритмами европейской и
русской культуры XIX – XX веков. Интерпретация темы церкви у
А. Хомякова и м. Антония, С. Булгакова, Н. Афанасьева соответствует
романтической линии в культуре и философии в разных ее
преломлениях: идеала дружбы и братства – «соборности» у Хомякова,
к утверждению идентичности человека в свободе, творчестве и
«сострадательной любви» у Н. Бердяева, м. Антония, В. Лосского и
С. Булгакова. Мистериальный синтез культуры, философии и религии
у Н. Афанасьева так же имеет целый ряд мотивов характерных для
романтической традиции. Таким образом, перед нами на примере
экклезиологии предстает единая картина взаимодействия в
пространстве культуры мотивов теологической и религиозно-
философской мысли.
5. При обращении к религиозно-философским мотивам в
концепциях церкви у авторов русского Зарубежья в диссертации
уточняется типологизация подходов к пониманию церкви. Она
основанная на различении консервативных и модернизационных
подходов к экклезиологии, предложенная Л.Е. Шапошниковым, а так
же концепция «миссий» М. Назарова. В рамках культурологического
и историко-философского анализа удалось определить место
экклезиологии в целом русской культуры, выявить ряд признаков
указывающих на принадлежность экклезиологии не только к сфере
богословия но и к сфере культуры. Многие линии развития западной
культуры эпохи романтизма нашли свое преломление в
экклезиологии, обогатив тем самым православную теологию. Экклезиологическая тема позволяет полнее представить творчество таких выдающихся религиозных мыслителей, как А.С. Хомяков, митрополит Антоний (Храповицкий), прот. С. Булгаков, Н.А. Бердяев, Г.П. Федотов, В.Н. Лосский прот. Н. Афанасьев, прот. А. Шмеман и др., чье влияние русскую культуру и философию XX века нельзя переоценить.
Научная новизна исследования
В рамках исследования удалось выявить зависимость экклезиологических концепций от контекста культуры, что позволило ввести классификацию экклезиологических подходов не только по теологическим критериям, но актуализировать также критерии культуры, вне которых феномен отечественной экклезиологии не может быть целостно воспринят и осмыслен. В перспективе такого подхода открылась возможность проследить целый ряд устойчивых представлений, мифологем, входящих в состав учения о церкви; на материале творчества самых значимых фигур в отечественной богословской и религиозно-философской традиции XX века рассмотреть взаимодействие религии, философии и культуры.
Теоретическая и методическая основа исследования
При анализе экклезиологических идей мы следовали
методологическим принципам, разработанным для
культурологических исследований, и исследований, посвященных
русской религиозной философии и реализованных в трудах
С.С. Аверницева, В.В. Бибихина, Р.А. Гальцевой, Н.К. Гаврюшина,
П.П. Гайденко, прот. В. Зеньковского, Н.О. Лосского, П.А. Сапронова,
С.С. Хоружего. Подобный подход органично сочетается с методами,
выработанными в рамках феноменологии религии М. Элиаде и
Р. Отто, а также классиками духовно-исторической и
герменевтической школы В. Дильтеем и Г.Г. Гадамером.
Поставленные в исследовании цели и задачи предполагают использование следующих методов: герменевтического, историко-генетического, историко-сравнительного, описательного.
Теоретическая значимость исследования
Проведенный культурологический и историко-философский анализ восполняет пробел в отечественных исследованиях, посвященных русскому Зарубежью, его религиозной и культурной жизни.
Проблематика, разработанная в диссертации, вносит вклад в изучение культуры русского Зарубежья.
Теоретические положения диссертации имеют значение для дальнейшего исследования культуры, богословия, каноники, и истории современного православия в культурологической, историко-философской и теологической перспективе.
Практическая значимость исследования
Материалы диссертационного исследования могут
использоваться в сфере высшего образования для разработки общих и специальных курсов по культурологическим, религиоведческим и теологическим дисциплинам, а так же в политологии.
Результаты исследования могут быть полезны для развития экклезиологической мысли, а так же для диалога церкви, светского общества и государства в современных условиях.
Апробация результатов исследования
Раскрытые в исследовании положения диссертации
представлены на научных конференциях и теоретических семинарах, среди которых: Межвузовские научные конференции в Институте богословия и философии.
XV Межвузовская научная конференция. «Понятие
Провидения в православном, католическом и протестантском
богословии» (Санкт-Петербург, 26.04.2012), XIV Межвузовская
научная конференция «Богословие о. Александра Шмемана и
современный мир. К 90-летию со дня рождения» (29.04.2011), XIII
Межвузовская научная конференция «Мистика. Богословие.
Философия» (9.04.2010), IX Межвузовская научная конференция «Творчество К.Н. Леонтьева и В.В. Розанова в перспективе богословия и философии». К 175-летию со дня рождения К.Н. Леонтьева и 150-летию со дня рождения В.В. Розанова (26.04.2006), Семинар в Институте богословия и философии «Богословие как поэтика и философская логика» (20.12.2012).
Ежегодные конференции в Русской христианской
гуманитарной академии. «Свято-Троицкие академические чтения» (Санкт-Петербург, 2009, 2010, 2011 гг.), в Свято-Филаретовском институте, XVII «Сретенские чтения» (Москва, 19.02.2011). Ряд положений исследования используется диссертантом при чтении курсов «Православная экклезиология II – XX вв.» (в магистратуре по направлению «теология») и курсах «Конфессиональное вероучение», «История русской культуры», «История русской философии» (бакалавриат по направлению «теология») в Русской христианской гуманитарной академии.
Структура и объем работы
Диссертация состроит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения и списка литературы из 210 наименований, из них 22 на иностранном языке. Общий объем диссертационного исследования составляет 182 страницы.
Церковь, свобода и иерархия: Ф.М. Достоевский и митр. Антоний (Храповицкий)
Творчество митрополита Антония (Храповицкого) (1864-1934), выдающегося церковного деятеля и оригинального мыслителя, до сих пор не нашло целостного освещения в отечественной литературе. Несмотря на снятие идеологических запретов47, этот процесс находится в самом начале48. Как отмечал еще В.В. Зеньковский49, центральная тема в творчестве митрополита Антония (Храповицкого), основной нерв его мысли – тема человека, религиозная антропология. Как церковного деятеля, пастыря, антропология интересовала митр. Антония в экклезиологической перспективе, при этом антропология Антония развивалась в контексте русской культуры XIX – XX веков, она впитала в себя наследие славянофилов, прежде всего Хомякова. И если Хомяков свой образ церкви выстраивал на основе интуиций романтизма, делая акцент преимущественно на «соборности», Антоний попытался выявить личностный аспект соборности, другими словами показать, что есть индивидуум в рамках соборного целого. Для этой задачи он напрямую обратился к реалиям культуры, и особенно литературы. Источником вдохновения для Антония стало творчество Ф.М. Достоевского. «Для спасения или – что тоже – для духовного усовершенствования человека необходимы три условия: сам человек, Бог и церковь»50, – именно такой порядок: от антропологии к экклезиологии, соответствует подходу митр. Антония.
Исходным пунктом уже магистерской диссертации митр. Антония является вопрос о свободе человека. «Основная логическая схема работы заключается в том, чтобы через анализ актов самопознания прийти к понятию свободного «я», как условию познавательной деятельности. Далее, осознав условность отделения гносеологического подхода от психологического и нравственного, понять это «я» как живую, нравственную, творческую личность…»51 Митрополит Антоний исходит из антропологии, следуя здесь И. Канту52, «потому все в мире представляется разумным, что он, как мир явлений, согласно Канту, есть собственная наша разумная природа, воспринимающая в себя сырой материал ощущений пяти чувств. Вот как велико, следовательно, гносеологическое значение нашего «я», нашей личности в познании. Если мы отвергаем реальность независимого субъекта самосознания в том виде, в каком она представляется нашему самосознанию, то придется отвергнуть всякое познание. К тому же мы видим, что совершаемое в познании перенесение свойств субъекта в мире явлений принимает его как субъекта активного, волящего»53. Этот фрагмент характеризует то же, что Антония привлекает в Канте: разведение сферы чувственности и рассудка, мира явлений и вещей в себе, особенно мира необходимости – природы (Антоний последовательно критикует психологический детерминизм) и мира свободы, где в силу вступает нравственный закон. Мышление фиксирует связь явлений, «сырого материала пяти чувств», превращая сырой материал в целое природы как совокупности явлений, но не самого бытия, то есть не мира вещей в себе. Мышление, о котором пишет митрополит Антоний, относится к субъекту трансцендентальному, а не эмпирическому. Митрополит Антоний, однако, будет, на манер Фихте, сближать трансцендентальный и эмпирический субъект: смотреть на «Критику чистого разума» через «Критику практического разума». Антоний сближает умопостигаемое и чувственное, «гносеологическое значение нашего я» и «субъекта активного, волящего». Такой мотив характерен для «романтического» прочтения Канта, пресловутому кантовскому дуализму романтик, например, Шеллинг, будет говорить о «темной воле» и «неясном влечении», полагая именно волю, а не разум, в основу личностного бытия54. Кант видел в нравственности – следование закону, так как в практической сфере сам человек выступает не как «сырой материал пяти чувств», а как вещь в себе, «умопостигаемая сущность», а не явление. Поэтому в нравственной сфере действуют свободные автономные существа, подчиняющиеся нравственному закону по свободе, а не по необходимости. Антоний критикует дуализм Канта на путях, пройденных Фихте и Шеллингом, отчасти даже Шопенгауэром. «На самом деле наше самосознание и его гносеологическое, всеолицетворяющее и всеосмысляющее значение вовсе нельзя назвать рассудочностью, теоретическою деятельностью: это есть познание динамическое, основывающееся на деятельном отношении к вещам … совершается … напряжением воли, волевым отношением к вещам. И, следовательно, не теоретическим, а практическим разумом, поскольку всякое познание есть в своем существе, в своей основе практическое…»55. Приоритет воли над разумом Антоний проводит со всей очевидностью. Воля обращена к целям, а не к механической фиксации причин, воля способна выбирать, а не только сравнивать. Из элементов кантовской и послекантовской философии Антоний выстраивает некоторый интеллектуальный конструкт, с одной стороны, не превращая отдельные кантовские сюжеты исключительно в обезличенные термины, с другой, не становясь кантианцем. Тезис Антония, если все сильно упрощать и сводить к схемам, прост: общезначимость мышления – условие единства человеческого рода, единства природы, общей всем людям. Это, по сути, основа церковного универсализма Антония, концентрирующего в себе народность Хомякова, «общечеловеческий суверенитет» (как это назовет П. Флоренский56), единство трансцендентального субъекта, но, вместе с тем, автономию нравственного субъекта Канта и «всечеловечность» Достоевского (сочетающуюся у писателя с темой внутренней борьбы, волевого решения, с которым связано религиозное самоопределение личности). В «автономной душе» – в сердце, борются добро и зло, Бог и дьявол, и выбор – за человеком. Отсюда некоторый «протестантизм» экклезиологии Антония, последовательность отвержения им «внешнего авторитета» католицизма и принципа права как формально навязываемого «нравственному субъекту» извне, со стороны «природы». Стремление Канта «твердо установить автономическую мораль в противовес нравственному гетерономизму католиков и протестантов», ведет к тому, что «его (Канта) нравственная религия гораздо менее соприкасается с этими вероисповеданиями, нежели с православным аскетическим учением о духовном совершенствовании»57. Однако «гетерономна» не только мораль протестантов и католиков, «гетерономна» вообще религия откровения, а автономная мораль может мыслиться только в рамках «религии в пределах разума».
Антоний не концентрируется на этом моменте, не отвергает Канта, философское противоречие становится жизненным парадоксом: «Вопрос, к которому непрестанно возвращало Антония чтение Канта: если разум может открыть свободу в себе, зачем тогда Откровение?»58 Эта мысль, вынесенная Антонием из Канта, разрешается у него не на почве философии, а через обращение к художественному образу, к поэтическому миру Достоевского. Общим местом является интенция о том, что предметом художественного анализа Достоевского является внутренний мир человека, мир того «волящего активного субъекта», о котором Антоний размышлял в своей диссертации. Здесь важный пункт, своего рода развилка мысли Антония: сняв проблему кантовского «дуализма», он фактически смещается на позицию, которая в скрытом виде есть и у Шеллинга, и у Фихте, а в более явственной форме – у Шопенгауэра и Ницше, а именно – позицию сверхчеловека59. Действительно, коль скоро рассудок оказывается сопряжен и отождествлен с «волевым отношением к вещам» индивидуума, его познавательная активность совпадет с его волей. При этом мир, Бог и человек станут проекциями «я», его образами. Возвращаясь к хрестоматийной формуле Достоевского о сердце как «поле битвы», можно предложить ее коррективу или акцент, характерный для Антония: Бог и дьявол не внеположены душе, они, скорее, ее собственные полюса, характеризующие расщепленность индивидуального «я».
Церковь и всеединство, прот. С. Булгаков
Творчество прот. С.Н. Булгакова обычно рассматривается на предмет анализа религиозно-философских мотивов, в частности, софиологии – направления в русской религиозной философии, идущего от В.С. Соловьева. Не так много исследований, посвященных богословию прот. С. Булгакова107, и совсем мало работ, затрагивающих в нем тему церкви108, еще меньше работ, анализирующих экклезиологические построения Булгакова в контексте культуры XX в. Этот факт кажется досадным упущением, ведь Булгакову удалось выстроить достаточно детальную экклезиологическую концепцию: и по объему, и по содержанию экклезиология Булгакова – одна из наиболее подробных и законченных систем в русском богословии, за исключением, конечно, творчества протопресвитера Николая Афанасьева, полностью посвященного учению о церкви.
В творческой эволюции Булгакова экклезиологическая тема совсем не случайна, он начинал как «полит-экономист» марксистского толка, интерес к теме общества и его институтов сохранился и тогда, когда Булгаков вернулся в «церковную ограду». Тема общества получила экклезиологическое толкование и измерение. Опыт участия С.Н. Булгакова в работе Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов стал для него важным стимулом к экклезиологическим изысканиям. Избрание Патриарха, большевистская революция, начавшиеся гонения на церковь, обновленческое движение, собственный опыт возвращения к вере и служению отцов предопределили место экклезиологии среди основных тем его размышлений. Сыграло свою роль и участие Булгакова в экуменическом движении, в частности, в англиканско-православном Обществе святого Албания и преподобного Сергия.
Внутренней мотив был тем же, что и у других богословов русского зарубежья: экклезиология есть квинтэссенция христианского опыта, а, значит, он должен стать и опытом мысли (войти в сферу богословскую и каноническую), и опытом культуры. Булгаков, как и многие представители религиозно-философского возрождения рубежа XIX-XX веков, рассматривал церковь как своего рода идеал или образец для культуры, или, иначе, образ церкви рассматривался Булгаковым как синтез религии, философии и культуры. Отправной точкой в анализе соотношения основных сторон синтетической церковности у Булгакова может служить его работа, вышедшая в 1917 году: «Свет невечерний». Реальности церкви в ней уделяется совсем немного места и внимания, она становится предметом размышлений автора не сама по себе, а как иллюстрация объективности религиозной истины и социальности религии. Булгаков в достаточно общем виде повторяет воспринятую от Хомякова109 идею харизматического образа церкви: все «внешнее» (авторитет иерархии, каноны, устойчивые формы церковной жизни) есть лишь неполное или даже неистинное выражение жизни Духа110. С другой стороны, он подчеркивает заданность церкви111 прежде всего как способа познания истины, и укорененность ее в человеческой природе как таковой112. Церковь соборна, но «соборность есть только следствие кафоличности, ее выражение, но отнюдь не внешний ее критерий. Очень важно отличать кафолическую соборность от коллективности или внешней общественности, именно ввиду того, что смешение это очень распространено. Дело в том, что провозглашение истины, согласно православному вероучению, принадлежит собору, который, однако же, действует и авторизуется церковью не как коллектив, общеепархиальный съезд или церковный парламент, но как орган самого «Духа Истины», Духа Святого (отсюда соборная формула: «изволися Духу Св. и нам»)»113. Исторические формы христианства, особенно католицизм и православие, в большей или меньшей степени оказались не в состоянии реализовать кафоличность в полной мере. Причина такой ситуации в отождествлении соборности с внешними ее проявлениями: в одном случае это единоличная власть папы, в другом – соборность, понимаемая как род «церковного парламента». «Грех и вина против кафоличности … в том, что они (католики) исказили самую идею кафоличности, связав ее с внешним авторитетом, как бы церковным оракулом: соборность, механически понятую как внешняя коллективность, они подменили монархическим представительством этой коллективности – папой, а затем отъединились от остального христианского мира в эту ограду авторитета и тем изменили кафоличности, целокупящей истине, церковной любви. Но столь же католически или внешне понимают кафоличность и те их антагонисты, которые считают раскол церквей достаточным основанием прекратить искание догматической истины под предлогом, что вселенский собор теперь невозможен, а потому можно спать спокойно»114. Вывод, делаемый Булгаковым, укладывается в различение внешнего и внутреннего у Хомякова: «Итак, истинная вселенскость, кафоличность, не считается ни с какими внешними формами и установлениями, которые создаются людьми и для людей и в себе не имеют ничего непререкаемого или неизменного. Измена кафоличности заключается именно в преувеличении внешних ее атрибутов»115. Совершенно очевидно, что «внешнее» и «внутренне», «форма» и «содержание» – категории достаточно неопределенные, практически ничего сами по себе не выражающие. В этом плане искомая «кафоличность», хотя и «все пронизывает», но и расплывается в неопределенности, ведь остается не ясно: что есть ее критерий? Если ее критерий – единство, то что ему соответствует во «внешнем» строе церкви? Ответы на эти вопросы Булгаков будет искать в период пребывания в Крыму, незадолго до высылки (1923 год), и эти поиски отразятся в диалоге «У стен Херсониса»116. Тема, волновавшая Булгакова в то время: как соотносятся исторические формы бытия церкви с ее мистическим основанием. Революционная катастрофа поставила перед Булгаковым вопрос: как может церковь существовать, если ее устойчивые исторические формы разрушены? В свою очередь этот вопрос часть еще большего вопроса: насколько оправдались идущие от славянофилов и поддержанные Достоевским надежды на то, что церковь станет ядром нового культурного творчества, новой – соборной социальности, в конце концов, нового экклезиологичного «целостного» мышления. При этом контекстом размышлений Булгакова является фактически крах официального православия в России.
«Я должен сказать по совести, никогда и ни в какой мере я не колебался в верности своему священству… но происходившее кругом меня все решительнее научило меня постигать историческую относительность внешних форм. Это не значит, что их можно бросать или менять своевольно, но они сами нуждаются в корректуре относительности. Особенно это относится к иерархическому устроению в церкви. … Хотя от этого для меня нисколько не колеблется мистическая подлинность епископского сана и вообще сила хиротонии. Но еще менее умаляется сила и значение всеобщего царственного священства, как и личного духовного христианства»117. Смысл слов Булгакова заключен в констатации кризиса «внешнего» устроения церкви, в частности, епископской власти. По Булгакову, система поместного православия в византийский и поствизантийский период обнаружила свою несостоятельность. Разгром церкви в России, сама возможность подобного развития ситуации, свидетельствует об этом. Как впоследствии будет вспоминать Булгаков: «Я должен поведать о своем искушении … которое я пережил в страдные дни своего Крымскаго сидения под большевиками во время самого первого и разрушительного гонения на церковь в России. Пред лицом страшного разрыва церковной организации под ударами этого гонения, так же, как и внутреннего распада, выразившегося в возникновении «живой церкви», я испытал чувство страшной ее беззащитности и дезорганизованности, неготовности к борьбе. (Теперь я думаю, что духовная, мистическая готовность ее оказалась гораздо большей, чем тогда казалось). Но тогда пред лицом этого исторического экзамена для русского православия – вопреки своему, скорее славянофильствующему прошлому – я обратил свои упования к Риму. Во мне началась общая проверка церковного мировоззрения в отношении к земному устройству церкви и папскому главенству. … Под совокупным впечатлением церковной действительности … я молча, никому не ведомо, внутренне стал все более определяться к католичеству (этот уклон моей мысли и выразился в ненапечатанных, конечно, моих диалогах: «У стен Херсониса»»118.
Церковь, история и культура у протоиерея Георгия Флоровского
Прот. Георгий Флоровский видел в экклезиологии фундамент возрождения святоотеческого богословия, представляющего собой интеллектуально выраженный опыт жизни в церкви и общения в таинствах, одновременно экклезиология послужила основой его концепции культуры и истории, в центр которых он полагал такие важнейшие принципы философии и культуры XX века, как личность, свобода и творчество. Автор «Путей русского богословия» рассматривал совокупность явлений культуры через призму экклезиологии, а экклезиологию видел своеобразной «сверхкультурой». Флоровский предложил своего рода «экклезиологию культуры», осмысляя явления отечественной культурной традиции как развитие (или «псевдоморфозы») исходных для русской культуры архетипов «христианского эллинизма». По Флоровскому, первым этапом приближения к аутентичному христианскому эллинизму может быть критическая ревизия богословия и культуры всего пост-византийского периода существования церкви («Пути русского богословия»), с целью обнаружения «псевдоморфоз», своего рода аберраций богословской традиции, вызванных влиянием либо инославных, либо секулярных богословских и философских концепций и методов («западное пленение»). Вместе с тем дополнительным инструментом критического анализа феноменов культуры и духовной традиции явилась различение органического и исторического. В отличие от Алексея Степановича Хомякова, митрополита Антония (Храповицкого) и о. Сергия Булгакова, «органичность» как романтический псевдоморфоз Флоровский подвергал критике (начиная еще с периода размежевания с евразийцами). «Организм» – тот же «механизм», детерминированный, безличностный, лишенный творческого начала. Свобода, творчество и личность существуют лишь в пространстве истории, как свободного, не имеющего имманентно положенной цели, творческого устремления человека. В этом пункте можно видеть основу культурософских установок Флоровского и, вместе с тем, след важного, а в чем то и определяющего влияния идей Серебряного века и его культурных архетипов. Прежде всего речь может идти о концепции личности и творчества у Н.А. Бердяева. Бердяев влиял на Флоровского еще в пору его гимназической юности, в одном из писем Ю. Иваску в контексте обсуждения реакции на «Пути русского богословия» Флоровский, в частности, пишет: «Я принял “Ренессанс” серьезно, и потому пришел к его отрицанию и отвержению. В юности я все прочел, но по наивности своей прошел мимо соблазнов и не отравился. Для отравления у меня не хватило “воображения”»187. Несмотря на дистанцию по отношению к «яду» религиозно-философского ренессанса рубежа веков, Флоровский демонстрирует комплекс идей близких его творцам. В основе мысли Флоровского – система из двух понятий, которым задаются противоположные, взаимоисключающие характеристики (что напоминает антиномии С. Булгакова). Феномен культуры и его псевдоморфоза соотносятся как подлинное (т.е. свободное и творческое) деяние и его искаженная, ослабленная, лишенная внутренней динамики и жизни объективация, так, например, соотносится христианский эллинизм Византии и его рецепция на Руси, имеющая все признаки «псевдоморфоза». Подобного рода антитетика возникает на основе своеобразной персоналистической установки Флоровского, типологически близкой персонализму Н. Бердяева. «Дух человеческий – в плену. Плен этот я называю “миром”, мировой данностью, необходимостью. “Мир сей” не есть космос, он есть некосмическое состояние разобщенности и вражды, атомизация и распад живых монад космической иерархии. И истинный путь есть путь духовного освобождения от “мира”, освобождения духа человеческого из плена у необходимости. Истинный путь не есть движение вправо или влево по плоскости “мира”, но движение вверх или вглубь по линии внемирной, движение в духе, а не в “мире”. … Мы не от “мира” и не должны любить “мира” и того, что в “мире”. Но само учение о грехе выродилось в рабство у призрачной необходимости. Говорят: ты грешное, падшее существо и потому не дерзай вступать на путь освобождения духа от “мира”, на путь творческой жизни духа, неси бремя послушания последствиям греха. И остается дух человеческий скованным в безвыходном кругу»188. Это фрагмент – самое начало введения к самой, пожалуй, известной книге Н.А. Бердяева «Смысл творчества», в ней он предлагает свое понимание личности, а, значит, и путей культуры и истории. Дух (личность) и мир резко противопоставляются Бердяевым. Личность – это «порыв из плена мировой необходимости», личность в ее истинном смысле лишена «мирской» объективации, она не принадлежит «миру сему», а так как «мир» Бердяев определяет максимально широко (это фактически «совокупность всех вещей», бытие или сущее) – личность над- и сверхбытийна (здесь он опирается на традицию философской мистики от И. Экхарта и Я. Беме до Ф. Шеллинга). Бердяев, конечно, оговаривается, что наличная действительность не истинный космос, не истинное бытие, но смысл от этого не меняется. Все существующее – плен объективации для «я». Как известно, на этом тезисе и строится его концепция творчества: всякое творчество стремится объективацию («пленение») преодолеть, но в культуре оно скорее рабствует «мировой необходимости». Творческая или, скорее, теургическая личность у Бердяева вся устремлена к порыву, отрешению, отрицанию мира данности и созиданию «мира свободы», пораженного исключительно творческой волей теурга (становящегося здесь на место Бога). Теург – «ваятель жизни» не только порождает миры, он через творчество создает сам себя. «Теургия не культуру творит, а новое бытие, теургия – сверхкультурна. Теургия – искусство, творящее иной мир, иное бытие, иную жизнь, красоту как сущее. ... В теургии слово становится плотью. В теургии искусство становится властью. Начало теургии есть уже конец литературы, конец всякого дифференцированного искусства, конец культуры, но конец, принимающий мировой смысл культуры и искусства, конец сверхкультурный. Теургия есть действие человека совместное с Богом – богодейство, богочеловеческое творчество. В творчестве теургическом снимается трагическая противоположность субъекта и объекта, трагическое несоответствие между заданием нового бытия и достижением лишь культурной ценности. Теург творит жизнь в красоте. … Новое искусство должно привести к теургии. Теургия – знамя искусства последних времен, искусства конца»189.
«Теургическая эсхатология» Бердяева возникает не на пустом месте. Один из его прообразов – «небесная церковь» Хомякова, в ней, как и у Бердяева, снимается противоречие, например, между свободой и иерархией. Теургизм бердяевского типа, как уже отмечалось, свойственен экклезиологическому видению митрополита Антония, основанному на образе пастыря – «доброго сверхчеловека». Менее заметена теургическая установка в христианской персонологии и экклезиологии Г. Флоровского, но не будет ошибкой сказать, что Флоровский (критиковавший Бердяева как никто другой, прежде всего за нехристианский характер его философии) предлагает христианизированный вариант бердяевской же персонологии и философии творчества190, и тема церкви играет здесь ключевую роль. В образе церкви этот мотив идет еще от славянофилов, осуществляется синтез философии, религиозной традиции, истории и культуры, соответственно, анализ реальности культуры неразрывно связывается с экклезиологической проблематикой, а для Флоровского экклезиология еще и своего рода оптика для анализа феноменов культуры и философии.
Весь комплекс мотивов можно найти в программной для довоенного творчества Флоровского статье 1929 года «Метафизические предпосылки утопизма». Утопия, по Флоровскому, это вечное искушение европейского человечества, при этом «общественный утопизм» – только верхушка айсберга, корень его – в утопическом сознании или опыте, имеющем исток в хилиазме – религиозном представлении о царстве истины и справедливости на земле. Утопическая вера «включает в себя допущение, что во времени возможно полное исчезновение противоположности “должного” и “действительного”, и, тем самым, преодоление и устранение категории задания. Иными словами, это утверждение возможности “идеала” как части эмпирической действительности, как объективно-данной среды, как состояния и явления естественного, исторического мира. Это можно назвать этическим натурализмом, это принципиальное приравнивание ценности и факта»191. Утопизм не только установка сознания, он реален как самосознание культуры и ее ценностный горизонт: «Опыт есть реальное предметное касание, “выхождение из себя”, встреча, общение и сожительство с “другими”, с “не-я”. … Человек не “строит”, не “порождает”, не “полагает” свой мир, – он его находит. Мир дается, открывается познающему субъекту. Но дается он не с однозначной, принудительной, порабощающей необходимостью. Мы должны как бы откликаться на предметные зовы, и в открывающемся творчески и ответственно разбираться, совершать отбор. В этом изначальном волевом избрании мы не стеснены безысходно ни нашим врожденным характером, ни наследственными предрасположениями, ни житейской обстановкою. В этом первичном самоопределении – метафизический корень личности, живое средоточие ее бытия. Ибо человек живет не в уединении, не в монадическом затворе, и не из самого себя черпает для жизни силы. … В строении и складе избранного предметного мира и заключается последнее основание внутреннего строя соответственного мировоззрительного исповедания. Это – не столько автопортрет или рассказ о самом себе, сколько описание возлюбленных человеком сокровищ, воспринятых, претворенных им и “усвоенных”. И, вопреки известному фихтевскому афоризму, можно сказать, что не человек определяет философию, а философия человека: каков, кто человек зависит от того, какой мир избрал он для своего обитания, что возлюбил он паче, во что погружена, чем живет и движется его душа...»192.
Евхаристическая экклезиология протопресвитера Николая Афанасьева и «теургические» интуиции Серебряного века
Как и прот. Георгий Флоровский, прот. Николай Афанасьев ответом на церковные и общественные потрясения XX века видел возвращение к богословскому преданию Древней церкви. Если Флоровский делал акцент на интеллектуальном ресурсе святоотеческого богословия, то прот. Николай Афанасьев исходил из богословия таинств, из сакраментологии. Экклезиология Афанасьева по сей день приковывает к себе внимание исследователей, однако в литературе, посвященной этому автору, сохраняется вопрос, до сих пор не нашедший однозначного решения: что же для создателя «евхаристической экклезиологии» послужило своеобразным источником вдохновения? Теологические истоки (концепция Р. Зома) или религиозно-философский след, связанный с влиянием Сергия Булгакова?.. При всей зависимости Афанасьева на первом этапе разработки своего подхода, как от первого, так и от второго, сам факт влияния все же видится недостаточной основой для самой известной версии православной экклезиологии в XX веке.
Очевидно, определившую многое в концепции Афанасьева интуицию следует искать среди феноменов отечественной культуры рубежа веков. И прежде всего, в концепции искусства как мистериального действа, популярной среди творцов Серебряного века. Ее появление в конце XIX в. связывают с творчеством Р. Вагнера и Ф. Ницше217. Вагнер видел свое искусство своеобразным синтезом традиционных жанров (театр, по его замыслу, должен стать мистериальным действом). Ницше усилил связь театра Вагнера с древнегреческой трагедией, с театром Диониса, сконцентрировав внимание на самом Дионисе – выразителе ночной оргиастической, внеморальной и сверхчеловеческой стихии. С подачи Ницше Дионис и Аполлон стали олицетворениями античной культуры в двух ее основных полюсах: космическом – рациональном – индивидуализирующем и хаотическом – иррациональном – сверхиндивидуальном. Ницше был одним из самых популярных авторов русского Серебряного века, влияние его идей и образов настолько обширно, что нет ни одного писателя, поэта, художника или философа, чье творчество не было бы им затронуто напрямую или же косвенно. Одним из русских ницшеанцев был поэт, исследователь античной культуры, теоретик искусства В.И. Иванов. Концепция мистериального искусства Вячеслава Иванова является существенной параллелью к евхаристической экклезиологии Афанасьева и своего рода ее эквивалентом в пространстве культуры, а понимание церкви у Афанасьева – эквивалентом мистериальной утопии Иванова218, воплощенной на православной почве. Прежде всего, отметим неслучайные черты сходства двух концепций: и Иванов, и Афанасьев начинают с реконструкции древней мистериальной практики, у Иванова это дионисизм и орфизм, у Афанасьева – раннехристианская (I-III вв.) евхаристическая мистерия. Иванов и Афанасьев соединили два мотива. Первое – мистериальное единство, не знающее границ и регламентации, моральной или правовой219 (этот мотив идет от Ницше): божественное и человеческое, сакральное и профанное соединены нераздельно220. Второе – мистериальную общинность, ее Вяч. Иванов, ссылаясь на Хомякова, и называл соборностью. Сочетание Ницше с Хомяковым в творчестве Иванова кажется странным парадоксом: что может связывать «антихристианина» с соблюдавшим все посты Алексеем Степановичем Хомяковым? Связь – в европейской романтической традиции, ей принадлежали немецкий философ и русский славянофил. Антихристианство Ницше и православие Хомякова имеет точку соприкосновения в неприятии и тем и другим «буржуазной» серединности, обывательского партикуляризма, связанного с индивидуализмом и его утверждением в европейской культуре того времени. Сверхчеловек Ницше, как и сверхчеловеческая, сверхиндивидуальная соборность Хомякова, сочетались у Иванова еще и благодаря идее возрождения трагического театра. Театр в его современном виде, наличие рампы, разделение зрительного зала на актеров и зрителей, публику, отрицал не только Вяч. Иванов, но он, пожалуй, наиболее последовательно связывает идею «дифирамбического хора», «соборного театра» с древнегреческой мистериальностью и православной церковностью221. Иванов противопоставляет «легион» «соборности»: «Так и человеческое общество, ставя своим образцом Легион, должно начать с истощения онтологического чувства личности, с ее духовного обезличения. Оно должно развивать, путем крайнего расчленения и специализованного совершенствования, функциональные энергии своих сочленов и медленно, методически убивать их субстанциальное самоутверждение»222. Легко заметить в определении «легиона» влияние А.С. Хомякова, правда, у Вяч. Иванова оно не связано напрямую с католицизмом, но образ механистического единства представлен достаточно полно.
Соборность у Иванова, как и у Хомякова, «органична», при этом она усилена мотивом, которого нет у Хомякова, но он появится и станет центральным у Афанасьева: мистериальным, жертвенным средоточием, описанным скорее в христианских, чем дионисийских подробностях. В статье «Две идеи Вселенской церкви» 1934 года Афанасьевым формулируются два принципа экклезиологии, в этих рамках он пытается конкретизировать свое видение церкви: «Семнадцать веков тому назад один из величайших западнохристианских писателей Киприан писал: «una ecclesia per totum mundum in multa membra divisa est». (Ep. 55). Это означает, что единая Христова церковь, мистическое тело Христа, в эмпирическом аспекте своего существования разделена на отдельные церкви, церковные общины. Это понимание Вселенской церкви возникло под влиянием известного места из послания апостола Павла к Коринфянам: «Ибо как тело одно, оно имеет многие члены, и все члены одного тела, хоть их и много, составляют одно тело, так и Христос, ибо все мы одним Духом крестились в одно Тело, иудеи или эллины, рабы или свободные и все наполнены одним духом… и вы Тело Христово, а порознь – члены» (1 Кор. 12,13-27). То, что было сказано об отдельных индивидуумах, было перенесено Киприаном на местные общины ... для Киприана вселенская церковь, как единое тело Христово, а, следовательно, как целое, существует ранее своих частей – отдельных церковных общин, тем не менее при его понимании вселенской церкви первично должна восприниматься не целость и единство вселенской церкви, а её отдельные члены. В этом заключался основной недостаток перенесения учения ап. Павла об отдельных членах церкви на целые церковные общины»223. Афанасьев фиксирует в этом переносе первый шаг «универсальной экклезиологии», говоря языком Вяч. Иванова, перед нами случай «истощения онтологического чувства личности». «Киприановская модель», где «целое существует ранее своих частей», будет предметом критики Афанасьева и это совершенно не случайно, дело в том, что Афанасьев, как и Флоровский, противник «универсализма», диктата «отвлеченных начал» (тот же мотив мы видели у В. Лосского). Церковная реальность принципиально не сводима к «организации», уникальность, личностность и свобода для нашего автора такие же незыблемые ценности, как и для Н. Бердяева.