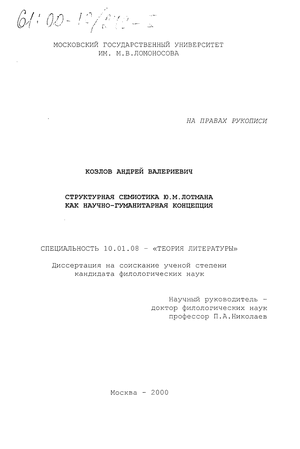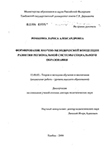Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Специфика и строение научно-гуманитарного знания 13
1.1. Специфика гуманитарного знания 13
1.2. Строение научно-гуманитарного знания 44
Глава 2. Структурно-семиотическая концепция Ю.М.Лотмана 91
2.1. Исходные принципы структурной семиотики Ю.М.Лотмана 91
2.2. Модели в структурно-семиотических исследованиях Ю.М.Лотмана 100
2.3. Научные итоги структурно-семиотических исследований Ю.М.Лотмана 15 D
Заключение 168
Библиографический список использованной литературы 173
- Специфика гуманитарного знания
- Строение научно-гуманитарного знания
- Исходные принципы структурной семиотики Ю.М.Лотмана
- Модели в структурно-семиотических исследованиях Ю.М.Лотмана
Введение к работе
АКТУАЛЬНОСТЬ выбранной темы обусловлена отсутствием достаточно детального изучения методологических и философских оснований научной деятельности Тартуско-московской семиотической школы (ТМСШ), что отмечено как самими участниками ТМСШ, так и другими литературоведами. Так, Б.А.Успенский указывал ещё в 1981 году: "Абстрактной методологией семиотического анализа мы в общем не занимаемся" [75, с.278]. Ю.И.Левин в начале 90-х годов писал: "Даже не возникал вопрос о философской базе семиотических исследований (ср. ситуацию во Франции и Италии)" [41, с.309]. Ещё один участник ТМСШ - В.Н.Топоров - написал в это же время: «Сами основы не дождались должного внимания к себе: они закладывались "по-русски", кое-как, на первое время, пока до поры, которая так и не наступила» [72, с.340]. Аналогичное высказывание сделано и М.Л.Гаспаровым [14, с.302]. Таким образом, сами создатели новой научной парадигмы - как определяют методологию ТМСШ С.Ю.Неклюдов [58, с.323] и В.Н.Топоров [72, с.341] -признают существующую до последнего времени неразработанность философско-методологических основ внутри самой ТМСШ. Восполнение пробела в определении методологических основ ТМСШ необходимо для более взвешенного анализа научных результатов деятельности ТМСШ и Ю.М.Лотмана как основоположника школы, а также для развития рефлексивной сферы литературоведческой науки в целом. Выбор для анализа отдельной концепции Ю.М.Лотмана обусловлен не только тем, что именно им внесён наибольший вклад в становление и развитие структурно-семиотического изучения
4 литературы в нашей стране, но и отсутствием в ТМСШ единой методологической доктрины (подробнее см. ниже).
С другой стороны, необходимость решения данной проблемы делает актуальным выработку общей методологии анализа конкретных литературоведческих концепций, построение абстрактной модели, которая должна служить инструментом изучения таких концепций. Кроме того, история развития гуманитарного знания вообще, стремление его к научности и история развития структурной семиотики в частности делают актуальным выработку представлений о формах сочетания научно-теоретической и гуманитарной составляющих в рамках той или иной научно-гуманитарной концепции.
Среди работ, посвященных структурной семиотике Лотмана, преобладают такие, в которых анализируется какой-либо один аспект или проблема, но нет развёрнутого анализа методологии и эпистемологического фундамента концепции, а также анализа этой концепции как целостной научно-гуманитарной теории.
Так, в статье Р.Лахман "Ценностные аспекты семиотики культуры/семиотики текста Юрия Лотмана" [40, с. 192-214] рассматриваются скрытые в кибернетической терминологии учёного оценочные суждения о различных типах семиозиса культуры и делается верный вывод, согласно которому высокую положительную оценку получают состояния "неполной упорядоченности" структуры, благодаря которым сохраняется её гибкость и богатство внутренних возможностей. Важны также указания Р.Лахман на сходство некоторых положений концепции Лотмана с идеями А.А.Потебни, В.Н.Волошинова и Ю.Кристевой, однако не раскрыта принципиальная разница моделей Лотмана и концепций указанных авторов.
В статье П.Гржибека "Бахтинская семиотика и Московско-Тартуская семиотическая школа" [17, с.240-259] автор утверждает, что семиотика Бахтина тяготеет к "высказыванию", а семиотика Лотмана - к "языку". Правильнее
5 считать, что семиотика Лотмана текстоцентрична, но не лингвоцентрична, хотя несмотря на это в ней исследуется не порождение высказывания как реализация содержания в форме (семиотика Бахтина), а т.н. смыслопорождение как имманентный процесс в знаковых системах самих по себе.
В статье Г.С.Кнабе "Знак. Истина. Круг (Лотман и проблема постмодерна)" [32, с.266-278] содержится ряд глубоких наблюдений над культурно-психологической стороной научной деятельности учёного и высказывается верная мысль о том, что вместе со стремлением Лотмана к преодолению догматичности истины и обнаружению более живых и гибких её форм у него нет попыток отказа от самих понятий истины и науки, что свойственно постмодернистскому мышлению. Однако конкретные формы, в которых отражается эта позиция Лотмана, не показаны и не анализируются.
В статье "За текстом: Заметки о философском фоне тартуской семиотики (Статья первая)" [44, с.214-222] М.Ю.Лотман (сын Ю.М.Лотмана) проводит мысль о глубинном воздействии идей И.Канта на формирование парадигмы тартуского структурализма, доказательством чего является, по его мнению, аналогичность "вещи в себе" "чёрному ящику" как ключевому методу кибернетики. Заметим, что "чёрный ящик" аналогичен скорее "вещи для нас", а не "вещи в себе", и, кроме того, нельзя согласиться с тем, что текст был для Лотмана "чёрным ящиком", так как именно внутренний механизм получения новых сообщений исследовал и моделировал учёный. Вместе с тем, высказывается ряд верных тезисов: о текстоцентричности семиотики Лотмана, о её близости идеям В.Гумбольдта, о пересмотре Лотманом якобсоновской схемы коммуникации. Однако статья, по признанию её автора, не может претендовать на полноту и системность в определении философских основ концепции Лотмана.
В статье П.Торопа "Тартуская школа как школа" [73, с.223-239] подход Лотмана справедливо определяется как системный и указывается на
индивидуальный характер методологии составляющих школу учёных при общности структурно-системного мировосприятия и семиотизующего мышления, но и отсутствии единой методологической доктрины.
В.С.Библером в статье "Ю.М.Лотман и будущее филологии" [13, с.278-286] верно указывается на один из главных научных результатов семиотики Лотмана -открытие закона условно-адекватного перевода, обуславливающего главный смысл семиозиса - выработку новых сообщений. Однако обе указанные статьи не содержат развёрнутого анализа концепции Лотмана.
Г.Г.Амелин и И.А.Пильщиков в статье "Семиотика и русская культура" [6, с.45-56] утверждают, что семиотика позволила русским гуманитариям на время уйти от историософского универсализма к научному мышлению, хотя последовавший в итоге "переход русской семиотики к семиотике культуры (и истории) знаменовал превращение её в модернизированный тип русского историософствования и утрату той независимости от русской культуры, которая составляла едва ли не главное достижение семиотической мысли" [с.51]. Трудно согласиться с этим утверждением применительно к концепции Лотмана, согласно которой в истории огромное значение имеет случай. Лотман, на наш взгляд, умел оставаться научно беспристрастным, следуя логике своих моделей, но не традиционным для русского мышления темам. Этим же можно возразить и на статью "Модели будущего в русской культуре" [59, с. 131-144] Ж.Нива, который видит в моделируемых Лотманом объективно существующих типах отношений -"договоре" и "вручении себя" - "старую славянофильскую концепцию" [с. 134].
М.Ю.Лотман в статье "Структура и свобода (Из заметок о философских основаниях Тартуской семиотической школы)" [45, с.81-100] трактует проблематику свободы в работах Лотмана, допуская вслед за отцом ошибку, в результате которой понятие свободы как осознанной (личностью) необходимости сравнивается со сконструированным при помощи моделей Лотмана понятием свободы как способности сложной системы к непредсказуемому поведению,
7 тогда как эти две свободы не являются сравнимыми понятиями (подробнее см. гл.2).
Статья М.Л.Гаспарова "Лотман и марксизм" [15, с.415-426] содержит ряд верных наблюдений над методологией Лотмана. Так, отмечается, что "человеческая личность для Лотмана не субстанция, а отношение, точка пересечения социальных кодов" [с.423] и что "человек у него, как фонема, складывается из дифференциальных признаков, в нём можно выделить все пересекающиеся культурные коды" [с.424], что "Лотман умел отлично делать ... анализ безличных механизмов культуры" [с.424]. Следует особо выделить мысль Гаспарова о наследовании Лотманом пафоса строгой научности из марксизма (без его идеологической догматики) [с.425-426]. Однако при этом говорится о прямолинейном заимствовании Лотманом диалектики, материализма и историзма, что неверно, так как диалектика и материализм получали в концепции Лотмана специфическую - семиотическую, кибернетическую - интерпретацию, а традиционный историзм даже подвергался критике. Впрочем, под историзмом Гаспаров понимает прежде всего присущую Лотману строгость в реконструкции исторических реалий прошлого, умение занять точку зрения автора, но не принцип, при котором явления понимаются в их становлении и развитии и в органической связи с порождающими их условиями. (О пересмотре традиционного историзма Лотманом см. гл.2.)
В посвященной концепции Лотмана статье "Семиосфера и история" [26, c.VII-XIV] Вяч.Вс.Иванов указывает на стремление Лотмана к созданию объединяющей теории, которая включала бы наряду с историей общества и культуры т.н. естественную историю [с.VIII], чем и объясняется изначальный интерес учёного к проблемам, обсуждавшимся прежде всего учёными-естественниками, а не гуманитариями [с.ГХ], а также постоянные обращения Лотмана к новейшим исследованиям в негуманитарных науках [с.Х]. Иванов справедливо говорит о сомнительности методологического новшества Лотмана в
8 изучении истории, состоящего в задаче реконструкции всего многообразия возможных на определённый момент времени событий [с.XIII]. Статья носит очерковый характер и не даёт полного представления о концепции Лотмана.
Важное и верное замечание содержится в статье "Парадокс Лотмана" Р.Г.Григорьева и С.М.Даниэля [18, с.5-12]: в рамках семиотического искусствознания и культурологии Лотман по существу сформулировал принцип, аналогичный концепции И.Пригожина, хотя и ссылался на неё как на источник новых для гуманитарных наук идей.
Наиболее обширным исследованием творчества Ю.М.Лотмана является на сегодняшний день книга Б.Ф.Егорова "Жизнь и творчество Ю.М.Лотмана" (1999). В ней предпринят опыт всестороннего анализа методологии учёного на фоне рассказа о его личности, жизни и научной деятельности. Однако по разделам книги, посвященным анализу теоретических исследований учёного, трудно составить полную и во всём убедительную картину методологии Ю.М.Лотмана, хотя в них содержится ряд верных и глубоких наблюдений. Так, оправдан опыт анализа теоретических работ Лотмана сквозь призму трёх аспектов семиотики. Однако такой подход остался строго не выдержан и не со всеми конкретными выводами Б.Ф.Егорова можно согласиться: трудно признать оправданным рассмотрение структурализма (противопоставленного положениям теории информации и всей кибернетики) лишь как определённого аспекта семантики [24, с.94], ведь структурный анализ является универсальным объяснительным методом. Справедливо указание на то, что в функциональном подходе Лотман стремился отделять функцию от её источника, от текста [с. 137].
В книге есть множество положений, требующих уточнения. В частности, утверждается, что "пафос историзма и диалектики проник в самые основы мировоззрения молодого учёного [Ю.М.Лотмана. - А.К.]; на диалектике будут строиться потом и многие теоретические лотмановского структурализма. <...> Нигде Лотман не отказывается от Гегеля..." [с.252]. Нужно добавить, что
9 традиционный историзм, понимаемый как каузально-генетическое рассмотрение исторического явления и выстраивание жёстких причинно-следственных цепей, на самом деле Лотманом критиковался, в т.ч. в связи с системой Г.В.Ф.Гегеля [см. 50, т.1, с.465; 48, с.315]. Отказ от каузального детерминизма в пользу детерминизма имманентного обусловил и своеобразие диалектики Лотмана, которая по сути превратилась в моделях учёного в задание динамики как абстрактного параметра; глубинный источник динамики, развития в чисто семиотическом подходе Лотмана просто не мог быть отражён [более подробно см. гл.2].
В силу сказанного трудно согласиться с утверждением Б.Ф.Егорова о сходстве и даже совпадении метода, анализа и взглядов М.М.Бахтина и Ю.М.Лотмана [с.246]. По нашему мнению, подходы этих учёных к изучению литературы принципиально различны, что следует из критики формализма и структурализма самим М.М.Бахтиным (см., напр., [11, с.372]) и из сравнительных исследований (см., напр., указ. соч. Р.Лахман [40, с.201-202]).
Таким образом, почти все рассмотренные работы не могут претендовать на полноту анализа, и, кроме того, вместе с точными и справедливыми выводами нередко содержат не совсем верные или даже ошибочные утверждения. Для развёрнутого анализа авторы почти не используют выработанные в теории познания методы изучения научных концепций.
Поэтому в диссертации преследуется двойная ЦЕЛЬ: 1) выработать общие формально-теоретические представления о научно-гуманитарной концепции и на этой основе 2) осуществить методологический анализ структурной семиотики Ю.М.Лотмана.
Указанная цель обуславливает следующие ЗАДАЧИ:
1) изучить вопрос о специфике гуманитарного знания;
2) на основе этого выработать модель строения научно-гуманитарного
знания и научно-гуманитарной концепции как формы этого знания;
3) применить полученную модель в методологическом анализе структурно-
семиотической концепции Ю.М.Лотмана.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ исследования стали современные представления гносеологии, философии науки и методологии гуманитарного познания и сопутствующих дисциплин о научной теории как форме научного знания, его строении и специфике различий между собственно гуманитарным знанием и научно-теоретическим знанием в целом.
МАТЕРИАЛОМ для исследования служат труды Ю.М.Лотмана, его ближайших единомышленников и критиков, научные работы, так или иначе связанные с общими вопросами методологии науки, гуманитаристики и методологии литературоведения (в частности, работы М.Фуко, М.М.Бахтина, Р.Барта, П.Рикёра, А.Ф.Лосева, Ю.Кристевой, Н.С.Автономовой, В.В.Курилова, У.Эко, Г.К.Косикова и др.).
НОВИЗНА исследования, по мнению автора, состоит в применении обобщённых представлений о специфике и строении научно-гуманитарного знания в ходе анализа конкретной литературоведческой системы взглядов Ю.М.Лотмана и её методологических оснований с целью придания такому анализу необходимой концептуальное и развёрнутости.
Кроме того, в процессе содержательно-методологического анализа уточняются исходные принципы структурной семиотики Ю.М.Лотмана, определяется значимость полученных теоретических и практических результатов структурно-семиотических исследований Ю.М.Лотмана с точки зрения развития и углубления литературоведческого и общегуманитарного знания.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ исследования заключается, по мнению автора, в попытке развития методологии литературоведения как сферы само-
сознания этой дисциплины, что благодаря выработке конкретных представлений о научно-гуманитарной концепции как форме научно-гуманитарного знания определяет и практическую ценность проведённого исследования, которое таким образом может послужить основой для разработки более совершенных методик изучения литературоведческих и научно-гуманитарных концепций. Вместе с тем, исследование, как считает автор, даёт более концептуальное представление о структурной семиотике Ю.М.Лотмана.
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ осуществлялась в форме докладов и сообщений на конференциях, научных чтениях, днях науки и заседаниях аспирантских объединений, проходивших на филологическом факультете МГУ.
НА ЗАЩИТУ ВЫНОСИТСЯ положение, в котором утверждается, что входящие в научно-гуманитарную концепцию собственно гуманитарная и научно-теоретическая составляющие с необходимостью принципиально противоречат друг другу, так как выделяют в своём объекте - человеке и/или произведении его творчества - принципиально несовместимые предметы познания. Поэтому по своему методологическому содержанию литературоведческая концепция может быть либо чисто гуманитарной (с необходимыми элементами эмпирической методологии), либо чисто научно-теоретической, либо эклектичной.
В структурно-семиотической концепции Ю.М.Лотмана была предпринята попытка построения строго научной теории, призванной адекватно отразить сугубо гуманитарный объект исследования и тем самым разрешить на практике отмеченное выше противоречие.
Утверждается, что изначально в методологических основаниях концепции Ю.М.Лотмана заложены такие положения, которые коренным образом отличаются от исходных принципов французского структурализма. В частности, образцом для лотмановских моделей послужила модель коацерватных капель академика А.И.Опарина и представление о биосфере В.И.Вернадского, что стало
12 проявлением общей кибернетической и естественно-научной ориентированности методологии Ю.М.Лотмана, привело к пониманию структуры как системы и позволило включать при моделировании динамический аспект и рассматривать моделируемые объекты как открытые системы, подчиняющиеся универсальным структурным законам.
Утверждается, что теоретические и практические результаты структурно-семиотических исследований Ю.М.Лотмана имеют значение прежде всего для научно-гуманитарных культурологических исследований в целом и только вследствие этого для самого литературоведения. Указывается на недостатки теоретических моделей и ошибочность некоторых выводов учёного как с точки зрения собственно гуманитарного, так и научно-теоретического.
Показывается значительная обусловленность методологических оснований концепции Ю.М.Лотмана социокультурным контекстом, существовавшим в Советском Союзе в 60 - 70 годах, каковая обусловленность заключалась не только и не столько в неприятии идеологизированной науки, сколько в активном приятии царившего в то время пафоса освоения и преобразования действительности с помощью естественных и логико-математических наук.
Указывается на наличие некоторого сходства между научными результатами исследований Ю.М.Лотмана и основными положениями постструктурализма при имеющих место принципиальных различиях этих двух научных парадигм.
СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, двух глав, в первой из которых проводится изучение вопроса о специфике и строении научно-гуманитарного знания, на основе чего во второй главе анализируется структурно-семиотическая концепция Ю.М.Лотмана, заключения и библиографического списка использованной литературы.
Специфика гуманитарного знания
В настоящем параграфе изучается вопрос о специфике гуманитарного знания, его принципиальных отличиях от знания научно-теоретического.
Началом истории вопроса о специфике гуманитарного знания можно считать идущее ещё от В.Дильтея и главных представителей баденской школы неокантианства разделение "наук о духе" и "наук о природе". По Г.Риккерту, первые "изучают объекты, отнесённые к всеобщим культурным ценностям", вторые "видят в своих предметах бытие и бытование, свободное от всякого отнесения к ценности, цели их - изучить общие абстрактные отношения, по возможности законы, значимость которых распространяется на это бытие и бытование" [67, с. 142]. Различны их методы: "науки о природе" генерализируют, подводят факты под всеобщие законы; "науки о культуре" - индивидуализируют. По В.Виндельбанду, науки следует различать именно по их методам на "номотетические" и "идеографические". В.Дильтей различие между естествознанием и "науками о духе" определил так: "Первейшим отличием наук о духе от естествознания служит то, что в последних факты даются извне, при посредстве чувств, как единичные феномены, меж тем как для наук о духе они непосредственно выступают изнутри, как реальность и как некоторая живая связь. Природу мы объясняем, а дух мы постигаем". И далее: "В области душевной жизни факты не могут достичь степени точной определённости, необходимой для проверки теории путём сравнения вытекающих из неё выводов с этими фактами" [23, с.8-9]. Таким образом, предложенный Дильтеем для "наук о духе" метод - герменевтика, а главный инструмент в нём - понимание. По словам Г.К.Косикова, одно из обычных возражений на такое обоснование гуманитарных наук и их научности состоит в том, что понимание не есть познание, так как познание предполагает сравнение, наличие контекста познания, в котором рассматривается объект и его специфика [34, с.20].
В монографии "Теория познания. Эпистемология" (1994) В.В.Ильин так раскрывает эпистемологическую контроверзу "естествознание - об-ществознание", берущую начало в идеях Виндельбанда: "Номотетическое естествознание преимущественно исследует законы, занято поиском объяснений, прибегает к абстрагированию, типологизирует реальность через связку "всегда-везде", выявляет тенденции, исходит из инвариантов (отношений тождества), нацелено на генерализацию, тогда как идиографическое социальное знание по сути своей фактофиксирующе, описательно, упорядочивает действительность посредством схемы "однажды-некогда", довольствуется наглядностью, погрязает в однократности, индуцируется становлением, ориентировано на индивидуализацию" [27, с.20].
Далее Ильин комментирует наиболее характерные тематизации данного противопоставления, существующие в теории познания.
Гносеологический романтизм дискредитирует "точную" науку посредством мечтательно-приподнятого возвеличивания гуманитаристики. «От Шопенгауэра к Бергсону, Шелеру и далее Ясперсу крепнет и упрочивается специфическое понятие недискурсивности гуманитарного знания, индуцируемого "полнотой переживания жизни"» [27, с.21]. Подобная позиция, по мнению Ильина, поддается явной и ясной критике. Во-первых, мир истории и мир природы - в силу биосоциальности человека, антропогенетичности биосферы, по ходу социогенеза трансформирующийся в ноосферу, - не два несостыкуемых мира; непременную их синхронизацию осуществляет высокоадаптивный механизм цивилизации, перерабатывающий вещество природы в вещество истории и обратно (становление антропо-техно-социо-натурного комплекса как многомерной динамичной среды нетрадиционного типа). Во-вторых, внутренний (изучаемый гуманитаристикой) и внешний (анализируемый натуралистикой) опыты человека не противополагаемы: с одной стороны, потенциал интроспекции, вдохновения, вчувствования, сопереживания, духовного прорыва к реальности свойственен человеку вообще, и нет никаких резонов смещать приоритеты его (потенциала) использования в сторону лишь с головой ушедшего в гуманитаристику человека; с другой стороны, гиперболизация герменвтических ресурсов, наделение их какой-то исключительностью в освоении сущностной плоти materia humana само по себе безосновательно: ниоткуда не вытекает, что герменевтика и только она располагает монополией достижения истины.
Эпистемологический редукционизм включает различные конкретные варианты: физикализм, физиологизм, энергетизм, бихевиоризм и др. Заключается в интенции на переформировку вопросов гуманитарного знания на языке более "глубокого" естественно-математического.
Гносеологический унитаризм акцентирует родовую единообразность науки, которая основывается на сущностной гомогенности познавательных актов, процедур, принципов генерации, трансляции и демонстрации единиц знания, отвечающих общим критериям научности. Сюда входят приемы и способы рационально-дискурсивного логически и практически обоснованного освоения и удостоверения истины (формально-логическая непротиворечивость, каузальность, критикуемость, общезначимость, опытная адаптированность и др.).
Строение научно-гуманитарного знания
В настоящем параграфе изучается вопрос о структуре научно-гуманитарного знания и о научно-гуманитарной концепции как форме этого знания.
Понимание как метод гуманитарных наук научным в строгом смысле этого слова не является, поэтому возникает вопрос о том, как должно быть устроено гуманитарное знание, чтобы его можно было считать пригодным и адекватным своему предмету? Какова специфика строения гуманитарного знания?
В научном знании принято выделять два уровня: эмпирический и теоретический. В первом находятся реальные объекты, представленные со стороны той практики, в которую они включены, а также эмпирические объекты и знания, получаемые из реальных путем их идеализации, схематизации, моделирования.
В теоретическом слое выделяются идеальные объекты и теоретические знания, а также различные теоретические процедуры (доказательства, систематизация, построение теории и т.д.) [69, с. 13]. Идеальные объекты специфицируются не относительно определенной практики, а относительно идеальной действительности - законов природы. Идеальный объект полностью удовлетворяет законам природы. Теоретические знания - это знания об идеальных объектах, которые получают или в процессе преобразования одних идеальных объектов в другие (сведение новых случаев к уже познанным, или при особой теоретической обработке эмпирических знаний (путь снизу, от практики), или интерпретации определенных "внепредметных" знаний (ассимилированных из других наук или научных предметов либо из "оснований наук" - путь сверху) [69, с. 14].
Используя данную двухслойную схему строения научного знания, можно сказать, что собственно гуманитарное знание в эту схему не вписывается. Если на эмпирическом уровне предмет гуманитаристики возможен (возможно конституировать как объект для внимания все то, что является проявлением внутреннего мира человека как социального существа, что так или иначе принадлежит контексту общечеловеческой культуры; здесь возможна первичная систематизация, накопление фактов, обобщение исходного материала, его описание и т.д.), то уже на теоретическом уровне специфический предмет гуманитарных наук - человек и мир его представлений - неизбежно растворяется, редуцируется, так как теоретическое объяснение заключается прежде всего в установлении объективных законов, общих и необходимых связей и отношений, которым подчиняется объект изучения.
Этот уровень возможен в познании, которое направлено на раскрытие надындивидуальных и доиндивидуальных закономерностей и отвлечено от индивидуальных отличий. Можно сказать, что понимание как метод гуманитарных наук не нуждается в теоретизации, т.е. в объяснении того, кто или что понимается. Потребность в объяснении может возникнуть в ситуации непонимания, когда происходит столкновение с иной культурой, эпохой, традицией. Но такое объяснение неких неизвестных ранее культур предстает как изучение языка этих культур, содержание же "высказываний" на этом языке после его усвоения не может не быть понятным, так как это содержание принадлежит общечеловеческой реальности. Человек любой культуры может быть понят как личность, как агент действия, проявляющий инициативу в общем течении событий, способный, таким образом, ответственно поступать. Необходимо только знать язык, код, который сделает возможным понимание поступков, действий этого человека.
Эмпирический слой науки предполагает некоторую предварительную концептуализацию своего объекта со стороны определенного опыта и практики, в которые вовлечен объект [80, с.25]. С этой точки зрения объект гуманитарных наук трудно специализировать, так как он совпадает с тем, что представляет собой сфера человеческой культуры: т.е. гуманитарные науки призваны изучать то, чему человек причастен в силу своей социальной природы, что усваивается, переживается и творится им самим в процессе социально-культурной практики. В этом отношении познание в гуманитаристике может быть и самопознанием, углублением самопонимания и, как следствие, понимания других.
Эту особенность гуманитаристики Г.Д.Гачев формулирует следующим образом: "В гуманитарных науках есть эта равнообъемность объекта и субъекта познания: человеческий дух и культура, им созданные, познаются человеческим же духом и культурой; и сам акт такого познания есть новый акт творчества в человеческом космосе, строительстве духа и культуры" [16, с. 123]. Иначе говоря, всякое понимание в сфере человеческого духа и культуры есть расширение самопонимания и понимания, наполнение смыслом все большего числа проявлений человеческого духа. Но вместе с тем такое расширение самопонимания и понимания имеет свои внутренние пределы, обусловленные природой человеческого сознания. Чем глубже проникновение исследователя в сферу того, что определяет сознание, что выходит за сферу осознания, тем дальше этот исследователь от границы, на которой понимание переходит в объяснение. В этом отношении тезис Бахтина, Фуко, Рикера и других о ненаучности собственно гуманитарных наук справедлив.
Исходные принципы структурной семиотики Ю.М.Лотмана
Работы Ю.М.Лотмана можно разделить на два класса. К первому относятся историко-литературные работы, лишённые целей концептуализации исходного материала. Второй класс составляют работы теоретического характера, в которых литературный объект предстаёт в идеальном, моделированном виде.
Нужно отметить, что не всегда использование структурно-семиотической терминологии свидетельствует о действительно теоретическом характере работы. Содержание таких работ может быть без ущерба переформулировано на традиционный язык историко-филологического исследования.
Проблема результативности структурно-семиотических исследований существует с момента их появления. Так, А.Жолковский и Ю.Щеглов, сами активно использующие структурно-семиотические методы, отмечали ещё в 1967 году: «К сожалению, некоторые тенденции структурной и семиотической мысли в поэтике дают резонный повод для сарказмов. Применение всей гаммы "современных" понятий, начиная от "знака" и "молекулярного уровня" и кончая "глобальной моделью", "моделирующей системой" и "семиотическими экспериментами", часто не идёт дальше более или менее хитроумной транслитерации банальных или приблизительных представлений» [25, с.89]. Частичная справедливость этого утверждения заставляет более строго подходить к оценке научных результатов исследований Ю.М.Лотмана.
При изучении теоретико-литературоведческой концепции важно различать используемую в ней методику исследования и встающую за ней методологию.
Под первой вслед за Г.К.Косиковым мы будем понимать приёмы и технические способы анализа материала, под второй - комплекс исходных принципов понимания и изучения объекта, определяющих содержание создаваемой теории [34, с.46]. Структурный анализ может использоваться в самых различных методологиях и при изучении объектов различной природы, тогда как конкретная методология формирует конкретную целостную теорию и её объект.
Поэтому необходимо конкретизировать, что в методологии Лотмана понимается под структурно-семиотическим изучением литературы, раскрыв исходные установки этой методологии, или её исходные принципы. Последние выступают как предпосылки познания и определяют всё строение концепции [см. 39, с.31-32].
Прежде всего следует отметить, что принцип структурности в исследованиях Лотмана неразрывно связан с близким понятием системности, а последнее включает в себя такие черты, как уровневое строение (изоморфизм) и диалектичность. Так, уже в первых строчках программных "Лекций по структуральной поэтике" Лотман определяет структуру как единство, состоящее из более простых элементов и само входящее как часть в более сложное единство. Здесь же Лотман добавляет: "...Для понимания явления недостаточно изучать его изолированную природу - необходимо определить его место в системе"[49, с. 17]. Лотман неоднократно подчёркивает системность, диалектичность и уровневое строение как главные принципы структурализма и в своей программной статье "Литературоведение должно быть наукой" (1967): "Методологической основой структурализма является диалектика"; "Одним из основных принципов структурализма является отказ от анализа по принципу механического перечня признаков: художественное произведение не сумма признаков, а функционирующая система, структура. ... Каждая структура -органическое единство элементов, построенных по данному системному типу - в свою очередь лишь элемент более сложного структурного единства, а её собственные элементы - каждый в отдельности - могут быть рассмотрены как самостоятельные структуры"[52, с.93-94].
Отметим, что представление о системности, диалектичное и уровневом строении структуры возникло в концепции Лотмана под влиянием популярных в 60-е гг. общетеоретических дисциплин - кибернетики, теории систем, теории информации и т.д. Как показывает в своём фундаментальном исследовании "Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе"(1985) Л.Р.Грэхем, "в 60-х и начале 70-х годов кибернетика заняла в Советском Союзе намного более престижное положение, чем где-либо ещё в мире. ... Для советских сторонников кибернетики она была новым разделом истории материалистических подходов к природе, обещающим как лучшие возможности концептуализации мира, так и достижение социальных целей"[19, с.266]. Тексты теоретических работ Лотмана проникнуты пафосом научного освоения действительности на основе предельно универсальных законов, которые определяют строение объектов самой различной природы. И указанные дисциплины стали для учёного идеальным инструментом в реализации этих задач. Этим определяется принципиальное отличие в понимании структуры Лотманом и французскими структуралистами. Согласно установившимся терминологическим определениям, понятие структуры входит в содержание понятия системы, обозначая её строение и внутреннюю форму организации [70, с.437].
Модели в структурно-семиотических исследованиях Ю.М.Лотмана
Как отмечалось в гл.1, в научной теории можно выделить несколько моделей, одна из которых выполняет роль фундаментальной по отношению к остальным. В работах Ю.М. Лотмана можно обнаружить большое количество моделей различной степени абстрактности и охвата.
Прежде чем определять наиболее фундаментальную из них, следует указать на существующую проблему разграничения в работах Лотмана моделей в строгом значении этого слова и метафор, используемых ученым для более наглядного представления материала.
Выше отмечалось, что принципиальное отличие научной модели от научной метафоры или аналогии заключается в том, что модель вырабатывается путем идеализации и абстрагирования от несущественного для целей изучения в объекте, тогда как научная метафора или аналогия привлекается из той или иной области знания или предметной области для уподобления изучаемого объекта этой метафоре или аналогии с целью более ясного и наглядного представления об интересующих сущностных свойствах изучаемого объекта. "Для моделирования характерна некоторая достаточная мера изоморфизма между моделью и прототипом (прообразом), в то время как метафорическое уподобление - совершенно произвольный поиск аналогов в вещах и явлениях...", - считает М.В.Никитин [60, с.98].
На наш взгляд, моделям Лотмана присущи как признаки уподобления (метафоры или аналогии), так и свойства научных моделей. Проявляется это в том, что в процессе моделирования метафора или аналогия используются как образец. Лотман привлекает уподобление как вспомогательное средство при построении собственных, самостоятельных моделей. Последние могут поэтому нести на себе черты, взятые при уподоблении моделируемого объекта каким-либо иным явлениям или объектам. Покажем это параллельно с определением фундаментальных моделей в концепции Ю.М.Лотмана.
Наиболее универсальной и фундаментальной моделью в теоретических построениях Ю.М.Лотмана мы считаем так называемую биоподобную, или ор-ганизмическую, модель, прообразом которой послужила модель коацерватной капли академика А.И.Опарина и которая в основных чертах повторяет концепцию биосферы и ноосферы В.И.Вернадского.
В своей работе "Жизнь, ее соотношение с другими формами движения материи" (1962) Опарин реконструирует процесс зарождения жизни на Земле, начало которой, по его мнению, дали т.н. коацерватные капли. Под последними понимаются капли с концентрацией вещества большей, чем концентрация этого же вещества, в котором эти капли находятся. Опарин, используя в своей реконструкции кибернетическую терминологию, строит следующую модель: "В связи с определенной организацией этой поверхности [капель - А.К.] и наличием некоторой внутренней структуры коацерватные капли обладают специфической способностью избирательно адсорбировать различные вещества из окружающего их раствора. При этом указанные вещества могут вступать с той или иной скоростью в химическое взаимодействие с веществами самой капли. Вследствие этого коацерватная капля, плавающая не просто в воде, а в растворе тех или иных веществ, приобретает свойства примитивной открытой системы, взаимодействующей со своей внешней средой" [61, с.27].
В вышедшей через два года книге "Лекции по структуральной поэтике" (1964) Лотман неоднократно уподобляет искусство живой клетке, а текст -открытой внетекстовым отношениям структуре. Например, в заключение "Лекций..." Лотман пишет: "Подобно живой клетке, искусство являет нам одну из наиболее сложных структур с комплексной системой внутренней саморегуляции и обратных связей" [49, с.240]. Чуть далее Лотман, характеризуя поэзию как одну из органических, наиболее передовых и сложных сфер сознания человека, проводит параллель между явлениями жизни и явлениями искусства [с.242]. Другой пример: "Внетекстовая часть художественной структуры составляет вполне реальный (иногда очень значительный) компонент художественного целого. Конечно, она отличается большей зыбкостью, чем текстовая, более подвижна" [там же, с.82]. Налицо сходство представлений Лотмана об искусстве и художественной структуре с моделью Опарина. На аналогию своих представлений о культуре и семиосфере с биосферой В.И.Вернадского Лотман указывал прямо неоднократно, например: "Подобно тому как биосфера с помощью солнечной энергии перерабатывает неживое в живое (Вернадский), культура, опираясь на ресурсы окружающего мира, превращает не-информацию в информацию" [50, т. 1, с.9; см. также с. 12].
По нашему мнению, в "Лекциях..." была представлена лишь предельно абстрактная модель знаковой системы, способная дать лишь самые общие, начальные представления о механизмах ее функционирования. Используя формулировку самого Лотмана, эту модель можно определить как модель "математического" типа, которая в связи с высокой степенью всеобщности позволяет моделировать всякую структуру [49, с. 18]. Помимо уже указанных свойств (аналогия со строением живой клетки, функционализм элементов), об этой модели можно сказать, что она подразумевает воспроизведение двух основных сторон искусства как знаковой системы: способность познавать и отражать жизнь и быть коммуникацией, передачей сведений [49, с.29, 43, 46, 49-58].