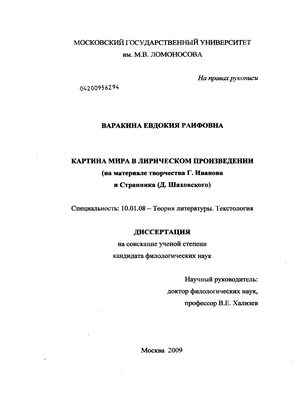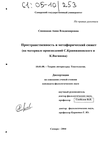Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Картина мира как философская категория и ее использование в литературоведении
1.1. Значение словосочетания «картина мира». Его синонимы
1.2. Состав картины мира и ее реконструкция исследователем
1.3. Понятие художественной картины мира. Картина мира в лирике
1.4. Специфика реконструкции картины мира в религиозной лирике
Глава 2. Картина мира в лирике Г. Иванова
2.1. Картина мира в ранней лирике Г. Иванова 37
2.2. Картина мира в раннеэмигрантской лирике Г. Иванова
2.3. Картина мира в позднеэмигрантской лирике Г. Иванова
Глава 3. Картина мира в лирике Д. Шаховского 99
Заключение 161
Библиография 165
Список опубликованных работ 182
- Значение словосочетания «картина мира». Его синонимы
- Состав картины мира и ее реконструкция исследователем
- Картина мира в ранней лирике Г. Иванова
- Картина мира в лирике Д. Шаховского
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Словосочетание «картина мира» впервые появилось в физике на рубеже ХЕХ - XX веков. Со временем оно было заимствовано другими дисциплинами естественнонаучного и гуманитарного направлений: биологией, этнографией, историей, лингвистикой, психологией, философией и проч. Каждая из них вкладывала в него свое значение, в результате чего словосочетание «картина мира» из термина с четко очерченными границами смысла превратилось в ключевое слово культуры (см.: Михайлов, 236, 253, 263) и в качестве такового употребляется многими литературоведами.
В словарях по литературоведению разъяснения этого термина нет (см., напр.: ЛЭТиП, 340-341), хотя в списке ключевых слов и понятий он иногда указан (см.: ЛЭТиП, 1514). Нет его и в предметном указателе такого новейшего учебника по теории литературы, как коллективный труд Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпы и С.Н. Бройтмана (см.: Теория литературы, 1,487; 2, 346).
Многим исследователям, использующим это словосочетание, кажется в общих чертах понятным, что мы имеем в виду, когда говорим о картине мира, представленной в том или ином произведении, или о художественной картине мира. Между тем и «мир», и «картину», и «картину мира» можно понимать по-разному. Большинство литературоведов, осознанно или интуитивно, берут за основу лингвистическое представление о картине мира как некоей системе основополагающих концептов, значимых для носителя картины мира, и вербальной их экспликации. Такое понимание ориентировано на аналитическое постижение реальности. Но существует и равноправное этому представление, присущее философии, о том, что картина мира обращена к мирозданию как целостности. Важную роль в так понимаемой картине мира будет играть мироощущение — не столько рациональное, сколько духовно-эмоциональное восприятие Универсума как гармоничного или дисгармоничного, цельного или раздробленного, имеющего цель существования или бессмысленного и т.п.
*В данной работе предпринята попытка теоретического осмысления и практического применения в рамках литературоведения понятия «картина мира» как философской, а не более «локальной», в частности - и не лингвистической категории.
Материалом для исследования была избрана лирика двух поэтов -представителей первой волны русской эмиграции: Г. Иванова (1894-1958) и Д. Шаховского (1902-1989). Выбор авторов не случаен. Внешние обстоятельства их жизни во многом схожи: они современники, оба — дворяне, с юности увлекавшиеся литературой и писавшие стихи, оба эмигрировали из России примерно в одно и то же время (Шаховской - в 1920 г., Иванов - в 1922 г.) и прожили за границей до конца жизни. Их внутренний мир, напротив, различался довольно сильно: Шаховской принял монашество и был священнослужителем, Иванов же мог позволить себе, например, написать в одном из своих писем за несколько лет до смерти: «Я всегда чувствую, что мироздание создал бездарный Достоевский» (Переписка через океан, 218).
Сопоставление реконструированных картин мира, воплощенных в лирике двух этих поэтов; позволяет увидеть, как мировоззренческие веяния одной и той же эпохи преломляются в художественном творчестве в зависимости от ценностных ориентации авторов — ведь, как отметил один философ, мировоззрение предопределяется направлением внутренней активности
человека, его доминантами: каждый видит в мире и людях то, что искал и чего
і <-
заслужил .
Степень научной разработанности темы. За последние годы было
опубликовано много работ различного объема и разной научной ценности,
посвященных картине мира в художественных текстах ряда прозаиков и поэтов,
как отечественных, так и зарубежных (часть из них перечислена в
библиографии диссертации). Однако вопрос о разнице в понимании «картины
1 См.: Ухтомский А.А. Из писем к А.А. Золотареву // Философские науки. 1995. №1. С. 201.
мира» и о специфике применения этого понятия в литературоведческом анализе сколько-нибудь развернуто не обсуждался ни в одной из них.
Лирика Г. Иванова относится к «возвращенной литературе» и в качестве таковой на протяжении двух последних десятилетий привлекает пристальное внимание отечественных литературоведов, как известных, так и начинающих. Следствием этого стало значительное количество опубликованных статей о его жизни и творчестве, а также несколько диссертационных работ и монографий (те из них, которые использовались нами в работе, указаны в библиографии). Практически во все энциклопедические и учебные издания, посвященные творчеству писателей русского зарубежья, включается статья о Г. Иванове.
Доминирующие вопросы в исследованиях поэзии Иванова:, - это эволюция его поэтики, а также анализ ведущих мотивов его лирики: любви, творчества, смерти, утраты родины, эмиграции, потери смысла жизни и связанных с этим нигилизма и идеи, самоубийства как выхода из экзистенциального тупика. Учеными анализировалась связь внутреннего мира лирического героя стихотворений Г. Иванова с их поэтикой. Рассматривались и смежные с нашей темой вопросы: в частности, М.Ю. Гапеенкова изучала: трагическое мироощущение, отраженное в лирике Иванова, но только в эмигрантский период его творчества (Гапеенкова 2006). И.А. Тарасова исследовала концептосферу его поэзии, но не с литературоведческой, а с лингвистической точки зрения и не подразделяя его творчество на периоды. Таким образом, вопрос о картине мира, отраженной в лирике Иванова на разных этапах его творчества, в литературоведении впрямую не ставился.
Д. Шаховской, впоследствии - архиепископ Иоанн (Шаховской) больше известен в современной России как духовный писатель. Большинство из статей, которые удалось найти, посвящены его творчеству в целом и не содержат собственно литературоведческого анализа стихотворений, а потому многие вопросы, связанные с общими особенностями его поэтического творчества, нам приходилось решать без опоры на результаты исследований других ученых.
Большим подспорьем в этом оказалась доступная часть эпистолярного наследия архиепископа Иоанна.
Таким образом, картины мира, запечатленные в лирике Г. Иванова и Д. Шаховского, не были предметом специального изучения - даже в рамках тематической конференции «Картина мира и человека в литературе и мысли русской эмиграции», состоявшейся в Кракове 25-27 августа 2002 г., не прозвучало ни одного доклада, где бы анализировались картины мира двух этих поэтов2.
Объектом исследования является лирика Г. Иванова и Шаховского, предметом исследования служат картины мира, воплощенные в этой лирике.
Целью работы является уяснение специфики использования термина «картина мира» в рамках литературоведческого анализа и рассмотрение в этом ракурсе поэзии Иванова и Шаховского. Для достижения данной цели ставятся и решаются следующие задачи:
Формулирование определения «картины мира», а также связанных с нею понятий «образ мира», «модель мира», «мировоззрение», «мироощущение», «суждения о мире»;
Рассмотрение специфики художественной картины мира, лирической картины мира и методов ее реконструкции;
Уяснение специфики реконструкции картины мира, запечатленной в религиозной поэзии;
Реконструкция картины мира лирики Г. Иванова различных периодов его творчества;
Реконструкция картины мира лирики Шаховского;
Сопоставление реконструированных картин мира.
Положения, выносимые на защиту: 1) Под картиной мира мы понимаем общие представления о мироздании (Универсуме), его сущности, составе, структуре и законах, в
См.: Картина мира и человека в литературе и мысли русской эмиграции. Краков, 2003.
соответствии с которыми существуют сам Универсум и человек в нем. Представления о редуцированных «мирах» как части мироздания (человеческой реальности, природном мире и пр.) мы предлагаем называть соответствующими локальными терминами. «Мировоззрение» и «миропредставление» являются синонимами картины мира. «Образ мира» обозначает представления об Универсуме, воплощенные в зримой форме единичного символа. «Модель мира» — это осознанно сконструированная картина мира.
Картина мира складывается из мироощущения (эмоционально-интуитивного восприятия мира как гармоничного или дисгармоничного, целостного или разорванного, имеющего цель существования или бессмысленного) и суждений о мире как рациональных представлений, поддающихся экспликации с помощью понятий и категорий.
Существует несколько общепринятых методов реконструкции картины мира: как системы бинарных оппозиций или сетки концептов, характерных для данной картины мира, а также в виде сопоставления данной картины мира с «трафаретом» универсальных для всех картин мира понятий и категорий. Все эти методы вносят в исследуемый материал рациональную системность, которая, однако, некоторым картинам мира изначально не свойственна. Это необходимо учитывать при литературоведческом анализе и дополнять вышеуказанные подходы изучением мироощущения, отраженного в поэтических текстах, при характеристике которого мы пользуемся терминами «классическая», «антиклассическая» и «обновленная классическая» картины мира (см.: Хализев, 24-28).
Религиозную поэзию (вопреки тому, что нередко говорится) можно и нужно изучать прежде всего как произведение искусства, в ее эстетическом аспекте, но учитывая и специфику ее содержания; реконструкция отраженной в ней картины мира должна основываться на литературоведческом анализе поэтических текстов.
На протяжении творческого пути Иванова кардинально менялись формы и способы воплощения его картины мира, но оставалось неизменным лежащее в ее основе противостояние трагического и идиллического мироощущений без возможности окончательного выбора в пользу одного из них; таким образом, картину мира Иванова правомерно считать антиклассической.
Основу поэзии Шаховского составляет традиционная христианская картина мира, которая предстает здесь в весьма своеобразной вариации: присутствует идея внутреннего странничества (отстраненность от земной действительности и устремленность к небесной отчизне); передано негативное отношение к современному состоянию человеческого мира и основанное на этом- понимание истории как вереницы греховных поступков; присутствуют эсхатологические мотивы; надежда на апокатастасис (всеобщее помилование). Таким образом, в творчестве Шаховского явлена обновленная классическая картина мира, в которой бытие предстает как гармоническое целое, а диссонанс в него внесен человеческим грехом. Причем этот диссонанс мыслится как временное, хотя и всеохватывающее явление, которое после всеобщего воскресения исчезнет, уступив место всеобщей гармонии.
Методологические и теоретические принципы работы,базируются на положениях «вненаправленческого» литературоведения, ориентированного на синтез достижений разных научных школ и направлений. Основой нашего подхода являются укорененные в современном литературоведении представления о глубинной связи между миропониманием писателя и его поэтикой, о содержательной значимости художественной формы, о философских основах лирической поэзии.
В диссертации привлекаются и обсуждаются читательские наблюдения над поэзией Иванова и Шаховского, зафиксированные в статьях и рецензиях литературных критиков и литературоведов.
И, наконец, формулировка нашей темы — картина мира не в «лирике» или «поэзии», а в «лирическом произведении» — подчеркивает, что; на наш взгляд, реконструкция картины мира, воплощенной в лирике того или иного поэта, должна основываться на анализе (полном или частичном) отдельных стихотворений. Более того, мы полагаем, что если научное исследование будет представлять реконструированную картину мира лишь как абстрактно-обобщенную схему, то тем самым окажется обессмысленной проделанная работа: такая схема, хоть и верная по сути, но оторванная от неповторимо-личных поэтических интонаций, от поэтики и композиции конкретных стихотворений, не даст полноты понимания исследуемого материала. Предпочтительнее, по нашему мнению, сочетать установку на обобщение с разбором конкретных лирических текстов, в которых, убедительно проявляются те или иные черты картины мира исследуемого автора.
Разумеется, формулировка нашей темы не предполагает поиска таких стихотворений, в которых была бы воплощена картина мира поэта во всей ее полноте: ни один лирический текст не сможет вместить в себя такого сложного духовного образования. Однако именно стихотворение как напряженно существующая идейно-эмоциональная целостность3 позволяет тому или иному аспекту картины мира поэта раскрыться во всей своей значимости, индивидуальной неповторимости и неопровержимой подлинности. Ведь, по определению М. Гиршмана, любому стихотворению как самостоятельному художественному целому свойственно «сосредоточение и воплощение мира в лирическом миге»4.
3Ср.: «... в стихотворении разыгрываются все битвы бытия словно на арене; в современном
стихотворении проблемы времени, искусства, внутренних основ нашего существования
встают намного сконцентрированнее и острее, чем в романе, не говоря уж о пьесе» (Бенн,
138).
4См.: Гирпшан М.М. Литературное произведение: Теория художественной целостности. М.:
Языки славянской культуры, 2002. С. 33-34.
Научную новизну исследования: автор усматривает, во-первых, в уяснении специфики использования понятия «картина мира» в составе литературоведческого анализа и, во-вторых, в анализе под этим углом зрения стихотворений Иванова и Шаховского, в том числе и тех лирических текстов, которые, насколько нам известно, еще не становились предметом специального изучения.
Теоретическая значимость работы состоит, во-первых, в систематизации значений словосочетания «картина мира» и их критическом обсуждении; во-вторых, в уяснении перспектив применения этого понятия к художественной литературе (прежде всего — к лирике).
Практическая значимость работы состоит в уяснении того, какое место в литературоведческом анализе занимает реконструкция картины мира. Материалы и выводы диссертации могут быть использованы в общих и специальных курсах по теории литературы и истории литературы русского Зарубежья.
Апробация работы. Результаты исследования были изложены в докладах на научных конференциях в Ереване (2005), Минске (2005), Орле (2005), Ульяновске (2005), Нижнем Новгороде (2005, 2006), Арзамасе (2006), Санкт-Петербурге (2006), Таллинне (2006). Диссертация обсуждена на заседании кафедры теории литературы филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. По теме диссертации опубликовано 8 статей общим объемом 4 а.л.
Структура диссертации. Диссертация включает в себя введение, три главы, заключение и список литературы, состоящий из двух частей: в первой перечислены в алфавитном порядке использованные в исследовании поэтические сборники Иванова и Шаховского, во второй в сплошной нумерации в алфавитном порядке представлены привлекавшиеся для работы теоретические труды, словари, историко-литературные исследования, критические статьи и художественные произведения других писателей.
Значение словосочетания «картина мира». Его синонимы
Словосочетание «картина мира» используется во многих гуманитарных науках: философии, культурологии, истории, этнографии, религиоведении, психологии, лингвистике, литературоведении и др. Каждая из них наделяет его собственным значением, не всегда эксплицированным в виде четкой дефиниции, - а нередко и не одним. Кроме того, выражение «картина мира» пшроко бытует и во вненаучных сферах. Все это приводит к тому, что границы данного термина размываются. Впрочем, по мнению В.Е. Хализева, словосочетание «картина мира» (как и сходные с ним по частоте использования в различных гуманитарных науках лексические единицы вроде «миф», «личность», «нигилизм», «утопия» и пр.) является, скорее, ключевым словом культуры, и строгой терминологической унификации не поддается. Однако выход из тупика смысловой неопределенности возможен через создание в исследовательских работах лексических феноменов, промежуточных между ключевыми словами культуры и четко сформулированными терминами, - т.н. «технических терминов» или «рабочих определений», которые, по словам В.Е. Хализева, обладают смысловой определенностью и ясностью, но не притязают на универсальность, общепризнанность, на безусловную авторитетность для всех и каждого. Они насущны и актуальны лишь в ограниченном контексте: в работе отдельных ученых и их сообществ.
Данное исследование является попыткой представить картину мира как рабочий термин и продемонстрировать, каким образом он может использоваться в литературоведческом анализе.
Чтобы очертить границы нашего «рабочего понятия», обратимся к значениям слов, из которых состоит данное словосочетание.
У слова «картина» выделяется 6 словарных значений (СРЯ), из которых в понятии «картина мира» может актуализироваться лишь одно из двух: 1) то, что можно видеть, представлять себе в конкретных образах и 2) общее состояние, положение чего-л. От выбора значения зависит, какие свойства мы будем считать неотъемлемыми характеристиками картины мира. При актуализации первого картина мира - это наглядная и предельно детализированная система образов существ, предметов и явлений, которые окружают субъекта и распознаются им как самостоятельные сущности.
При выборе второго значения картине мира приписывается свойство обобщенности, она есть предельно общее представление о мире и при этом может не обладать наглядностью и образной дискретностью.
Первое значение вкладывает в понятие «картина мира» лингвистика, вводя представление о языковой и концептуальной картинах мира.
Второе значение актуализируется в осмыслении картины мира некоторыми философами, например, М. Хайдеггером.
Науки о культуре и искусстве, в частности интересующее нас литературоведение, сочетают в себе оба подхода, и каждый ученый, сознательно или бессознательно, берет один из них в качестве ориентира.
Примером «лингвистического понимания» картины мира, запечатленной в искусстве, может послужить книга «Искусство и картина мира» B.C. Жидкова и К.Б. Соколова. «Картина мира, - пишут эти ученые, - представляет собой систему подвижных образов ... Все образы, составляющие картину мира, можно условно разделить на универсальные и индивидуальные. Универсальные образы у большинства нормальных людей ориентированы одинаково. Скажем, все люди представляют себе мать добродетельной и ласковой, отца - суровым, но справедливым, свое тело - цельным и неповрежденным» (Жидков, 65).
Одним из ярких представителей обобщающего подхода является А.Я. Гуревич — цитаты из его книги «Категории средневековой культуры» часто звучат в исследованиях, посвященных анализу той или иной картины мира.
Говоря о реконструкции средневекового мировоззрения, Гуревич вводит понятие универсальных категорий культуры: это время, пространство, изменение, причина, судьба, число, отношение чувственного к сверхчувственному, отношение частей к целому. Гуревич подчеркивает, что универсальные категории не осмысливаются изолированно, но, воспринимаемые в связи друг с другом, образуют в сознании человека некоторую целостность, которую мы и называем картиной мира5.
На наш взгляд, избрание исследователем картины мира одного из двух значений слова «картина» напрямую зависит от того, что он понимает под словом «мир».
Тот же словарь выделяет 8 значений слова мир, 6 из которых могут актуализироваться в словосочетании «картина мира». Согласно словарю, под миром понимается: совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве; Вселенная; отдельная часть Вселенной; планета; земной шар, Земля со всем существующим на ней; человеческое общество, объединенное определенным общественным строем, культурными и социально-историческими признаками (напр., античный мир); какая-либо сфера жизни или область явлений в природе (напр., животный мир); отдельная область, сфера воспринимаемой действительности; совокупность каких-либо явлений, предметов, окружающих человека (напр., мир звуков); какая-либо область, круг явлений психической жизни (напр., духовный мир человека); какая-либо область, сфера деятельности людей (напр., официально-дипломатический мир), круг людей, объединенных общей профессией, принадлежностью к какой-либо среде и т.п. (напр., театральный мир).
Все эти значения схожи в том, что указывают, на самом деле, на некий фрагмент мироздания (даже Вселенная - это «вся окружающая нас часть материального мира, доступная наблюдению» (УЭС), таким образом, сверхчувственный уровень реальности в понятие Вселенной не включен). Любой фрагмент мироздания действительно состоит из отдельных, чувственно воспринимаемых частей - и по отношению к нему весьма уместно говорить о картине мира как системе образов (1-е значение слова «картина»).
Между тем, существует еще одно значение слова «мир», в данном словаре не указанное, когда речь идет о мире как целом, то есть о духовно-материальной целостности мироздания, об Универсуме., При таком понимании слова «мир», когда на первый план выступает идея целостности, а не составных частей, чаще актуализируется второе, обобщающее значение слова «картина».
Чтобы сузить границы использования словосочетания «картина мира» и тем самым приблизить его к статусу термина, мы предлагаем считать картиной мира только общие представления о мироздании (Универсуме), его сущности, составе, структуре и законах, по которым существуют он и человек в нем. Представления же о всех «редуцированных мирах» и составляющих их конкретно-чувственных реалиях, на наш взгляд,,правомерно обозначать иными, более локальными терминами, например: «картина человеческого мира», «картина природного мира». Если некий фрагмент мироздания выступает предметом научного изучения, уместно, как предлагал B.C. Степин, использовать выражение «картина исследуемой реальности»6.
Состав картины мира и ее реконструкция исследователем
Самые первые реконструкции картин мира, осуществлявшиеся в рамках этнографии, выглядели как выстроенная учеными система значимых для исследуемой культуры бинарных оппозиций (их перечень см.: Мифы, 162). В. Руднев называет бинарную оппозицию «основным инструментом при описании или реконструкции картины мира» (Руднев, 175).
А.Я. Гуревич, как было сказано выше, предлагал реконструировать картину мира не в виде системы бинарных оппозиций, а в виде некоей «сетки», состоящей из ключевых понятий (универсальных категорий), взаимосвязанных и образующих в своей совокупности идеологический каркас картины мира (перечислим их еще раз: это время, пространство, изменение, причина, судьба, число, отношение чувственного к сверхчувственному, отношение частей к целому и т.п.). Некоторые исследователи выбирают из списка универсальных категорий одну-две и именно их кладут в основу своей реконструкции. Так, по мнению одних ученых, фундаментом картины мира являются пространственно-временные представления, другие выносят в центр своего исследования представления субъекта о сверхъестественном (см.: Рыбальченко) и т.п.
Выстраивание системы бинарных оппозиций или сверка исследуемой картины мира с «трафаретом» универсальных категорий применяются и в рамках литературоведческого анализа и уже доказали свою эффективность. Однако, на наш взгляд, обоим этим методам присущ один серьезный недостаток: они вносят в любую исследуемую картину мира рациональную системность и взаимосогласованность отдельных утверждений, пытаются разложить целостное мировосприятие на составляющие, которые поддаются вербализации и логической унификации. Между тем, не все в самом бытии и в отражающей его художественной литературе доступно такому аналитическому описанию. По словам М. Хайдеггера, «все гуманитарные науки и все науки о жизни именно для того, чтобы остаться строгими, должны непременно быть неточными. Конечно, жизнь тоже можно охватить как величину движения в пространстве и времени, но тогда нами схвачена уже не жизнь» (Хайдегтер, 44).
Поэтому мы полагаем, что литературоведу, занимающемуся проблемой картины мира, воплощенной в лирике, следует обращать внимание не только на эксплицированные в поэзии суждения об Универсуме, но и на отраженное в ней мироощущение давшее о себе знать в изображенном.
Любая картина мира - «это не зеркальное отражение мира, а всегда есть некоторая интерпретация» (Роль, 29), предполагающая наличие субъекта-«интерпретатора».
Из этого вытекают две особенности картины мира. Во-первых, в картину мира включаются вопросы, касающиеся не только мироздания, но и существования в нем человека: «Собственные характеристики мира (соотношение упорядоченности и энтропии, случайности и вероятностной или жесткой необходимости, изменяемости или неизменяемости) не мыслятся отдельно от переживаемых взаимоотношений человека и мира — от категорий судьбы, рока, предопределения, свободы, смысла бытия, сохранения или устремленности» (Медушевский, 88).
Во-вторых, в каждой картине мира своя иерархия мировоззренческих вопросов: одни выдвигаются на первый план и осмысляются в деталях, другие остаются на периферии, представления о них неотчетливы и даже порой поверхностны. Следует учитывать, что даже те мировоззренческие вопросы, которые являются для носителя картины мира центральными, могут не находить решения и вызывать смешанную гамму чувств - именно в силу их первостепенной для него значимости.
Художественной принято называть картину мира, отраженную в произведениях искусства. На наш взгляд, введение данного термина оправдано, если использующий его ученый считает, что в процессе художественного творчества появляется новое знание о мире, не существовавшее до этого и порожденное именно спецификой искусства как особой призмы, через которую художник смотрит на мир8.
Если же учитывать, что художественное произведение так или иначе опирается на представления об Универсуме, уже существующие в чьем-то сознании9 или в какой-то философской (религиозной) системе (отрицать это, мы полагаем, невозможно), то смысл словосочетания «художественная КМ» представляется неясным, далеко не бесспорным. Поэтому мы предлагаем говорить о художественно явленной картине мира.
Заметим, что словосочетание «картина мира» характеризует содержательно-смысловую сторону произведений, в которых значимо философское начало, тогда как термин «внутренний мир произведения» обозначает совокупность предметов и явлений, запечатленных словами: это категория формально-содержагепьъая, а не собственно смысловая. В некоторых литературоведческих работах можно найти примеры смешения двух этих понятий. Так, Т.М. Родина в своей статье «Художественная картина мира как синтетическая многомерная структура» пишет: «...художественная картина мира, которую создает Чехов в пьесе «Чайка», рисует усадебный быт, уже распадающийся, вымирающий, но еще наделенный множеством особых своих признаков с вечерним кваканьем лягушек, с купаньем и уженьем рыбы, с разговорами о лошадях, в которых постоянно отказывает угфавляющий всякий раз, когда надо куда-нибудь ехать. Но в центре этой картины мира стоит проблема смысла бытия, тема грядущего мирового обновления жизни» (Родина, 68). Описание, на наш взгляд, некорректно, поскольку исследовательница
Ср.: «Художественная картина мира — эмоционально-чувственный способ освоения мира» (Культурология, 904) или: «Искусство есть итог художественного познания и художественного творчества, есть специфическое знание о мире» (Скурту, 7). 9 Ср.: «...искусство есть отраженная в художественном произведении картина мира его автора» (Жидков, 252). смешивает содержание картины мира (мироощущение, а также представления о смысле бытия и о миропорядке) и форму ее художественного воплощения. Очевидно, что такие элементы жизненной конкретики, как кваканье лягушек или ужение рыбы, относятся к внутреннему миру произведения. Через описание деталей быта художник действительно нередко передает свои впечатления о мире как целом, однако сами эти детали в состав картины мира не входят.
Художественная форма не предопределяет содержание картины мира полностью, но может на него влиять - в частности, влияют на нее выбранные творцом вид искусства и жанр. Есть жанры, как утверждают исследователи, которые предлагают свой ракурс видения мира10 - в литературе такова, например, трагедия. Другие жанры делают серьезный разговор об Универсуме заведомо невозможным (если, конечно, творец не ставит перед собой цели совместить несовместимое и тем разрушить жанровый канон) - таковы, к примеру, эпиграмма или анакреонтическая лирика.
Виды искусства, как и жанры, также различаются по своим возможностям передачи представлений о мироздании. Как известно, виды искусства объединяются в две большие группы: изобразительные, в которых воссоздаются единичные явления (лица, события, вещи, чем-то вызванные умонастроения и на что-то направленные импульсы людей), и экспрессивные, в которых запечатлевается общий характер переживания вне его прямых связей с какими-либо предметами, фактами, событиями. К первому типу относятся литература, живопись, скульптура, постановочная режиссура (в театре и на киноэкране), ко второму - музыка, танец, архитектура и абстрактная живопись.
Картина мира в ранней лирике Г. Иванова
Насколько нам известно, вопрос о картине мира в ранней лирике Иванова учеными впрямую не ставился. Однако в научной и критической литературе об этом поэте обсуждалась смежная проблема: можно- ли говорить о существовании какого-либо единого личностного начала в лирических текстах молодого поэта?
Дело в том, что раннее творчество этого поэта поражает разнообразием жанров и стилей, в нем трудно уловить какое-то внутреннее единство. Современные Иванову критики (В. Брюсов, С. Парнок, П. Потемкин и др.24) утверждали, что и искать его не надо, потому что ранняя поэзия Иванова — лишь набор подражаний различным поэтам, или, как характеризовал ее Н. Гумилев, лирика фланера, который бездумно созерцает и описывает все, что видит.
Некоторые исследователи, зная о последующем расцвете таланта Иванова, оценивают его раннее творчество мягче, как этап поиска себя, но тоже говорят об отсутствии в стихотворениях этого периода единого индивидуального «лирического сознания». Так, В.Ю. Бобрецов в своей вступительной заметке к публикации стихов Г. Иванова резюмирует: «...стихи его, относимые к «петербургскому периоду», в сущности еще лишены личностного начала и остаются копиями - порой превосходными - того же Кузьмина или некими «среднеарифметическими» стихами акмеиста. Словом, Г. Иванов 10-х годов — это «еще не» Г. Иванов, он еще «не вошел в фокус»25.
Однако в работах об Иванове встречаются суждения и иного рода: «Инстинкт созерцателя» влечет поэзию Г. Иванова к постижению целокупности бытия» (Калашников, 178).
Согласимся с Калашниковым: в доэмигрантской лирике Г. Иванова присутствует ощущение мира как целого, хотя часто оно скрыто за изображением земной конкретики.
Для значительной части его ранних стихотворений характерно осознание двуслойности бытия. За чувственно воспринимаемой реальностью скрывается нечто иное, более подлинное, чем она сама. При этом видимый мир чаще воспринимается положительно, а таящееся за ним нечто — отрицательно, как разрушительная сила. Перед нами ситуация трагического двоемирия.
В начале подобных стихотворений показан некий срез земного бытия, замерший на мгновение в своей красоте и гармонии. Это либо жизнь человека, внешняя или внутренняя, показанная в ее статике, либо стихотворный рассказ о «кусочке жизни», уже застывшем в скульптуре или на живописном полотне (т.н. жанр экфрасиса, см. о нем: Рубине). При этом, в данном поэтическом тексте, или при рассмотрении его в контексте всего корпуса ранних стихотворений, ощутимо предчувствие недолговечности умиротворенной гармонии, остановленной властью искусства, ибо за видимым уютным человеческим миром таится подлинная сила, владычествующая над земной реальностью и несущая ей гибель.
Иногда этот сюжет выражен впрямую - например, в следующих строках из стихотворения «Когда светла осенняя тревога...»: «Когда светла осенняя тревога // В румянце туч и шорохе листов, // Так сладостно и просто верить в Бога, // В спокойный труд и свой домашний кров ... // Но не напрасно сердце холодеет: // Ведь там, за дивным пурпуром богов, // Одна есть сила. Всем она владеет - // Холодный ветр с летейских берегов» (1,45).
В других стихотворениях эта трагическая метафизика может выражаться лишь косвенно. Так, например, в стихотворении «Литография» безмятежное описание плавания (показанного через созерцание обстановки в каюте) заканчивается штрихом, «лежащим за гранью литографического рисунка» (Гурвич, 40): «Но спорит друг. И вспыхивают трубки. // И жалобно скрипит земная ось» (I, 140): Эта скрипящая земная ось, как пишет В. Агеносов, -«потрясающий образ неблагополучия» (Агеносов, 231), который вдруг вторгается в идиллическое описание литографии. Добавим: неблагополучия всеобщего.
В стихотворении «Все бездыханней; все желтей...» происходит весьма интересное художественное развитие темы трагизма бытия: Все бездыханней, все желтей Пустое небо. Там, у ската, На бледной коже след когтей Отпламеневшего заката. Из урны греческой не бьет Струя и сумрак не тревожит. Свирель двухтонная поет Последний раз в году, быть может. И ветер с севера, свища, Летает в парке дик и злостен, Срывая золото с плаща, Тобою вышитого, осень. Взволнован тлением, стою И, словно музыку глухую, Я душу смертную мою Как перед смертным часом - чую (I; 169).
Первая строфа в весьма символистском духе передает предчувствие какого-то страшного события, приближение которого уже угадывается в окружающей природе: небо становится «все бездыханней», и на его бледной коже виднеются следы когтей заката. Эта метафора с логической точки зрения не слишком удачна, потому что превращает закат в какую-то самостоятельную от неба сущность, однако нужный художественный эффект все равно достигается: «след когтей» вызывает ассоциацию с нападением хищника, а от неожиданного отождествления этого хищника с закатом возникает ощущение присутствия в мире некоей тайной угрозы, словно «разлитой» в воздухе.
Вторая строфа развивает ту же тему с помощью образов иной поэтической школы: появляются греческая- урна фонтана и некая поющая свирель. По мысли М. Рубине, оба этих образа были заимствованы Ивановым из чужих поэтических текстов, где использовались в качестве метафор искусства, но у Иванова стали сигналами «нависшей над природой и человеком смерти» (Рубине, 84). Эта смерть прерывает обыкновенный ход жизни: вода уже перестала течь из урны-фонтана, а свирель еще играет, но ее звучание продлится недолго.
Картина мира в лирике Д. Шаховского
В соответствии с этапами биографии князя Шаховского его поэтическое творчество можно разделить на две неравные части. Он эмигрировал из России в 1920 году, первый его поэтический сборник («Стихи») вышел в 1923, за ним последовали еще два: «Песни без слов» (1924) и «Предметы» (1926). В 1926 году происходит переломное событие в жизни князя Шаховского — он принимает монашеский постриг. Рассказывая о своем обретении веры, и принятии монашеского пострига, архиепископ Иоанн замечает: «...в сущности, все мои книги, статьи, стихи есть лишь отражение и попытка раскрыть то, что со мной произошло в 1925-26 годах» (Избранное, 57). Современники поэта также воспринимали принятие Шаховским монашества и священного сана как центральное событие не только его жизненного, духовного, но и творческого пути. Так, Игорь Чиннов, рецензируя один из поэтических сборников Шаховского второго периода его творчества, основное внимание уделяет не анализу художественных достоинств и= недостатков стихотворений и даже не отклику на затронутые поэтом темы. И. Чиннова занимает прежде всего биография поэта, именно она, по мнению критика, придает ценность его стихам: «Хочу упомянуть и о «Книге лирики» Странника. Ее автор прошел большой и необычный путь. Когда-то, за несколько лет до войны, в Брюсселе появился журнал под невероятным в наш век названием «Благонамеренный» ... Многое из появившегося в брюссельском «Благонамеренном» украсило русскую литературу. А затем в душе редактора-издателя произошел какой-то перелом. Для него настала пора напряженной духовной жизни и притом — жизни православного пастыря. Он издал ряд книг, раскрывающих его религиозный опыт. И теперь вот перед нами его «Книга лирики» — очень чистая, очень одухотворенная» (Чиннов 2002, 358). «Жизнь православного пастыря», «религиозный опыт» — эти внеэстетические категории показывают, что современники архиепископа Иоанна воспринимали его поэзию через призму его биографии.
Несмотря на столь явственно ощущаемую автором и читателями границу, разделяющую «светский» и «монашеский» периоды творчества Шаховского, можно выявить и некоторые общие черты его ранней и поздней поэзии, в том числе связанные одновременно с художественною формой его стихотворений и с отраженным в них мироощущением72. .
Из переписки Шаховского и из публиковавшихся рецензий на его поэзию становится ясно, что читатели-современники, рассматривая его стихотворения как лирику священнослужителя;, предъявляли, повышенные требования не только к темам, но и к поэтике его стихов. Так, Дм. Кленовский пишет: «Баллада о неумелом сердце» несколько смутила меня новаторскимиприемами мысли и формы ... этовпервые, чтоВаши стихи мне как-то не по-душе, не столько даже самой темой, сколько ее трактовкой в образах» (Переписка, 200) «и в- следующем; письме объясняет, чем вызвана, его, негативная реакция: «...именно потому, что Вы «духовно питаете», я и придираюсь порой кой»к чему в Ваших стихах! Ведь питание надо донести до человека- верной; не вздрагивающей рукой и на гладкой, без. зазубрин, ложке, дабы ничего не расплескать и вкушающего не поцарапать; ибо в этих случаях питание не будет принято и воспринято и пропадет даром» (Переписка, 228-229).
Сам Шаховской также выражал сознание духовной ответственности за написанное: «Я очень надеюсь, - признавался он Кленовскому, - что эти 62 стихотворения, вошедшие в сборник о мире,, не внесут «празднословия» -плохого, т.е. не поклонятся они «красному словцу» (забывая Отца!)» (Переписка, 96).
Как критик он проявлял повышенную чуткость к словам, эксплицирующим мировоззренческие установки автора73. Однако эти черты литературного дарования Шаховского парадоксальным образом сочетаются с характерной для некоторых его стихотворений непроясненностью художественной мысли. Для некоторых, не для всех — встречаются у него и тексты, отличающиеся, напротив, «духом светлой, доброй пушкинской ясности» (Чиннов 1989, 287). Дм. Кленовский пишет о «Книге лирики» Странника: «Замечательна ясная, прозрачная мудрость Вашей мысли, при такой же ясности и прозрачности стиха»- (Переписка, 187). Но он/ же в другом своем письме замечает: «...иногда у Вас в стихах получается логическое смешение образов и понятий, что вызывает недоумение, сомнение, инопониманиеи тем мешает восприятию читателем полета мысли Вашей. Мне кажется, что это у Вас от поспешности в творчестве, некоторого иногда недостатка строгостш к словесному оформлению своих, обгоняющих форму мыслей» (Переписка, 229).
Недооформленность художественной мысли Шаховского, замеченная Дм. Кленовским, объясняется тем, что образные ассоциации и связи между явлениями, очевидные для автора, в самих лирических текстах не разъясняются и потому остаются неуловимыми для читателя, не обладающего сходным житейским опытом: По всей видимости, поэт не воспринимал эту черту своей поэтики как затруднительную для читателя — об этом свидетельствует его полемика с Кленовским, который в одном из своих писем указывает на неудачный образ из стихотворения Шаховского: «Говоря «под розовым окном» Вы, вероятно, имели в виду окно, увитое снаружи розами, но это не получилось. Получился цвет, а не цветы» (Переписка, 143-144). Шаховской поправляет: «Представьте, я никак не соединяю с этим окном никаких «роз». Розовое тут для меня либо отсвет восхода или заката, либо окно типа дома, которого, вероятно, ни в Траунштейне, ни в Царском Селе нет, но который существует, даже распространен и в южной Калифорнии, и на юге Франции, Италии. Окно вправлено в розовый (иногда даже ярко-розовый, иногда бледно-розовый) дом и как бы ассоциируется с домом. Отсюда образ чего-то счастливого, благополучного и даже солнечного, житейски... Вы понимаете моюгмысль» (Переписка, 145).
Траунштейн и Царское Село — места, где жил Кленовский. Получается, поэт готов к тому, что читатель, не знаком с бытовыми реалиями, которые послужили основой поэтического образа, и его это не смущает. Не смущает, по всей видимости, потому, что цель создаваемых им образов - не денотатная, а суггестивная: Шаховской не пытается указать на реально существующий предмет, а, используя его лишь как повод, стремится вызвать у читателя определенное ощущение, гамму эмоций. Кленовский, уловив эту задачу Шаховского, указывает на то, что созданный художественный образ ее не выполняет: «...остается для меня неубедительным «розовое окно»! Я его не вижу, и, наверное, большинство читателей его тоже «не увидит» — слишком субъективно Ваше восприятие окна, то есть стекла или ставни, по цвету дома или отблеску заката ... Я против такого образа, так как не верю в то, что читатель разберется в том, что Вы хотели сказать, а значит, Ваш образ до него не дойдет» (Переписка, 146).