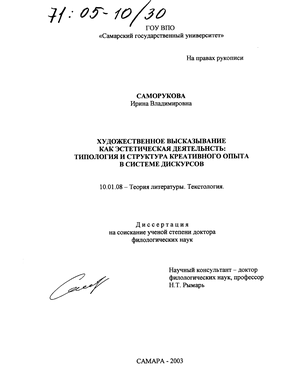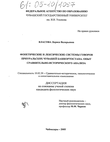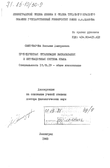Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Художественное высказывание как эстетическая деятельность. Признаки художественного высказывания 67
1.1. Определение художественного высказывания. Художественное высказывание в системе речевых практик 67
1.2. О понятии «дискурс». Адискурсивная природа художественного высказывания 101
1.3. Художественное высказывание и дискурсивные конвенции. Проблема художественной целостности и творческой свободы 119
1.4. «Генеалогия» художественного высказывания 125
1.5. Понятие «субъект художественного высказывания» 136
Глава вторая. Модели (архетипы) худоэюественного высказывания . 143
2.1. Проблема автора в теории художественного высказывания 143
2.2. Три модели (архетипа) деятельности субъекта художественного высказывания 158
Глава третья. Модусы художественности 192
3.1. М.М. Бахтин о «творческом хронотопе». Время-пространство художественного высказывания 192
3.2. Модальности художественного высказывания 205
Глава четвертая. Художественное высказывание в современной русской литературе 239
4.1. Художественное высказывание в современной дискурсной формации. Автометатексты как предмет теории художественного высказывания 239
4.2. Субъект художественного высказывания как «герой» произведения. Трилогия И.Яркевича «Как я и как меня» 249
4.3. Интерпретативная стратегия художественного высказывания в романе С. Ануфриева и П.Пепперштейна «Мифогенная любовь каст» 274
4.4. Художественное высказывание как дискурсивная утопия. Роман В.Сорокина «Голубое сало» 295
Заключение. О границах теории художественного высказывания. 315
Общие выводы 321
Примечания 326
- Определение художественного высказывания. Художественное высказывание в системе речевых практик
- Проблема автора в теории художественного высказывания
- М.М. Бахтин о «творческом хронотопе». Время-пространство художественного высказывания
- Художественное высказывание в современной дискурсной формации. Автометатексты как предмет теории художественного высказывания
Введение к работе
Настоящее исследование посвящено проблеме художественного высказывания в словесном искусстве и его базовым типам, моделям, «архетипам». Оговорюсь сразу, что меня интересует не логическая структура высказывания (пропозиции) в художественной (фикциональной) литературе, как ее рассматривают Дж.Серль (1) и Г.Фреге (2), а высказывание (событие) как особый феномен художественного опыта1 в той культурной практике, которую принято называть литературой, изящной словесностью2.
На первый взгляд, речь идет о традиционном объекте литературоведения как научной дисциплины, которое всегда занималось произведением (высказыванием), законами его организации и типами этой организации (родами и жанрами). Художественное произведение как некая целостность, «образ мира в слове явленный», в литературоведении противопоставляется эмпирической действительности, «сырому материалу». «Материал» интерпретируется по-разному, хотя всегда соотносится со «словом», с языком. В традиционной литературе внешней референцией является миф, коллективное предание. В литературе нового времени слово обращено к «природе», «действительности», преломленной в человеческом представлении, в котором коллективное сосуществует с индивидуально-личностным. Законы художественного слова в поэтике трактуются как относительно автономные.
При этом литературоведение всегда, а особенно в XX веке, существовало как «сомнительная дисциплина», в сравнении, например, с лингвистикой. Оно не имело своей «частной эпистемологии», или, если пользоваться более привычной для отечественного исследователя терминологией, «методологии».
Напомню, что частная эпистемология призвана решить следующие вопросы:
1)Выделение объектов, которыми данная наука оперирует;
2)Специфические допустимые для данных объектов методы исследования;
3)Методы проверки правильности результатов и методы убеждения читателя в своей правоте;
4)Систематизация основных понятий данной науки, необходимая для обеспечения взаимопонимания в пределах данной научной парадигмы;
5)3адачи, подлежащие решению в пределах данной науки;
6)Трансляция результатов в научный социум (10. С.77). Следует заметить, что проблема частной эпистемологии в конце XX века актуальна не только для литературоведения3, но также и для лингвистики, социологии, истории, других гуманитарных наук. Это связано с изменением всей научной парадигмы второй половины XX века, с признанием того, что знание о том или ином объекте всегда опосредовано позицией исследователя - как говорят физики, взаимодействием наблюдателя с прибором. Литературоведение обратилось не только к «образам» автора и читателя в разных их ипостасях, но и к изучению художественной модели авторского отношения, к исследованию роли и места читателя в структуре авторского отношения. Другие гуманитарные дисциплины тоже сделали человека точкой отсчета своих научных концепций, перешли от дескриптивных методов к исследованию того, как анализируемые процессы зависят от их субъекта.
Литературоведение опиралось или на общую эпистемологию, или, что особенно характерно для XX века, заимствовало методы познания «смежных» гуманитарных дисциплин - антропологии в виде теории мифа, психоанализа и аналитической психологии, структурной лингвистики, генеративной грамматики (теория порождающей поэтики Ю.К.Щеглова и А.К.Жолковского (13)), теорий коммуникации. В этом, естественно, нет ничего порочного, но настораживает одно обстоятельство: «угол зрения» другой дисциплины не только обновляет литературоведение, открывая новые аспекты исследования словесного творчества, он также и размывает его объект, делает его расплывчатым, неопределенным. Так, ритуально-мифологическая критика фактически устранила разницу между литературой и мифом. Структурализм, по справедливому замечанию Б.Дубина, отдавал предпочтение «чужим», «холодным» (К.Леви-Строс) объектам исследования, семантическим областям повышенной смысловой однородности (14. С.45), рассматривая главным образом тексты «классической» и «массовой литературы», где его во многом заимствованная у лингвистики методика работала лучше 4. Жесткий теоретический аппарат структурализма, в основе которого, по словам А.Компаньона, лежит «манихейски-дихотомическое мышление» (5. С. 147), не приспособлен к «горячей» современной литературе. К тому же структурализм исследовал литературный артефакт не как произведение автора, а как текст, статичный объект, в котором наличествуют культурные коды и риторические структуры. Активность художника, творца произведения, его специфический творческий опыт не брался в расчет, да и сама категория автора фактически не рассматривалась. В постструктуралистских и постмодернистских работах методы исследования литературы, выработанные предшествующими направлениями, были экстраполированы на философские, политические и другие тексты (особенно показательным примером здесь является понятие «нарратива» и «метарассказа»). Однако это обстоятельство не укрепило собственно литературоведческий подход, а напротив, крайне проблематизировало его, тем более что к литературным текстам сегодня активно обращаются и лингвистика, и психология, и социология, не говоря уже о таких синтетических областях знания, как cultural studies и тендерные исследования. В энциклопедическом справочнике «Современное зарубежное литературоведение» (16) под редакцией И.П.Ильина и Е.А.Цургановой, в частности, во второй его части, из 34 статей, в которых, по замыслу редакторов и составителей, должны излагаться литературно-критические «термины, школы, концепции», только 8, да и то не в строгом смысле, относятся к области литературоведения («авторская маска», «критика сознания», «мифологическая критика», «мифопоэзия», «мономиф», «рецептивная критика», «субъективная критика», «школа критиков Буффало»).
Процесс растворения литературоведения в своеобразном знании о текстах имеет объективные предпосылки. Он связан с общей эпистемологической ситуацией постмодерна, с обусловленным современной цивилизацией стремлением, которое иногда трактуется как необходимое возвращение, к синтетическому знанию (П.Козловски). С другой стороны, ситуация с потерей границ поддерживается практикой современной литературы, подвергающей художественной рефлексии разнообразные «тексты культуры». Но главным фактором, проблематизировавшим объект и назначение литературоведческой науки, были, на мой взгляд, достижения смежных областей гуманитарного знания, обращенных к языку, - лингвистики, психологии, социологии. Очень упрощенно и весьма предварительно эти достижения можно охарактеризовать так: открытие дискурса. Оказалось, что не только литература, обладая специфическими правилами кодирования естественного языка, своими «приемами», создает особую реальность в виде «произведений», но и любая человеческая деятельность, связанная с языком, осуществляется через своеобразные речевые произведения. Ситуация дискурса, «языка в языке», т.е. использования естественного языка для выражения определенной ментальности, предусматривающего свои правила реализации этого языка, имеет место в политике, науке, философии и т. п. За единством дискурса стоит некий образ реальности, свой мир (17. С.35-36)5.
Таким образом, свои «жанры» и свои «произведения» имеет все языковое пространство человеческой деятельности. Условно говоря, любое «письмо» может быть истолковано как литература. Дискурс как жанр языковой коммуникации, как социальный механизм порождения речи (у М.Фуко), как сверхфразовое единство, несущее образ мира (в американской деконструктивистской критике), как произведение, высказывание сегодня стал своеобразной единицей исследования человеческого сознания в разных областях (18. С.7-8). Рассмотрение языка как «дома духа» и «пространства мысли» имеет довольно давнюю традицию. Она восходит к В.Гумбольдту и М.Хайдеггеру, но как своеобразная эпистема гуманитарных наук эта концепция утвердилась только в последние десятилетия.
Здесь возникает вопрос о специфике языковой деятельности в художественной словесности. Для литературоведения существенными оказываются два аспекта этого вопроса: 1.Аспект «языка», понимаемого не как автономная сущность внутренних зависимостей, не как внутри себя замкнутая структура, а как система дискурсивных практик, репрезентирующая культурные смыслы. Язык как отражающий социальные (в широком смысле слова) отношения символический порядок выступает в качестве материала и пространства «художественной мысли». 2.Аспект субъекта этой деятельности, того, кто высказывается посредством литературного произведения, чей опыт «переживания» языка, наполненного смыслом слова, воплощен в материи текста.
Научная новизна данного исследования заключается в подходе к художественному высказыванию как к творческой деятельности его субъекта в смысловом пространстве дискурсивных практик, деятельности, результатом которой становится литературное произведение ( художественное высказывание в его традиционном понимании), в выработке методологии эстетического анализа этой деятельности. Чтобы четче обозначить новизну данного подхода сопоставим его с двумя концепциями специфики словесного искусства, «художественного высказывания», появившимися в последнее время. Речь идет о подходе И.П.Смирнова, изложенном в работе «На пути к теории литературы» и В.И. Тюпы ( наиболее развернуто его позиция по этому вопросу представлена в монографии «Аналитика художественного»).
В предисловии к своей работе И.П. Смирнов ясно формулирует ее задачу: «... раскрыть понятие литературы и вывести из полученного общего определения дефиниции отдельных литературных подсистем, не зависящих от исторического времени, являющих собой универсалии словесного искусства» (6. С.225). Среди этих «подсистем» И. П. Смирнов назвает «поэзию», «прозу», «литературные жанры». В центре внимания первого раздела работы - конститутивные особенности литературного дискурса, при этом И.П. Смирнова интересует прежде всего «логика» моделирования мира в произведениях литературы (6. С.235). Иными словами, ученый пытается разобраться в особенностях организации литературного смысла, неслучайно в последнем издании работа «На пути к теории литературы» включена в книгу с характерным заглавием «Смысл как таковой». И.П. Смирнов рассматривает, так сказать, «смысловую литературность», присущую любому произведению художественной словесности. «Тотальность» теории И.П. Смирнова, на мой взгляд, недостаточно обоснована, так как он иллюстрирует свои положения только на трех примерах ( двух стихотворениях ( Пушкина и Гете) и одном повествовательном произведении ( «Метели» Л.Н.Толстого)). Литературный дискурс, по мнению учего, порождается особой процедурой ( конверсией) семантической памяти (при этом не указано, какими процедурами той же памяти порождаются дискурсы иного типа). Литературному дискурсу присуща 1) «удвоенная рекуррентность» ( повтор прекращенного повтора (И.П. Смирнов рассматривает этот повтор главным образом на «семантическом» и «тематическом» уровнях)) (6. С.235-240); 2) избыточность знаково-смыслового универсума, корресподирующая с недостаточностью референтного универсума (6. С.246); 3) субъект-объектная эквивалентность. Эти свойства обеспечивают эстетическую функцию литературного дискурса : поместить читателя в такой мир, развертывание которого « не опустошает категории», маркирующие те дискурсы ( религиозные, философические, дидактические и пр.), которые входят в пространство литературного дискурса ( 6. С.244). Литература, таким образом, выступает хранительницей дискурсов - особых смысловых миров, сохраняя ( хотя и в «снятом виде») их логику. Понятие «дискурс» употребляется И.П. Смирновым в значении, близком традиционной риторике, - логический принцип организации речи (19. С. 133). Теорию И.П. Смирнова можно назвать неоструктуралистской, поскольку конститутивные признаки литературы здесь распространяются на «смысл» и мотивируются особым, конститутивным же, свойством человеческой памяти. И.П. Смирнов не ставит проблемы творческого субъекта, автора-творца, художника, поэтому «литературность смысла» осуществляется как бы автоматически. Неслучайно, он проводит аналогию между литературной и мифической коммуникаций, заявляя, что «первобытная культура была литературой и искусством par excellence (6. 248-249). Как и в классическом структурализме, «язык» у И.П.Смирнова в художественном произведении оказывается самодавлеющеи реальностью, пусть и в «смысловом», а точнее, в логическом плане. Индивидуальное своеобразие конкретного литературного произведения эта теория, соблазнительная своей логической стройностью и универсальностью, на мой взгляд, объяснить не способна. Субъект у И.П. Смирнова - только фактор литературности, константа литературной (она же и художественная) модели смысла.
В центре внимания В.И.Тюпы - «литературное произведение», понимаемое как единое художественное высказывание. Он разрабатывает методологию «эстетического анализа семиотического объекта (текста)» (12. С. 12) , или семиоэстетического анализа. Ученый рассматривает соотношение текста (традиционного объекта семиотики) и художественного смысла литературного произведения ( объекта эстетики). Текст осуществляет знаковую (вещную) манифестацию смысла для воспринимающего сознания, но смысл актуализируется лишь при встрече с другим смыслом ( в воспринимающем сознании другой личности). «Под словом «смысл» в нашем случае мы подразумеваем некую предельную ( или лучше сказать: за-предельную, трансцендентную) точку отсчета уникальной системы ценностей данного художественного текста, его невоспроизводимую и неуничтожимую «личность», а отнюдь не совокупную семантику составляющих его единиц общенационального языка» (12. С. 17). Художественность здесь, таким образом, не тождественна литературности и связана с ценностным рядом ( характерно выражение «псевдохудожественная организация высказывания», встречающаяся, например, в публицистике) (12. С. 159). Смысл для В.И.Тюпы - явление целостности литературного произведения. Для описания художественного смысла ученый использует понятие «модусов художественности»6. «Модус художественности - это всеобъемлющая характеристика художественного целого, это тот или иной род целостности, стратегия оцелънения, предполагающая не только соответствующий тип героя и ситуации, авторской позиции и читательской рецепции, но и внутренне единую систему ценностей, и соответствующую ей поэтику» ( 12. С. 154). Это положение определяет методику анализа «эстетического дискурса» в специфическом значении этого слова, под которым понимается онтологический статус литературного произведения как коммуникативного события особого рода (12. С.22). Концепцию В.И.Тюпы можно охарактеризовать как неотрадиционалистскую, о чем свидетельствует использование традиционных эстетических категорий ( героическое, трагическое, сатирическое, драматическое и т.д.) при классификации художественных модусов, при этом сами категории рассматриваются В.И.Тюпой в духе диалектики личности и противостоящего ей внешнего мира.
Концепция художественного высказывания, предлагаемая в моей работе, не отождествляет художественное высказывание и литературное произведение. Художественное высказывание (в моем случае единый термин) описывает не «логику смысла» в литературе как таковой, и не целостность художественного мира, но стратегию «авторской» ( возьмем пока это слово в кавычки) работы в дискусивном пространстве, в языке, понимаемом как символический порядок.
Определение художественного высказывания. Художественное высказывание в системе речевых практик
Дискурсивное пространство я понимаю как некую систему речевых практик, первичных24 и вторичных речевых «жанров» (М.Бахтин), различных типов высказываний, устных и письменных. Если литература имеет своим материалом и внешней референцией25 язык, то язык, аккумулированный реализующими его высказываниями, их жанрами и типами. Система высказываний, как показано в работах МФуко, манифестирует систему социальных отношений, в ней воспроизводится язык как особый символический порядок, формируются представления людей о мире. Способ говорения, «речевой жанр», тот или иной дискурс выступает как носитель определенного мирообраза. Поэтому пространство высказываний, или дискурсивное пространство, выступает как необходимый посредник между литературой и языком, между литературой и внешней реальностью (5.С.431). Именно в нем формируется та «семиотическая среда», которая, по мнению Ю.М.Лотмана, является необходимым условием реализации коммуникативной функции словесного искусства (6. С.438).
Художественная словесность второй половины двадцатого века является своеобразной манифестацией этого тезиса. Я имею в виду такое качество постмодернистских текстов, как «центонность», открытое присутствие в тексте «чужого высказывания», входящая в авторское задание игра с готовой жанровой моделью, различные виды стилизации. Безусловно, подобная ассимиляция внешних высказываний в художественный текст наблюдалась и ранее, однако степень и качество проблематизации чужих высказываний были иными. Современная литература подвергает рефлексии отчужденность «говорящего» субъекта от любых речевых практик, отягощенность всякого слова неким «готовым опытом», не аутентичным опыту говорящего, в то время как словесность прошлого всегда полагала существование авторитетных высказываний, которые прозрачно отражали «вещи» и «истины», были им адекватны. Эти высказывания не подвергались рефлексии, деятельность субъекта не обнаруживала их границ. Они выступали как основание этой деятельности, как ее легитимная опора. Например, древнерусская словесность устанавливала некую систему дискурсов - готовых способов говорения о предмете, точнее готовых способов создания этого предмета, которая распространялась на все письмо, была, как указывал Д.С.Лихачев, межжанровой. Жанры определялись их «деловым предназначением», так что авторитетность высказывания зависела от авторитетности области его применения со свойственной ей системой нормативных интерпретаций. «Цитата», готовая жанровая модель, языковой шаблон не осознавались как «чужое слово», как речевой мир Другого (в понимании М.Бахтина), они были способом культурной и языковой идентификации субъекта речевой деятельности.
Подобный способ идентификации в принципе сохраняется и в литературе нового времени, хотя и утрачивает тотальность. Ж.Ф.Лиотар предложил концепцию «метарассказов», под которыми он понимал возникшие в новое время «объяснительные системы», внутренне организованные как «повествования», своеобразные «мифы», имплицитно присутствующие в различных дискурсивных практиках и делающие их легитимными. Среди «метарассказов» он называл, в частности, философию, которая как «метарассказ» представляет собой повествование, имеющее в качестве своего героя познающего (когнитивного) субъекта. (7). «Метарассказы» Лиотара можно сравнить с авторитетными высказываниями М.Бахтина, которые он рассматривал как своеобразную модель речевой деятельности «в каждую эпоху, в каждом социальном кругу, в каждом маленьком мирке семьи, друзей и знакомых» (5. С.460). Французская школа анализа дискурса во главе с М.Пешё вслед за М.Фуко выдвинула понятие «дискурсной формации», некой совокупности речевых практик, в которой присутствует структурная доминанта, определяющая механизм формирования значений в высказываниях. «Дискурсная формация» имеет исторический характер, каждая конкретная эпоха характеризуется своей системой «дискурсных формаций» (8 С.28).Пересекающиеся и дополняющие друг друга понятия «авторитетных высказываний» (М.Бахтин), «метарассказов» (Ж.-Ф.Лиотар), «дискурсных формаций» (М.Фуко и М.Пешё) обращены, на мой взгляд, к одному и тому же процессу, а именно, к социокультурному механизму порождения высказываний, к способам легитимации речевой деятельности, поскольку описывают область, через которую устанавливается значение и смысл сказанного.
Художественное произведение может иметь свой дискурсивный прототип, прообраз во внешнем пространстве высказываний. Новаторство художественного произведения может определяться тем, что оно открывает новую модель легитимности речевой деятельности, манифестирует новую авторитетность речевого поведения. Так, Достоевский одним из первых преодолел монологическую модель повествования, уравняв речевые (и идеологические) позиции автора (повествователя) и героя (персонажа). В аспекте поставленной мною проблемы художественного высказывания как деятельности субъекта в пространстве речевых практик интересно мнение Д.С.Лихачева о дискурсивном прообразе романов Ф.М.Достоевского. Он считает, что на повествовательную структуру романов Ф.М.Достоевского, на диалогизм повлияло развитие в середине XIX века источниковедения и переворот в практике русского суда, где важнейшую роль стали играть показания свидетелей, а они, как известно, - разноречивы.
Проблема автора в теории художественного высказывания
Субъект художественного высказывания входит в структуру автора литературного произведения. Субъект художественного высказывания - это не некое «сознание», миротворящая инстанция. Его следует понимать как принцип обнаружения «чужого слова», некое поле, в котором осуществляется взаиморефлексия присутствующих в произведении дискурсов. Субъект художественного высказывания - это воплощенный в произведении индивидуальный опыт переживания дискурсивной топологии.
На соотношении понятий «автор» и «субъект художественного высказывания» следует остановиться подробнее. Рассматривая традиционное («классическое») понимание автора, М.Фуко выделяет в нем три момента: 1. Автор как «некоторое поле концептуальной или теоретической связности». 2. Автор как «стилистическое единство». 3. Автор как «определенный исторический момент и точка встречи некоторого числа событий» (I. С.27). Новый подход к проблеме автора, предлагаемый философом, заключается в том, чтобы «отнять у субъекта (или у его заместителя) роль некоего изначального основания и проанализировать его как переменную и сложную функцию дискурса» (1. С АО). Субъекта акта высказывания (того, кто «произносит» те или иные слова) М.Фуко рассматривал как переменную {переменного субъекта), занимающего ту позицию (позиции), которую производит дискурс как социальный механизм порождения речи. «Однако все зги позиции не являются образами некоего изначального Я, от которого исходит высказывание: напротив, они являются производными от самого высказывания, и в качестве таковых - формами «не лица», соотносящегося с безличными местоимениями, как, например, в выражении: «Говорят...», конкретизирующимися в зависимости от того или иного семейства высказываний», - так комментирует Ж.Делез эту мысль М.Фуко (2. С.29-30).
Бели автор является «сложной функцией дискурса», выступает как совокупность его «производных»: субъекта (в данном случае понимаемого узко как субъект речи), объекта, концепта (мирообраза), то субъект художественного высказывания как «часть автора» - это специфическая для словесного искусства «функция сложной функции дискурса», своеобразная «метафункция», поскольку в литературе как «искусстве слова» (напомню, что у М.М.Бахтина «слово» рассматривается как «аббревиатура высказывания» (3. С.268; 4)) «разыгрываются», и «разыгрываются» не случайно, а, как сказал М.Бахтин, по художественному заданию, первичные и вторичные речевые жанры, различные речевые миры, дискурсы.
Итак, по отношению к художественному произведению можно говорить об авторе в широком смысле слова как о сложной структуре, в которую входит субъект художественного высказывания. Однако в системе литературного произведения можно выделить и автора в узком смысле слова. Речь идет об определении автора в том значении, которое ему придавал М.Фуко -«сложная функция дискурса». Автор в узком смысле слова противостоит субъекту художественного высказывания, поскольку последний является субъектом над-дискурсивной деятельности. Если автор в широком смысле «больше» субъекта художественного высказывания, то автор в узком смысле слова не «меньше» творческого субъекта, а как бы потенциально «ниже» его, поскольку как функция дискурса может стать предметом эстетической рефлексии субъекта художественного высказывания, превратиться в «героя», завершаемого с позиций вненаходимости. Автор в узком смысле слова тоже входит в структуру автора в широком смысле, находясь в ней в отношениях «контакта и дистанции» (Н.Т.Рымарь) с субъектом художественной активности. Чем теснее этот «контакт», тем слабее отношения творческой рефлексии, тем меньше творческих моментов в деятельности субъекта художественного высказывания, а следовательно, и автора (в широком смысле) литературного произведения. Однако подобный контакт не может исчезнуть вовсе, а дистанция, соответственно, стать абсолютной. Если такое происходит, то деятельность субъекта художественного высказывания выпадает из литературного пространства и переносится в семиотическое пространство других областей искусства, культуры, что имеет место, например, при экранизации литературного произведения. В словесном искусстве, в художественном высказывании, отношения контакта и дистанции творческого субъекта и готовых дискурсов выступает как материальное основание его смысловой природы.
Предлагаемая мною категория автора в широком смысле слова принципиально отличается от «концепированного автора» (Б.Корман) как некой миротворящей инстанции, демиурга, и от понятия «первичного автора», которое, опираясь на М.Бахтина, разрабатывает С.Н.Бройтман. «Первичный автор», по Бройтману, не совпадает с каким бы то ни было субъектом речи литературного произведения45. Он реализуется только в художественном целом, поскольку оно является «творением интенции первичного автора» (5. С.287). «Первичный автор» в произведение не входит, «облечен в молчание», трансцедентен произведению (5. С. 272-273). Концепция С.Н.Броймана близка моему пониманию субъекта художественного высказывания. Однако ученый противопоставляет этому «первичному автору» только «субъектов авторского плана» (5. С.273), то есть повествователя, рассказчика и т.п. Мне такая позиция представляется некоторым упрощением, поскольку «субъекты авторского плана», как, впрочем, и само событие изображения, не являются «порождением» первичного автора, не создаются им заново, а являются некими более или менее оформившимися конвенциями, структурами внешнего по отношению к акту художественного высказывания речевого мира. Условно говоря, «субъекты авторского плана» - это и структура художественного языка в его конкретно-историческом бытии, и принадлежность литературного сектора «дискурсной формации», в которой осуществляется деятельность художественного субъекта.
М.М. Бахтин о «творческом хронотопе». Время-пространство художественного высказывания
В определении мною художественного высказывания как особого рода деятельности субъекта в актуальном для него дискурсивном пространстве не рассмотренным остался аспект актуального пространства, другими словами, пространственно временное (и ценностное) отношение творческого субъекта к присутствующим в произведении дискурсам. Речь идет о хронотопе субъекта художественного высказывания, или о «времяпространстве» осуществления дискурсивной проблематизации в художественной словесности. Предложив хронотоп - понятие, описывающее форму, в которой входят в «наш опыт (притом социальный опыт)» «смысловые моменты», - в качестве инструмента эстетического анализа литературного произведения, М.Бахтин подчеркивал «материальную» природу этой формы: «... каковы бы ни были эти смыслы, чтобы войти в наш опыт (притом социальный опыт), они должны принять какое-либо временно-пространственное выражение, то есть принять знаковую форму, слышимую и видимую нами (иероглиф, математическую формулу, словесно-языковое выражение, рисунок и др.)» (1. С. 290). Хронотоп у М.Бахтина, таким образом, выступает как синтетическая категория, метафорически и аллегорически (иносказательно (1. С. 197))
описывающая знаковый механизм о-формления смысла в литературе как области культуры (хотя ученый и полагает хронотоп как универсальный для культуры механизм опредмечивания смыслов, в рассматриваемой статье речь идет о специфическом «времяпространстве» словесного творчества). Анализ ранних форм романа, рассуждения о генезисе их хронотопов, связанном с фольклором, позволяет сделать вывод, что М.Бахтин основное внимание уделяет «жанровым хронотопам»48, то есть тропологическому процессу означивания в специфических дискурсах литературы. Эти дискурсы, жанры, находятся у истоков романа, обнаруживают в его позднейших разновидностях свои следы, а их хронотопы подвергаются в них смещению и переработке. Выделенные М.Бахтиным хронотопы - греческого романа - «чужой мир в авантюрном времени» (1. С. 126), античного «авантюрно-бытового романа» (Апулей и Петроний) - хронотоп метаморфозы (1. С. 149), античной биографии и автобиографии -хронотоп «агоры» (1. С. 168) и хронотопные мотивы (например, мотив дороги), которые в жанрообразующих хронотопах получают свою интерпретапию, - характеризуют прежде всего «мир изображенный», имеют отношение к герою произведения, понимаемому в самом широком смысле слова. Ученый не дает исчерпывающую классификацию хронотопов, да он и не ставит перед собой такой задачи, поскольку каждый мотив, каждый образ произведения может иметь свой хронотоп.
В пределах одного произведения, в творчестве одного писателя наблюдается множество хронотопов, их сложное, специфическое для данного автора переплетение. При этом всегда можно выделить некий доминантный хронотоп. Анализ доминантного хронотопа М.Бахтин демонстрирует на примере творчества Ф.Рабле («раблезианский хронотоп»). Однако сами взаимоотношения между хронотопами, их диалог не являются принадлежностью мира изображенного, «не могут входить ни в один из взаимоотносящихся хронотопов» (1. С.284). Этот диалог осуществляется вне изображенного мира, хотя и не вне произведения в его целом: «Он (этот диалог) входит в мир автора, исполнителя и в мир слушателей и читателей. И эти миры также хронотопичны» (1. С.284).
Эта мысль М.Бахтина заслуживает особого комментария, так как имеет непосредственное отношение к субъекту художественного высказывания. Диалог хронотопов, сформировавшихся внутри жанров, в частности, внутри первых жанровых разновидностей романа, осуществляется в той сфере, которую М.Бахтин обозначает как «автор-творец» ( о сфере «слушателя-читателя» ученый тоже упоминает, не разрабатывая этот вопрос детально, я же, рассматривая сферу «автора» и сферу «читателя» как взаимообратимые, буду рассуждать о них в пространстве симультанности, одновременности). Но прежде чем обратиться к хронотопу автора и соответственно субъекта художественной деятельности, следует внести некоторые уточнения, касающиеся бахтинской теории жанра и концепции романа.
Теория романа активно разрабатывается М.Бахтиным со второй половины двадцатых годов. Пафосом этой теории является понимание романа как открытого жанра, в котором другие жанры (обладающие каноном) подвергаются переосмыслению и переработке в зоне контакта с живой действительностью. В этом смысле роман у Бахтина не является жанром, он есть высказывание о живой и становящейся жизни. Обозначение М.Бахтиным романа как «неканонического жанра» предусматривает его «многожанровую» природу, поскольку роман допускает включение в свой состав различных жанров, как художественных, так и внехудожественных (2. С. 134; 3. С.7-11; 4. С.366-367). Романизация жанров, интенсивно протекающая в литературе нового времени, означает их деканонизацию, преодоление их условности. Преодоление условности оказывается возможным благодаря тому, что жанровый шаблон, совокупность правил и конвенций, которым подчиняется надындивидуальный речевой мир, жесткая дискурсивная структура, порождающая определенный мирообраз, входит в пространство личностной, авторской рефлексии, в поле художественного высказывания, смещаясь от текста к произведению.
Художественное высказывание в современной дискурсной формации. Автометатексты как предмет теории художественного высказывания
Эта глава не претендует на детальное исследование современной литературной ситуации. В центре ее - анализ художественной стратегии трех произведений: трилогии И.Яркевича «Как я и как меня», романа С.Ануфриева и П.Пепперштейна «Мифогенная любовь каст», романа В.Сорокина «Голубое сало». Трилогия написана в конце восьмидесятых годов (полностью текст И.Яркевича опубликован в 1991г.), первый том романа «Мифогенная любовь каст»55, как и роман «Голубое сало», опубликован в 1999 году.
Избранные для анализа произведения представляются мне релевантными с точки зрения теории художественного высказывания. Дело не только в том, что материалом и героем, то есть изображенным речевым миром, этих произведений является литература, художественной рефлексии здесь подвергается сам язык описания литературы, язык ее интерпретации в различных дискурсивных практиках, язык теории, метаязык. Такие тексты сопротивляются их рассмотрению с точки зрения дескриптивной поэтики, поскольку поэтика в них становится героем, миром изображенным. Основными участниками события произведения здесь оказываются «автор» и «читатель», в то время как материальный «медиум» их коммуникации - «текст» (в понимании М.Бахтина) - в значительной степени выступает как «реди мейд» (готовая вещь), как совокупность конвенциональных миров, различных дискурсов. Сама коммуникация автора и читателя в анализируемых текстах тоже проблематизируется: «автор» здесь превращается в читателя-интерпретатора дискурсивного пространства произведения, в то время как на имплицитного читателя возлагается роль «автора», своеобразного источника интенции речевых миров текста. Неслучайно, исследователи современной литературы, которую обычно определяют как постмодернизм, терминам поэтики, описывающим повествование, предпочитают дефиницию - художественная стратегия, подразумевая под этим авторское поведение в пространстве готовых миромоделей, особую коммуникативную установку автора, намеренно разрушающего читательский стереотип восприятия этих миров. Художественное высказывание как опыт переживания дискурсивной топологии, как рефлексивная деятельность субъекта в пространстве конвенциональных речевых (и смысловых) миров в рассматриваемых произведениях тематизируется, становится своебразным центром всей поэтической структуры.
Содержание трех исследуемых текстов, которое могло бы быть описано в традиционных терминах « образы, проблемы, идеи», развертывается как аллегория (метафорическая тактика у И.Яркевича и метонимия у С.Ануфриева и П.Пепперштейна подчинены стратегии иносказания), причем «форма» этой аллегории осознается художниками как маргинальная для освященной нормативными интерпретациями «большой русской прозы», «классики». У И.Яркевича - это сексуальные перверсии подростка, у С.Ануфриева и П.Пепперштейна - «старомодное» «советское» повествование о войне, контаминирующее с волшебной сказкой, у В.Сорокина - научная фантастика. Художественное высказывание в рассматриваемых произведениях конституируется в пространстве «ничтожного и пошлого» (1. С.215-245), что является следствием крушения жанровой иерархии в литературе конца восьмидесятых-девяностых годов, точнее манифестацией этого крушения.
Произведения, анализу которых будут посвящены последующие разделы, можно отнести к автометатекстам («сам-себе-метатекст»). Это определение предложено С.Зенкиным (2. С.46-50). Автометатексты в его понимании - это тексты, « в которых литература описывает и осмысляет себя» (2. С.50), которые в самих себе содержат программу исследовательской генерализации (2. С.46). Автометатексты, по мнению С.Зенкина, составляют в современной гуманитарной науке предмет «теории». Бели история литературы, исследующая «контекст» произведения, при максимальной широте охвата материала прибегает к минимальным обобщениям, поэтика, занимающаяся изучением многообразных возможностей «литературного выражения» (2. С.44), подкрепляет теоретические глобализации максимальной широтой охвата материала, то «теория», практикующая рискованную экстраполяцию выводов, сделанных на узком материале, характеризуется им как область гипотетичных рассуждений о «культуре вообще» и рассматривается как «стадия неустойчивая, переходная на пути к более строгой научности (поэтике или истории), либо к более вольной и расплывчатой литературной эссеистике» (2. С.47). Такое отношение к теории является, на мой взгляд, отражением теоретического негативизма литературоведения девяностых годов (3).
Автометатексты действительно стали предметом большого количества культурологических исследований, глобальных теоретических обобщений, полем приложения постмодернистской парадигмы описания культуры. Но зададимся вопросом: «виноваты» ли в этом сами произведения? Большинство литературных текстов, якобы побуждающих самим своим устройством к теоретическим генерализациям (С.Зенкин называет здесь бальзаковского «Сарразина», «В поисках утраченного времени» М.Пруста, «творчество Флобера» (2. С.46), к ним я могла бы добавить и «Муму» И.Тургенева (4)), приобретают подобное качество в пространстве современной дискурсной формации. Произведения девятнадцатого века читаются на фоне новой системы объяснительных механизмов, обретают новый контекст интерпретации. Иными словами, автометатекстами их делает точка зрения исследователей. Перед нами тот случай, когда, по словам М. Фуко, те же «слова», произнесенные в другом контексте, становятся другим высказыванием.
Трилогия И.Яркевича, роман С.Ануфриева и П.Пепперштейна, произведение В.Сорокина я бы назвала подлинными «автометатекстами», потому что они возникли в той дискурсивной ситуации, где проблематичным стало само существование «метаязыка» как привилегированного означающего. Фикциональность «метаязыка» стала предметом художественной рефлексии в текстах московского концептуализма. Это как раз тот случай, когда теоретизирование сместилось, точнее, переместилось в область художественного творчества, стало пространством художественного высказывания.
Автометатексты содержат в себе «художественную концепцию» истории литературы, рефлексию над средствами литературного выражения. Метаязыки истории литературы и поэтики составляют в них часть дискурсивного пространства, в котором развертывается деятельность субъекта художественного высказывания. Этот субъект принципиально (и это эксплицировано в тексте) не совпадает с автором, который в этих текстах осмысливается как продукт дискурса.
Теория художественного высказывания может стать дополнительным инструментом смыслового анализа автометатекстов, массированное появление которых характерно именно для современной литературной ситуации.