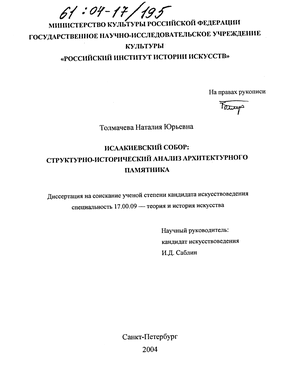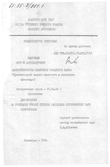Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Исаакиевскии собор: структурные и семантические особенности архитектурного памятника ... 22
1. Собор в пространстве города 22
2. Экстерьер собора 27
3. Интерьер собора 46
3.1. Анализ внутреннего устройства храма 46
3.2. Особенности росписи главного купола 61
3.3. Иконостас. Отличия от канонического устройства 72
3.4. Витраж собора 79
4. Исаакиевскии собор и традиции русской и западноевропейской архитектуры 83
Примечания к Введению и Главе 1 113
Глава 2. Исаакиевскии собор как памятник николаевской эпохи 118
1. Политический аспект исторического анализа Исаакиевского собора 118
2. Экономический аспект строительства архитектурного памятника 123
Примечания к Главе 2 140
Глава 3. Восприятие Исаакиевского собора современниками 141
1. Отзывы современников о Монферране 141
2. Мнения современников о соборе 154
2.1. Периодическая печать 1840—1858 гг. о соборе 154
2.2. Современники о строящемся храме 159
2.3. Торжественное открытие и освящение Исаакиевского собора 165
2.4. Пресса XIX в. о роли нового храма в жизни империи 176
2.5. Оценка современниками значения Исаакиевского собора в культурной жизни России 180
Заключение 202
Приложения 205
Примечания к Главе 3
Заключению и Приложениям 222
Список литературы 225
Периодическая печать 236
Журналы 236
Газеты 241
Полное собрание законов Российской Империи 243
Архивные материалы 243
- Собор в пространстве города
- Интерьер собора
- Политический аспект исторического анализа Исаакиевского собора
- Отзывы современников о Монферране
Введение к работе
Крупнейшие соборы Европы — не просто архитектурно-художественные памятники, но уникальные сооружения, строительство которых всегда составляло целые эпохи в жизни той или иной страны. Они отражают как смену архитектурных стилей, так и развитие искусства в целом. Более того, культовые сооружения являются высшими достижениями культуры определенных исторических эпох, синтезируя все лучшее в искусстве и технологии своего времени. Соборы, грандиозные по размерам, не только становились духовными центрами, они свидетельствовали о богатстве и могуществе города (государства), способного воздвигнуть столь значительные сооружения. Действительно, можно рассматривать храмы и как символы величия нации, обращенные к грядущим векам и поколениям, поэтому их изучение позволяет лучше понять культурно-исторические особенности различных европейских стран. Кафедральный Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге входит в число самых богатых и значительных по размерам европейских культовых памятников; представляется поэтому важным попытаться определить его место в культурно-историческом развитии России и Европы.
Помещая в центр научного исследования главный храм Петербурга, который, вне всякого сомнения, представляет собой уникальное явление в истории искусства, равно как и культуры первой половины XIX в., автор обозначает две основные задачи. Во-первых, рассмотреть Исаакиевский собор как целостное произведение искусства, для чего необходимо изучить структурные и семантические особенности памятника. А, во-вторых,
рассмотреть эпоху, в которую он строился, проанализировав культурно-исторические условия его возникновения.
При работе над диссертацией была привлечена практически вся известная до настоящего момента литература об Исаакиевском соборе. На основе ее анализа представляется возможным выделить три основных подхода: искусствоведческий, идеологический и культурологический.
Культурологический подход нашел отражение, прежде всего, в периодической печати, современной строительству собора, газетах и журналах 1840—1858 гг. Интерес к строительству Исаакиевского собора у современников был велик со дня закладки первого камня и практически нет периодического издания, в котором ни разу не публиковались бы материалы, посвященные собору. Все эти статьи знакомят читателей с историей строительства храма, описывают экстерьер и интерьер здания, уделяют большое внимание отдельным деталям, но не содержат искусствоведческого анализа. Эти работы описательные, не научные. В них отсутствуют какие-либо критические оценки, место которых отдано эмоциональным возгласам, например: «на Петровской площади оканчивается храм-памятник, изумительный по материалу и величию массы, замечательный смелостию размеров и драгоценный русскому сердцу по имени святого, в день которого родился гений-Царь, благотворитель России»1.
Список публикаций, связанных с собором, которые были опубликованы в периодике XIX в., приводится в конце диссертации.
Как проявление культурологического подхода к изучению памятника большую ценность представляют также отзывы современников. Изучение
восприятия ими Исаакиевского собора помогает определить его место в культурной жизни России. Стоит упомянуть в этой связи книги Архимандрита Августина (Никитина) , Д.В. Григоровича, Ф.А. Вальтера , Т. Готье , А. Иванова6, А. Кюстина7, К. Мало8, А.А. Монферрана9, А. Руссель-Киллуга10, Е.А. Штакеншнейдер11.
Помимо указанных работ к изданиям, хотя бы частично описывающим Исаакиевский собор, можно отнести книги И.Н. Божерянова12, И.И. Пушкарева13 и Ю.И. Шамурина14. Существуют также тексты, полностью посвященные кафедральному собору15. Также отметим работы Ф.А. Знаменского16, Н. Половцева, П. Преображенского17, В.И. Серафимова и М.И. Фомина18.
Все эти авторы упоминают роскошное оформление и огромные размеры храма: подробно описывают каждую значительную деталь (двери, люстры, и т. п.) с указанием количества золота, затраченного на ее выполнение, знакомят читателей с сюжетами барельефов, росписей. Но, как уже отмечалось, анализ художественного памятника в таких изданиях отсутствует. Есть в них фактические ошибки, например, авторы могли спутать третий Исаакиевский собор (А. Ринальди) с четвертым (О. Монферрана), часто неверно указывали время, за которое был построен храм19, и т. д.
Храм св. Исаакия — главное культовое здание страны, и при его изучении нельзя было, конечно же, избежать идеологического подхода, направленность которого менялась с течением времени. В ряде изданий Исаакиевский собор рассматривался исключительно с точки зрения религии, — как здание для совершения православных обрядов. Начало чему положил
староста храма Богданович, на протяжении ряда лет выпускавший специальное издание «Кафедра Исаакиевского собора». В этих сборниках печатались проповеди, произносимые на службах. Тот же Богданович издал в 1883 г. одно из самых полных изданий о храме «Исаакиевский собор 1858-1883» . В этой работе, как и во всех других, опубликованных в XIX в., редко встретишь критику сооружения. Лишь на один недостаток Исаакиевского собора указывали иногда — на слабую освещенность интерьера: «вследствие темноты собора, у самых, например, северных и юго-западных окон храма, из четырех крупных картин, над карнизами и по сторонам свода, едва можно разобрать только две, остальные же или вовсе не видны, или полиняли так — что верхние, выше карниза, изображения, излишне и описывать» \
О соборе, будучи его настоятелем, много писал протоиерей Смирнов, касаясь в частности той роли, которую храм играл в религиозной жизни страны. На широкую аудиторию было рассчитано издание Ф.А. Кони22. Что видно из второй части названия: «Кафедральный собор святого Исаакия Далматского в Санкт-Петербурге. Повествование для русского православного народа». Выпущена она в год открытия храма, когда интерес к собору был особенно велик, и была призвана помочь россиянам составить представление о новой святыне государства Двумя годами позже вышла книга «О святыне Исаакиевского кафедрального собора» , описывающая наиболее почитаемые иконы, находящиеся в нем. Автор не делает искусствоведческого анализа икон, а лишь описывает их внешний вид и расположение в храме, с тем чтобы каждый верующий при посещении собора мог легко их найти. Эти же цели
преследовали и другие авторы: Л.П. Петров24, Е. Поселянин25, А.И. Сперанский26.
Но именно в связи с тем, что Исаакиевский собор являлся главным храмом страны, светская власть также проявляла интерес к зданию. Отношения между государственной и церковной властями регулировались специальными законами и постановлениями, что подчеркивает особый статус храма. Перечень законов, относящихся к урегулированию отношений между государством и церковной властью, приводится в конце работы. Документы показывают, что храм всегда содержался на средства из государственной казны, и патронировала его царская семья. При работе над исследованием были обнаружены два Церемониала, продуманные до мелочей, и являющиеся важным свидетельством эпохи . Они содержат информацию как о лицах, допущенных до участия в освящении и открытии собора, так и о самих этих процедурах. Их изучение дает богатейший материал для выявления значения, которое придавалось официальной властью дню открытия храма и самому собору. Церемониалы публикуются впервые.
Исаакиевский собор рассматривали также как государственный заказ — создание российских императоров, в частности Николая I, который, исповедуя православие, боролся за укрепление религии в стране личным примером. К таким книгам относятся: Царствование Николая I и работа А.П. Узанова . В них проводятся мысли о слиянии светской власти и церковной.
После того как в России в XX в. сменилась идеология, изменилась и оценка собора. В советское время собор нередко преподносили в литературе как очаг мракобесия. К таким изданиям относятся книги В.А. Беляева,
Е.И. Востокова , Л. Финна . Подобные книги интересны как памятники истории, они не относятся к научной литературе. После очередной смены идеологии здание на Исаакиевской площади вновь обрело статус храма, и вошло во все церковные справочники, такие как книга В.В.Антонова и А.В. Кобака32.
В первой половине XIX в. еще не было специальных изданий, которые бы демонстрировали научный подход к произведениям искусства. Поэтому всю литературу, современную созданию собора, можно подразделить на культурологическую и идеологическую. Искусствоведческий подход при рассмотрении Исаакиевского собора прослеживается впервые у П.П. Гнедича и В.В. Стасова. Их книги чрезвычайно важны для истории искусства, так как они положили начало критической литературе о классицизме вообще, и о главном культовом сооружении России XIX в. в частности. Гнедич свою «Историю искусств», изданную в 1885 г., назвал «первой попыткой дать на русском языке, в живом и сжатом изложении, картину общего хода развития искусств с древнейших времен до наших дней». И, несмотря на большой объем материала, он из пяти изображений зданий Петербурга два отводит храму, считая необходимым показать читателям и экстерьер, и интерьер главного собора России. (Стоит отметить, что изображение внутреннего убранства очень темное). Непосредственно храм не разбирается, но его изображение дано рядом с текстом о ложноклассическом стиле: «подражание древним образцам было более чем неудачно, потому что подражатели охватывали только наружный облик форм, не проникая, так сказать, в душу произведений античного мира. Барельефы, горельефы и статуи свелись до степени условного
подражания плохим позднеримским образцам, даже близко не подходя к той пластичной грации, которой полны произведения Эллады» . Эти идеи девять лет спустя развил Стасов, который впервые подверг критике главный собор страны, назвав сухой и невозможной постройкой с массой недостатков. Стасов в отличие от всех предыдущих авторов, писавших о соборе, не сообщал параметров конструкций, не приводил описания здания и его деталей, а попытался ответить на вопрос: почему главный храм выглядит именно так, а не иначе. Его суждения о русской архитектуре XIX в. во многом спорны34, но они в частности дали толчок к исследованию здания с позиций искусствоведения. Отныне во всех работах о сооружениях Петербурга, построенных в стиле классицизма, собор рассматривается как самое позднее сооружение, возведенного в этом стиле. При этом, хотя в последующем и не принято было подвергать Исаакиевский собор критике, тем не менее, никто не делал попыток разобраться в появлении неклассических черт в облике храма и рассмотреть памятник как целостное произведение искусства.
К таким изданиям относятся работы А.И. Гегелло и В.И. Пилявского ; И.Э. Грабаря , Н.Н. Коваленской , А.Л. Пунина . Наиболее полными сочинениями, посвященными собору, в советское время были книги Г.П. Бутикова и Г.А. Хвостовой39; М.Г. Колотова40, Н.П. Никитина41, А.Л. Ротача42, О.А. Чекановой43. Книги Бутикова и архитектора Ротача (главного реставратора Исаакиевского собора после Великой Отечественной войны) содержат наиболее полную информацию о храме. В целом издания XX в. описывают историю проектирования и строительства архитектурного сооружения, его художественные достоинства Большое внимание уделяется
раскрытию инженерно-технических особенностей и декоративного убранства, таким образом, выявляется единый историко-художественный комплекс здания. Но и в этих изданиях не предпринимается попыток проанализировать Исаакиевский собор с разных позиций.
Следует отметить, что произведения архитектуры в отечественной искусствоведческой литературе нередко рассматривались с какой-то одной точки зрения: как средство для изучения истоков и развития определенного стиля, например, либо для выявления взаимоотношений искусства и власти. Экономический аспект вообще не получил в искусствоведении должного освещения, но, по убеждению автора, его нельзя игнорировать при анализе столь значительных архитектурных объектов, так как архитектура в принципе требует значительных денежных вложений. Не уделялось достаточного внимания и научно-техническому аспекту, хотя строительство любого грандиозного здания всегда требовало оригинальных решений в области технологии, что могло привести и к открытиям в науке44.
Также, в тех случаях, когда предметом искусствоведческого анализа становился памятник культового зодчества, нередко игнорировался теологический аспект, без которого многое в понимании организации пространства сооружения терялось. И наконец, исследование архитектурных памятников часто оставалось в рамках непосредственно русского искусства, будучи ограничено художественными процессами, имевшими место в России, что отрывало отечественную архитектуру от всеобщей истории искусства. Автору данной работы представляется очевидной необходимость как изучения
русского искусства в контексте европейской культуры, так и помещения данного архитектурного памятника в мировой художественный процесс.
Исследование литературы об Исаакиевском соборе показывает, что односторонний подход имел место и при его изучении: либо он рассматривался как произведение искусства, без понимания духовной идеи, заложенной в самой структуре сооружения; либо исключительно как храм — здание для совершения религиозных обрядов. Но и самое подробное освещение какого-то одного аспекта (без учета других) не дает верного представления о памятнике, являющемся художественным достижением целой эпохи в жизни страны. Конечно же, собор соединяет в себе и произведение искусства, и культовое сооружение, он и сейчас существует одновременно как музей и как церковь, в которой по определенным дням проходят службы (а любой зритель может оказаться и в роли экскурсанта, интересующегося исключительно историей искусства, и молящегося: все зависит от дня и времени посещения). Следовательно, научное рассмотрение должно включать в себя различные аспекты, которые было бы нецелесообразно брать изолированно друг от друга, так как именно их взаимосвязь образует новые уровни исследования. Так мы приходим к необходимости комплексного изучения архитектурного памятника. Условно такой подход можно изобразить следующей схемой:
николаевская эпоха
религия
«*—
Исаакиевский собор
западноевропейская архитектура
восприятие Исаакиевского
собора современниками
архитектурный
ансамбль центра
Санкт-Петербурга
Схема не исчерпывает всю проблематику работы, но позволяет более четко сформулировать основные аспекты исследования, помещенные в закругленные прямоугольники; тогда как в овалах — поясняющие их составляющие. Пристальное исследование деталей памятника и их взаимосвязей приводит к рассмотрению (в схеме это показано стрелками) николаевской эпохи, религиозного аспекта, проблем восприятия собора современниками и сложения ансамбля архитектурного центра Санкт-Петербурга, истории взаимодействия русского классицизма и западноевропейского неоклассицизма, и шире, — всей истории (включая Средневековье) строительства христианских соборов45.
Из множества возможных направлений исследования автор выделяет два: искусствоведческое и историческое. Первое важно для изучения
Исаакиевского собора как самостоятельного произведения искусства: исследуется экстерьер и интерьер храма, отдельно рассматривается проблема синтеза различных видов искусств, участвующих в формировании образа здания: архитектуры, скульптуры, живописи, мозаики, витражного искусства. Определяются особенности архитектурного решения собора в контексте западноевропейского неоклассицизма, а через то — место петербургского храма не только в пространстве Санкт-Петербурга, но и в мировой истории архитектуры.
Уникальность памятника можно определить при помощи сравнительного анализа, сопоставляя Исаакиевский собор с другими аналогичными сооружениями. Это позволило бы не только осветить проблему взаимовлияния культур, но и понять отношение храма к отечественным традициям, где он воспринимался как западный собор. Рассмотрение особенностей петербургского памятника ведет к лучшему пониманию русского классицизма, в его связи с европейской классической традицией. Отметим, что проблема архитектурных взаимосвязей находится в центре современных искусствоведческих исследований46.
Второе направление исследования дает возможность рассмотреть сквозь призму Исаакиевского собора николаевскую эпоху — ведь строительство значительного архитектурного сооружения не просто растянуто во времени, но самым непосредственным образом связано с определенной исторической эпохой. Необходимо, следовательно, проанализировать политические, экономические, научно-технические, эстетические и теологические условия возникновения памятника. Важность рассмотрения в
искусствоведческой работе этих культурно-исторических условий, кажущихся на первый взгляд далекими от проблем собственно искусства, уже пояснялась выше. Здесь же стоит особо подчеркнуть: несмотря на то, что большое внимание в работе уделяется анализу структуры Исаакиевского собора, он изучается не как автономная, обособленная система, без учета внешних связей. Напротив, именно рассматривая анализируемую систему как часть (подсистему) более общих систем, можно выявить уникальность Исаакиевского собора.
Таким образом, помещая в центр исследования отдельное произведение искусства, автор рассматривает его системно. Метод системного анализа с давних пор применяется в самых разных науках: от математики до литературоведения. Кратко этот подход можно охарактеризовать так: отдельное явление должно изучаться как целое, которое обладает уникальной структурой и состоит из деталей, находящихся в различного типа связях между собой. Уже из такого определения видно, что понятие «система» тесно связано с понятием «структура». Поэтому прежде чем определять структурные особенности Исаакиевского собора, необходимо выяснить, является ли он системой, — только в этом случае исследование структурированного целого может стать предметом научной работы. Существует четыре свойства, которыми должен обладать объект, чтобы его можно было рассматривать как систему47.
1. Целостность и членимость. Система есть целостная совокупность элементов, взаимодействующих друг с другом. Следует иметь в виду, что отдельные детали существуют лишь в системе, — за ее пределами они
являются объектами, обладающими потенциальной способностью к образованию структурированного целого. Элементы системы могут быть разнокачественными, но одновременно совместимыми. Такими составляющими в Исаакиевском соборе являются различные виды искусств: архитектура, живопись, скульптура, мозаика, витражное искусство.
Связи. Между элементами имеются существенные связи, которые с закономерной необходимостью определяют интегративные качества системы. Связи между частями внутри структуры должны быть более мощными, чем связи отдельных элементов с внешней средой, так как в противном случае система не сможет существовать. Вот почему необходимо рассмотреть проблему соединения различных видов искусств, участвующих в сложении облика Исаакиевского собора.
Организация. Наличие системоформирующих факторов у элементов лишь предполагает возможность создания системы. Для ее появления необходимо сформировать упорядоченные связи, то есть определенную структуру, организацию системы. Для определения структурных особенностей Исаакиевского собора необходимо рассмотреть все аспекты изучения: теологический, позволяющий выявить организацию пространства культового памятника; искусствоведческий (важно изучить проблему синтеза искусств и выявить роль архитектуры как главного вида искусств, задающего параметры всем остальным видам искусства: от росписей сводов до настенных мозаик); и исторический, . создавший определенные условия для сложения конкретной системы.
4. Интегративные качества: наличие у системы интегративных качеств, то есть качеств, присущих системе в целом, но не свойственных ни одному из ее элементов в отдельности. В этом и заключается уникальность произведения искусства, определяющая его целостность и ценность.
Исаакиевский собор как самостоятельный архитектурно-художественный памятник обладает, таким образом, всеми четырьмя свойствами, представляя собой сложно организованную многоуровневую систему. Следовательно, можно выявить ее внутреннее строение — структуру — с помощью структурного анализа, являющегося частным способом изучения памятника и включенного в более широкое понятие системного подхода.
Необходимо помнить, что все элементы исследуемого объекта как системы рассматриваются только в совокупности, во взаимосвязи друг с другом. Этот принцип неизменен для всех наук, в которых применяется системный анализ, но, естественно, каждая знаковая система использует специфические, присущие лишь ей, средства для характеристики своих объектов исследования. Взяв за основу универсальный метод научного познания — системный анализ, автор диссертации подошел к изучению Исаакиевского собора с позиций искусствоведческого структурализма — сформулированного в 1930-е гг. X. Зедльмайром (Н. Sedlmayr), О. Пехтом (О. Pacht), Н.И. Бруновым и др.
Основоположник этой традиции — Зедльмайр — разработал метод структурного анализа как язык описания архитектурных сооружений. Ученого в частности не удовлетворяла доминирующее в науке представление об
истории искусства как истории последовательно сменяющихся стилей, где отдельные памятники рассматривались только как примеры таких более общих явлений. По убеждению Зедльмайра, изучение искусства должно основываться на интерпретации отдельных произведений, так как именно в них заключена сущность искусства: «подлинное произведение искусства представляет собой покоящийся в себе малый мир и вместе с тем узловой пункт исторического процесса... Не поняв произведений искусства, не понять и художественного процесса и самой истории искусства»48. Эти положения не только сыграли важную роль в развитии искусствоведения в середине XX в., они остаются актуальными и до сих пор.
Во-первых, с помощью искусствоведческого структурализма і можно более полно исследовать произведения искусства, выявляя индивидуальные особенности конкретных сооружений. Во-вторых, метод структурного анализа (в отличие от стилистического) дает возможность избежать ошибочных суждений и негативных оценок в отношении памятников, не укладывающихся в «рамки» того или иного стиля. Это важное достижение метода, так как анализ, берущий начало в изучении внутренней структуры произведения искусства, а не внешних условий сложения определенного стиля, приводит и к пониманию значения памятника в истории архитектуры.
Данное положение актуально для исследования Исаакиевского собора. Сторонники стилистического анализа часто обвиняют памятник в эклектизме: «Исаакиевский собор строился уже в период упадка этого архитектурного направления (позднего классицизма, — Н. Т.), вторжения в архитектуру эклектики — механического соединения элементов различных стилей, и его
облик лишь в целом выдержан в стиле классицизм, в деталях же заметны
49 г-»
многочисленные отступления» . Это распространенное и, по мнению автора, ошибочное суждение о соборе. Подобных оценок можно было бы избежать, если рассматривать храм не как элемент художественного процесса первой половины XIX в., заключающего в себе признаки конкретного стиля, а как уникальное произведение архитектуры. Своей целью автор полагает объяснение феномена петербургского храма, соглашаясь, что задачей искусствоведа является «раскрытие путей к пониманию отдельных произведений искусства»50. Вот почему анализ Исаакиевского собора является самостоятельной целью научного исследования, не средством для описания стиля или эпохи.
Как уже отмечалось ранее, изучение Исаакиевского собора подводит к культурно-историческому исследованию всего периода первой половины-середины XIX в. В этом автор также следует идеям Зедльмайра, который указывал на необходимость исследования условий возникновения архитектурного памятника: «правильная интерпретация учитывает исторический уровень»51. Следует осветить исторический фон, в противном случае искусствоведческий анализ будет неполным. Автор настоящей работы предлагает в качестве основного метода исследования Исаакиевского собора структурно-исторический анализ; таким образом, структурный анализ не противопоставляется историческому, а сочетается с ним. Последнее утверждение принципиально важно для понимания постановки проблемы исследования: одновременное изучение произведения искусства в единстве
двух аспектов. Исторический фон воссоздается через призму одного из значительнейших архитектурных сооружений первой половины XIX в.
С другой стороны, изучение культурно-исторической эпохи позволяет лучше понять художественные особенности архитектурного сооружения, призванного в частности отражать идеи незыблемости российского самодержавия, воспевать могущество государства, способного построить столь грандиозный храм. Исаакиевский собор изначально являлся имперским заказом, олицетворением политического триумфа монархии, финансировавшей строительство самого дорогостоящего храма XIX в. Исаакиевский собор представляет собой не только произведение архитектуры, искусства, но и памятник правления Николая I.
В работе прослеживается, как эта идея определяет облик сооружения от замысла до воплощения, от первых проектов до завершения строительства. Именно она служит руководством архитектору во всем: от выбора материалов (прочного гранита для стен и роскошных декоративных камней в убранстве), форм (колонн, призванных аллегорически проводить мысль о нерушимости монархии), до последней детали интерьера, определяя целостное решение Исаакиевского собора. Похожие идеи можно найти и в ряде других архитектурных сооружений, возникших в то же время (Александровская колонна на Дворцовой пл., Нарвские и Московские триумфальные ворота). Это дополнительно подтверждает, что храм, действительно, стал событием не только в истории искусства, но и в истории вообще.
Следует отметить, что автор стремился преодолеть негативное отношение к николаевской эпохе, пытаясь разобраться в проблеме влияния
власти на искусство: например, понять, всегда ли вмешательство Николая І в строительство храма было неоправданным и пагубным для искусства. Широко известная предвзятая точка зрения на эпоху правления Николая I, пожалуй, мешает объективному изучению многих произведений искусства, созданных в этот период.
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы подробнее остановиться на возможном значении структурно-исторического анализа как метода искусствоведения. Несомненно, что структурализм играет большую роль в «объединении междисциплинарных исследований явлений культуры, в сближении гуманитарных и естественных наук при сохранении их специфики»52. В нашей науке структурный метод может быть актуален на различных этапах исследования: при сборе информации (то есть выявления структуры отдельных произведений), ее хранении (определения способов описания художественных памятников) и обработки. Последняя стадия означает в первую очередь преобразование полученных с помощью структурного метода выводов и их донесение до зрителя/читателя, — нуждающегося в посреднике-искусствоведе. Вследствие того, что искусствоведение неотделимо от истории искусства — что обусловлено историчностью произведений архитектуры, живописи, скульптуры и пр., принадлежащих одновременно и прошлому и настоящему, поэтому неразрывно связанных с категорией времени, — необходимо сочетать структурализм с историческим подходом в исследовании конкретных архитектурных памятников. Основной принцип искусствоведческого анализа заключается в последовательном рассмотрении этапов создания системы:
сначала на микроуровне (то есть внутри своей структуры), затем на макроуровне (во взаимоотношении произведения искусства с его непосредственным окружением: культурно-исторической эпохой, архитектурными стилями и направлениями, шире — мировыми художественными процессами).
Такой структурно-исторический анализ может стать универсальным методом нашей науки. Это своего рода совокупность научных познавательных принципов, следование которым позволяет определенным образом сориентировать искусствоведческие исследования различных объектов, представляющих собой самостоятельные системы. Структурно-исторический анализ, по убеждению автора, позволяет решить основную задачу искусствоведения: расширить и углубить представления человека о «механизме» взаимодействия элементов внутри структуры конкретного произведения искусства, а также всесторонне изучить сам художественный объект как систему, и, возможно, открыть новые его свойства.
Собор в пространстве города
Исаакиевский собор играет важную градообразующую роль в Санкт-Петербурге, собирая вокруг себя огромные пространства. Главные площади, расположенные вблизи храма, сливаются друг с другом: Дворцовая, Адмиралтейская, Сенатская, Исаакиевская. Они и формируют центр города. Границей этой архитектурной композиции на севере является Нева, увеличивая и без того громадное пространство. Именно река делает его незамкнутым.
Равнинное пространство, окружающее Исаакиевский собор, подготавливает зрителя к восприятию высотного здания. Оно доминирует над всем близлежащим простором, являясь самым высоким сооружением на этом берегу Невы. Не случайно при Петре I церковь во имя св. Исаакия Далматского своим видом напоминала Петропавловский собор, (обе имели одинаковые колокольни с часами) — только ему она уступала по высоте54. Возникала своеобразная перекличка вертикалей в сложной композиции города. Главная река Санкт-Петербурга также подчеркивает пафосное появление силуэта Исаакиевского собора. Строгий облик памятника в целом характерен для Петербурга. А пространство, непосредственно прилегающее к храму, должно рассматриваться как единый архитектурный ландшафт, определяющий целостность исторического центра города. Здесь образуется единство архитектурных сооружений, — невозможно потому было бы представить собор в иной части города. Панорама этого единого ансамбля призвана восхищать человека, впервые увидевшего центр Санкт-Петербурга. Столица, искусственно созданная, была изначально ориентирована на эффектное впечатление. И Исаакиевский собор является неотъемлемой частью этого замысла, определяя во многом силуэт всего Петербурга.
Издревле вокруг храма формировался не только сакральный, но и архитектурный центр города. Идея восхождения, приближения к Богу выражалась в том, что кафедральный собор строился в центре площади на возвышении, — хотя бы несколько ступеней ведут в церковь, оказывающуюся, таким образом, на некоторой высоте по сравнению с окружающими зданиями. А площадь воспринимается как большой пьедестал, служит подножием храма.
Исаакиевский собор имеет стереобат, который состоит из ступеней (в древнегреческой архитектуре их обыкновенно было три). Ступени широкие, не «под шаг» человека, требующие постепенно-медленного, плавного, вдумчивого вхождения в храм. Архитектурная форма помогает вызвать у верующего торжественно-религиозное настроение, сбивая человека с его привычного ритма. Но Исаакиевский собор являет собой нечто исключительное: он расположен в центре не одной площади, а огромного архитектурного ансамбля. Все пространство вокруг него подготавливает зрителя к восприятию величественного памятника. Незастроенные просторы (например, Александровский сад, находящейся на севере от собора, где прежде была Адмиралтейская площадь) служат как бы платформой, идеально отвечающей размещению мощного объема храма. Положение здания способствует обзору его с разных точек зрения, и ничто не мешает обходу культового сооружения. По этой же причине было запрещено строительство в Александровском саду: «место между собором и памятником, для сохранения перспективы, дабы, эти два замечательных сооружения были совершенно открыты для зрителя в пункте наиболее удобного их осмотра, предположено засадить не густо и устроить обширные лужайки» .
С северной стороны Исаакиевский собор формирует другую городскую площадь, центр которой занимает памятник Петру I. Таким образом, здание кафедрального собора главными своими портиками оформляет одновременно две площади: Исаакиевскую (название которой он дал) и Сенатскую.
Исаакиевский собор как любой православный храм (даже если он возводился в центре города с плотной застройкой), не примыкает к другим зданиям, а отделен от неосвященного пространства оградой и садом. Главное культовое сооружение Петербурга утопает в зелени: с северной стороны к нему примыкает Александровский сад, с южной — сквер (он был разбит сразу вслед за открытием собора). Это нужно не только для того, чтобы дать возможность верующим в тишине настроиться на религиозный лад, но и для напоминания прохожим о райских садах Эдема, о вечной красоте.
Храм своим расположением обязан тому обстоятельству, что строился на месте третьего по счету Исаакиевского собора, автором которого был Антонио Ринальди. И данное местоположение выбрано для главного культового здания столицы чрезвычайно удачно: к северу от него находятся здания Сената и Святейшего Синода, перед которыми памятник Петру I. Именно его небесному покровителю, Исаакию Далматскому, и посвящен этот храм, вся история создания которого связана с императором (по его приказанию был построен первый Исаакиевский собор, в основание второго Петр лично положил первый камень). Заметим, что Исаакиевский собор находится не на одной оси с памятником Петру I. Архитектор храма даже предлагал перенести этот монумент и установить его против северной стороны собора, на одной оси с Александровской колонной56. Но это предложение Монферрана было обоснованно отклонено, так как памятник Петру Великому находится на месте, единственно его достойном. Монумент императора окружен зданиями Сената, Св. Синода, Адмиралтейства, учрежденных по приказу Петра I. Рука статуи указывает на простор Невы — стихию, закованную в гранит, и на сооружения Васильевского острова (Академию наук, Кунсткамеру), также открытых его стараниями.
Вблизи храма проходит Конногвардейский бульвар, начало которого отмечено двумя колоннами победы и главный Манеж. С другой стороны подле него начинался Адмиралтейский бул., который связывал Исаакиевский собор с Дворцовой пл., где расположены царский дворец, здания военных министерств и главного Штаба, Александрийская колонна. Таким образом, все важные государственные сооружения находятся не просто вблизи от главного храма России, но и вместе участвуют в едином замысле: создании ансамбля, прославляющего государство. Постичь эту идею можно, осмотрев постепенно весь этот комплекс главнейших государственных учреждений: монархических, военных, духовных, правительственных и светских. Все вместе образует, по словам одного из современников Монферрана, «равнину, которая величественно расстилается перед взором зрителя».57
Таким образом, местоположение главного кафедрального храма империи осмысленно и символично. Он участвует в обширном и сложном архитектурном ансамбле города, и должен был изначально соответствовать величественному решению парадной части столицы, прославляющей Российскую империю. Это и предопределило появление столь огромного, в чем-то даже помпезного собора в Санкт-Петербурге.
Интерьер собора
По своему внутреннему устройству Исаакиевский собор представляет собой трехнефный храм крестово-купольного типа, завершенный одним (световым) барабаном. Структурные элементы интерьера Исаакиевского собора выражает собой идею ковчега Ноя, корабля, как и в любом другом христианском храме. В соборе три престола и три придела, посвященные небесным покровителям государей. Центральный — преподобному Исаакию Далматскому, северный — святому благоверному князю Александру Невскому, являющемуся небесным покровителем двух императоров из рода Романовых (при Александре I закладывался монферрановский собор, а его открытие происходило уже во время правления Александра И). Южный — святой великомученице Екатерине, которая являлась покровительницей императрицы Екатерины II, при которой возводился предшествующий собор.
Трем нефам собора соответствует также трехчастное деление по направлению север—юг. Восточная часть (алтарь, пространство отделенное иконостасом) олицетворяет «небо небес», рай. Средняя часть — святые небеса, а западная — землю. Четыре столба служат опорой сводам, соединяющим их между собой и с внешними стенами собора, образуя крестообразную композицию и принимая на себя тяжесть барабана и купола, выражающего здесь ту же идею, что и в экстерьере — он символизирует Главу Церкви Христа. В парусах традиционно изображаются евангелисты со своими атрибутами, несущие «проповедь Евангелия четырем странам света» .
Таким образом, и экстерьер, и интерьер храма воплощает в себе главную идею православной архитектуры, заключающуюся в соборности. В вещественных формах отражается идея невидимой Церкви как Тела Христова, «образуемого соборным единством всей Иерархии Церкви Небесной и Церкви земной, пребывающей в истинной вере»83. И те изменения, которые встречаются в Исаакиевском соборе, относятся к внешней форме, а не к основному устройству культового памятника. Автору представляется важным рассмотреть храм во имя Исаакия Далматского именно как Собор, т. е. принять во внимание теологический аспект при искусствоведческом анализе этого памятника. В противном случае, смысл многих элементов внутренней структуры (и здания в целом) будет утрачен.
Хотя собственно строительство закончилось к 1841 г., понадобилось еще семнадцать лет на выполнение отделочных работ. Ш. Персье, которого-Монферран считал своим учителем, был известен как блестящий мастер-декоратор, в том числе по части оформления интерьера. Его творчество оказало значительное влияние на формирование художественных взглядов будущего зодчего. Вот почему интерьер Исаакиевского собора напоминает отчасти отделку внутренних помещений, созданных Персье. На это указывает, в частности, сочетание золотого с зеленым и синим. Черты нового времени в еще большей степени нашли выражение в оформлении интерьера, где аскетизм классической архитектуры (стены, колонны, пилястры) оказался тесно переплетен с изысканностью ренессанса (двери, барабан купола) и пышного барокко (перегруженные скульптурой своды). Но и эти мотивы Монферран позаимствовал у Персье и Фонтена, которые отличались особым вниманием к декору, а также свободой от подражания каким-либо конкретным образцам прошлого, совмещая традиции античности и Возрождения. Монферран, как и его учитель, был не только зодчим Исаакиевского собора, но и его декоратором.
При составлении проектов оформления внутреннего убранства Монферран совершил путешествие по Италии и Франции с целью ознакомления с лучшими образцами культового зодчества. В результате он в 1841 г. предложил план интерьера, согласно которому «двери предполагаются бронзовые со скульптурными украшениями, а своды покрыть кессонами и прочими золочеными украшениями на белом поле... Базы, капители и модульоны, в большинстве своем, карниз будут из золоченой бронзы; все стены во внутренности здания украсятся белым мрамором, на котором будут отличаться колонны и пилястры из розового тивдетского мрамора. Внутренность большого купола будет также из белого мрамора, а свод оного украсится в отдельных частях живописью. Пол в церкви... будет из тивдетского мрамора различных цветов».84
Этот проект, в январе 1843 г. утвержденный Николаем I, был осуществлен, правда, с некоторыми изменениями. Так, во внутреннем коническом своде центральной главы архитектор предполагал поместить роспись «Христос во славе с небесным знамением», выполнение которой поручалось К.Брюллову. Но необходимость этой работы отпала, так как император предложил вместо росписи «сделать вызолоченные лучи гальванопластически» , что и было выполнено.
В другом случае Монферран предложил несколько рисунков люстр для освещения храма. Однако Николай I не утвердил проект с пятнадцатью хрустальными люстрами, которые были бы очень громоздки и выбивались бы из общей картины интерьера. В результате, собор украшают семь тяжелых бронзовых золоченных люстр (на 980 свечей), которые лучше соответствуют целостному облику здания, хотя и дают меньше света. Помимо них имелись еще канделябры: «но и столь значительного освещения недостаточно для такого обширного храма» . До появления электричества в Исаакиевском соборе было настолько темно, что, например, все росписи, находящиеся выше аттика, были совсем не видны зрителям. Для того чтобы оценить их достоинства и принять работу художников, члены комиссии Академии Художеств поднимались по специально сделанным лесам со светильниками в руках. Только в 1903 г. храм первым среди церквей Санкт-Петербурга получил электрическое освещение.
Наличием шестидесяти двух мозаик, прекрасных по качеству исполнения и насыщенных по цвету удивительных смальт, мы обязаны в Исаакии также Николаю I. Именно он пожелал, чтобы живопись была переведена в мозаику, и по его указу это было сделано. Мозаичное искусство казалось чем-то необычным для строившихся на тот момент в России храмов. Со времен Ломоносова о нем в России забыли. Благодаря работам в соборе св. Исаакия искусство мозаики было возрождено.
Вновь приходится повторить, что вмешательство Николая І в строительные дела Исаакиевского собора было не всегда отрицательным, и препятствовало работам по его сооружению. Оно, возможно, замедляло ход общих работ, так как, например, император хотел лично контролировать составление проектов. В связи с этим, считая строительство храма важным делом своего правления, он проводил немало времени за рассмотрением архитектурных планов. Монарх вносил в них свои изменения, сам их утверждал и следил за выполнением: «26 октября 1838 г., как сообщает барон М.А. Корф, Государь поднялся на леса новостроящегося Исаакиевского собора для личного обозрения работ и остался всем вполне доволен. Он долго любовался открывшимся с этой высоты видами на целый Петербург и сожалел только об одном, именно, что памятник Петра Великого стоит несколько в стороне от церкви, чем нарушается симметрия»87. Кроме того, царствование Николая I было временем расцвета бюрократизма и канцелярского формализма. Мастеров особенно раздражала волокита, связанная с передачей проектов на рассмотрение разных комиссий.
Кстати, не было как такового конкурса на исполнение работ по оформлению собора. Заказы заранее распределялись среди известных художников, и зависело это также от воли императора. Так, большие по площади пространства для росписи Николай поручил Т. Неффу, ибо он пользовался «лестным счастием быть долгое время наставником в живописи Их Императорских Высочеств Марии Николаевны и Екатерины Михайловны» . Нефф нарисовал портрет Великой Княгини Марии Николаевны, который очень понравился Государю. Это произведение было единственным до получения художником столь крупного и ответственного заказа, как работа в Исаакиевском соборе.
Политический аспект исторического анализа Исаакиевского собора
Исторический анализ включает в себя изучение политической ситуации в стране. Нет сомнений в том, что «идеология — особенно обязательный предмет исследования, если мы хотим понять... какие-то конкретные культурные феномены в определенной фазе их развития и при данных обстоятельствах» . В этой связи нельзя рассматривать Исаакиевский собор без учета политико-экономической ситуации на момент его возведения, так как она сильно влияла на культурную жизнь России.
Период правления Николая I (1825—1855 гг.) предстает как целостная эпоха со вполне определенным лицом, отличным от предыдущих. Понятие «николаевская Россия» обозначает специфическую систему экономики, власти и культуры. Это время отличает жесткий консерватизм во всех сферах жизни. В том числе и в экономике, что привело к обнищанию казны России и краху всей экономической структуры к концу правления Николая I. Кроме того, происходили крестьянские восстания, случались эпидемии, неурожаи. И нужны были мощные идеологические скрепы для функционирования общественного строя страны.
В искусстве при Николае еще сохранял свое влияние стиль позднего классицизма — ампир. Во время николаевского правления продолжается начатая при Александре I застройка центра Петербурга как столицы могущественного государства. Именно в это время появляются сооружения, прославляющие империю: здания Сената и Синода, здание Главного Штаба, Александровская колонна, и т.д. И все строится с размахом: если, например, колонна, то высочайшая в Европе (47,5 м,.так как она должна была обязательно превзойти Вандомскую колонну в Париже). Все обязано было работать на создание образа столицы — символа государства и государственности.
С расширением Санкт-Петербурга умножались и храмы в нем. Ведь после объявления города столицей в 1714 г., он стал сосредоточием не только государственной, но и церковной жизни: «здесь нарекали и посвящали архиереев, здесь же учрежден был и Святейший Синод. С учреждением Синода петербургский округ стал называться "Епархиею Святейшего Синода" или "Синодальною областью"»3. В связи с этим все церковные вопросы, касающиеся Санкт-Петербурга, должны были решаться членами Синода. А его, в свою очередь, курировал сам государь: абсолютное самодержавие опиралось на институт церкви, но последний со времен Петра I подчинялся государственной системе.
Николай I взошел на престол, подавив восстание декабристов. И ему было необходимо привести народ к покорности. Всеми силами Николай стремился сохранить верховенство самодержавной власти, следовательно, и могущество церкви. Выдвигается новый идеал человека — благочестиво православный. Именно институт религии должен был «учить порядку» и воспитывать гражданственность. Кроме того, религия являлась важным условием укрепления самодержавного института и нерушимости сословных привилегий. А «родовое право» императоров было даровано ему «свыше». И искусство было обязано это отражать, поэтому религиозная тема выдвигается в живописи николаевской эпохи на первый план, а взор императора устремляется к строящемуся главному церковному зданию России. Когда государь всходил на престол, работы по строительству Исаакиевского собора были прекращены, и лишь личное вмешательство самодержца сдвинуло ситуацию с мертвой точки. Николай I распорядился вновь рассмотреть планы храма, освидетельствовать произведенные работы и доложить ему. Именно по этому, последнему, заново утвержденному плану и был сооружен существующий кафедральный храм. Таким образом, сорок лет строительства собора (1818—1858 гг.) приходятся в основном на царствование Николая I.
Исаакиевский собор являлся прежде всего государственным заказом. Храм этот —сооружение, которое, независимо от намерений архитектора, стало воплощением самого духа николаевской эпохи. Собор отражает не только церковную идею или индивидуальный почерк архитектора, но и вкус императора. К примеру, в нем те же полуциркульные окна и четыре портика, что и в Троицком и Преображенском соборах, которые были возведены по указу Николая сразу после начала царствования для двух гвардейских полков, сохранивших верность ему в декабре 1825 г. К тому же, здание Исаакиевского собора воплощало собой усилия династии Романовых построить собор, посвященный покровителю Петра Великого — преобразователя России. И Николай, лично патронируя воздвижение собора, являлся продолжателем этой традиции.
Церковная архитектура представляет собой не только летопись «исторического развития общества, но гораздо более — его духовного состояния, через нее прошедшие эпохи продолжают заявлять о себе сейчас»4. Николай I понимал это предназначение Исаакиевского собора — быть обращенным к потомкам. Вот почему с самых первых дней возобновления строительства в его царствование храм стал главным социальным заказом конкретной эпохи и конкретной личности — императора. Николай I хотел создать памятник своего правления, и сооружение должно было пережить его и восхищать потомков, наподобие египетских пирамид. Главным памятником николаевской эпохи стали не триумфальные арки, здания военных министерств и пр., а Исаакиевский собор, строительство которого растянулось на весь период царствования. Николай I не был популярен, в его честь было установлено наименьшее количество памятников в России, всего — двенадцать (к примеру, Александру I посвящено около тридцати монументов, а Петру I — сорок)5. Так сложилось, что многие русские императоры были увековечены памятными сооружениями, но далеко не все они оставили после себя собор, сравнимый с Исаакиевским.
В связи с тем, что император постоянно курировал строительство Исаакиевского собора, современники часто называли Николая I одним из «высоких храмосоздателей». Это относится не только к внешнему виду храма, но и к интерьеру: «тонкий вкус Императора Николая отпечатлелся на всех золотых, серебряных, бронзовых, мраморных вещах собора, и щедрость его в устроении сих вещей, по истине, беспримерная. Эти ляпис — лазоревые и малахитовые колонны, этот разноцветный мрамор и пола, и стен, и внутренних и наружных, это изобилие серебра и золота в соборе изумляют посетителей, в особенности иностранцев, которые, при всем богатстве архитектурных и других памятников за границей, не видали там столь великого собрания таких дорогих сокровищ. Рисунки каждого сооружения и отдельной вещи были представляемы на Высочайшее воззрение Императора Николая, тщательно им рассматривались и приводились в исполнение по его непосредственному выбору и указанию: это целая история храмоздательного искусства, ждущая времени своего в высшей степени поучительного выяснения»6.
Таким образом, исследование Исаакиевского собора в историческом контексте способствует совершенствованию нашего знания о той эпохе, в которую возникло то или иное сооружение. И наоборот, изучение истории приводит к достижению «понимания именно этого и только этого произведения». В частности, знания о николаевской эпохе позволяет искусствоведу объяснить некоторые индивидуальные черты Исаакиевского собора. Происходит соединение двух уровней исследовательской деятельности: искусствоведческого и исторического, которые дополняют друг друга, и позволяют разносторонне и более полно осветить выдающийся памятник.
Отзывы современников о Монферране
Для того чтобы составить ясное представление о каком-либо архитектурном произведении, необходимо ознакомиться с воспоминаниями современников, в которых могут быть отражены не только этапы строительства, но и те мысли и чувства, которые оно у них вызывало. Из споров, разгоревшихся вокруг Исаакиевского собора, становится понятным то место, которое это здание занимает в истории страны и искусства. История собора, строившегося в общей сложности полтора века и ставшего свидетелем многих перемен в государстве, «как капля солнца... отражает в себе характеры всех эпох и всех венценосных руководителей постройкой... Первая Исаакиевская церковь — как прост был царь, так непритязателен и неприхотлив был и сооруженный им храм... Решение о воздвижении не деревянной церкви, а величественного из мрамора собора — отразился пышный век Екатерины... Нервный и решительный Павел I, очень недовольный затяжкой постройки, повелел ускорить работы и докончить сооружение, упростив его и значительно изменив первоначальный план. Сооружение в худшем смысле вышло нелепое...»1. Нас в особенности интересовало, каким виделся современникам и как воспринимался ими четвертый Исаакиевский собор.
Собор святого Исаакия сразу после закладки фундамента стал объектом постоянного и пристального внимания, что отражено в многочисленных записях. Стройка в центре столицы растянулась на десятки лет. И огороженное пространство вокруг собора, было прозвано петербуржцами «исаакиевской деревней». Д. Григорович вспоминал: «мы остановились в меблированных комнатах на Исаакиевской площади, загороженной тогда вокруг, вплоть до Большой Морской, заборами» .
Наиболее популярными в тот период журналами были «Иллюстрация», «Живописное обозрение», «Живописная русская библиотека», «Домашняя беседа» и «Сын отечества», знакомясь с выпусками за 1818—1858 гг., можно узнать, как относились современники к строящемуся в центре города зданию, к творчеству и к личности Монферрана.
Статьи и заметки в этих журналах, независимо от того, были они посвящены зданию или архитектору, скульптору, живописцу, носили описательный характер. Автор еженедельного журнала «Иллюстрация», выходившему в Санкт-Петербурге в 1845—1849 гг., жаловался читателям на недостаток статей, которые содержали бы анализ архитектурных сооружений: «ни на русском и ни на одном из иностранных языков нет сочинения, которое могло бы ознакомить с характером и сущностью различных архитектурных стилей. Есть множество иллюстрированных и неиллюстрированных изданий с подробным описанием времени постройки, размеров и деталей разнородных зданий, есть книги, носящие название истории архитектуры, но этого рода сочинения, впрочем, весьма интересные, знакомя читателей с именами различных авторов и с хронологией строений, редко дают им ясное, отчетливое понятие о форме, расположении и конструкции самых строений, а еще менее о характере его стиля в сравнении с другими».3
Архитекторам и архитектуре уделялось не так уж много внимания, специальные журналы стали выходить позднее («Архитектурный вестник» начал издаваться в 1859 г., «Зодчий» — только в 1872). Вот почему важную роль при реконструкции картины восприятия Исаакия играют воспоминания.
Это относится и к оценки личности его автора. В периодической печати за все время строительства собора не встретишь очерка жизни и деятельности архитектора Монферрана. Но его имя постоянно встречается в статьях и заметках. Например, в «Художественной газете» за 1837 г. напечатано следующее: «Монферран продолжает построение Исаакиевского собора, который возведен до той высоты, на которой имеют быть поставлены гранитные колонны вокруг большой главы оного собора. Колонны сии предполагается поставить в нынешнем году».4
Отношение современников к Монферрану было неоднозначным. Многие считали, что он получил крупнейший заказ незаслуженно, не имея достаточного опыта для его выполнения. Его называли чертежником, не архитектором: «нынешний собор построен Монферраном, по профессии рисовальщиком, а не архитектором, прибывшим из Парижа с письмом от часовщика Брегета к министру путей сообщения Бетанкуру. По рассказам современников, Монферран представил разом двадцать четыре проекта перестройки собора, или, вернее, двадцать четыре прекраснейших миниатюрных рисунка, в переплете красивого альбома» .
Ценную информацию содержат записи Ф. Вигеля, состоящего на службе у Бетанкура и хорошо знавшего Монферрана. Вот как он описывает появление будущего архитектора Исаакиевского собора в Петербурге: «не помню в июне или в июле месяце этого года приехал из Парижа один человек, которого появление осталось вовсе незамеченным нашими главными архитекторами, но которого успехи сделались скоро постоянным предметом их досады и зависти. В одно утро, нашел я у Бетанкура белобрысого Французика, лет тридцати не более, разодетого по последней моде, который привез ему рекомендательное письмо от друга его, часовщика Брегета. Когда он вышел, спросил я об нем, кто он таков. "Право не знаю" отвечал Бетанкур: "какой-то рисовальщик, зовут его Монферран; Брегет просит меня, впрочем, не слишком убедительно, найти ему занятие, а на какую он может быть потребу?"»6
Далее, из записей Вигеля видно, что Бетанкур ознакомился с работами Монферрана, и пришел к выводу, что приезжий был, действительно, прекрасным рисовальщиком, и можно помочь ему получить работу: «Дня через три позвал он меня в комнату, которая была за кабинетом его, и, указывая на большую вызолоченную раму, спросил, что я думаю, о том что она содержит в себе? "Да, это просто чудо" — воскликнул я... — Мне хочется поместить его на фарфоровый завод, там будет он сочинять формы для ваз, с его вкусом это будет бесподобно; да сверх того может он рисовать и на самом фарфоре. Но Монферран требовал три тысячи рублей ассигнациями, а Гурьев (министр финансов, управлял и кабинетом, в ведении коего находился завод) давал только две тысячи пятьсот: от того дело и разошлось» . Вигель утверждает, что именно он, симпатизируя Монферрану, добился для него места чертежника. «Я решился посетить его и мадам Монферран, почти на чердаке, в небольшой комнате, в которую надобно было проходить через швальню портного Люилье. Он же делал для меня прекрасные маленькие рисунки, из которых, к сожаленью, я ни одного у себя не оставил, а все раздарил в альбомы знакомым дамам. За то и я затевал для него выгодное место... Должность начальника чертежной берег я для Монферрана и чрезвычайно удивился, когда на сделанное мною о том предложении от Бетанкура получил отказ. "Он для такой должности еще слишком молод", — отвечал он. Я, однако же, не отступился и выторговал ему, по крайней мере, название старшего чертежника. Правда, без жалованья, но с квартирою и с суммою, равною жалованью, в виде награждения или пособия ему, от комитета выдаваемою. Я должен был объяснить это Монферрану, который все с благодарностию готов был тогда принять, как будто предвидя, что все это скоро должно перемениться»8.
Современники часто говорили, что Монферран получил заказ по протекции: «в 1817 г. был объявлен конкурс, между архитекторами, для составления проекта Исаакиевского собора. Из числа представленных проектов на соискание премии лучшим проектом признала комиссия проект профессора А.И. Мельникова (строителя Никольской церкви на Николаевской улице), но заведующий в то время государственными сооружениями в России француз Бетанкур дал возможность французу рисовальщику Монферрану, первоначальный проект которого комиссией не был одобрен, составить новый проект, который и был представлен Императору Александру I, как лучший и удовлетворяющий всем требованиям комиссии»9.