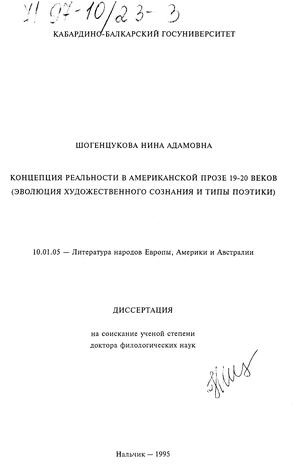Содержание к диссертации
Введение
Глава I Эдгар По 68
1. Новеллы 68
2. "Приключения Артура Гордона Пима" 109
3. "Эврика" 132
Глава II Герман Мелвилл 142
1. "Моби-Дик" 142
2. "Писец Бартльби" 232
3. "Веранда" 248
Глава III Джон Гарднер 262
1. "Королевский гамбит" 262
2. "Грендель" 305
3. "В горах самоубийств" 334
Заключение 361
Примечания 370
Библиография 393
Введение к работе
"Чтоб видеть ход вещей на свете, не надо глаз". Шекспир "Король Лир".
Познание - одна из высших целей и отдельного человека, и всего человечества. В системе познания выделяются проблемы, которые являются основополагающими. Их решал и решает род человеческий на протяжений тысячелетий: в чем смысл и предназначение существования индивида и многих поколений; кто мы, откуда и куда идем; что есть мир, жизнь, смерть, космос, любовь, красота? В философии этот круг проблем, получивший определение вечных вопросов бытия, образовал свою область - онтологию. Идут к ответам на эти вопросы по-разному. Можно изучать структуру материи и законы ее движения и организации и выводить формулы-ответы. Можно просто знать и верить, такое знание не требует ни изучений, ни теорем; ответ - сама жизнь, сама личность, например, Франциска Ассизского. Можно вживаться в людей, в природу, в социум, в историю и создавать произведения искусства, художественный универсум, тогда ответы - художественные формулы, прочитать, увидеть, услышать которые дано не каждому. Объединяет все эти виды познания и формы ответов одно - стремление постигнуть Высшее, создать "картину совершенной структуры всего сущего". Так формулировал свою задачу Альберт Эйнштейн. Он же писал, что "в пробуждении и поддержании космического религиозного чувства у тех, кто способен его переживать, и состоит важнейшая функция искусства и науки".(1) Илья
Пригожий считает Эйнштейна лучшим символом истинной физики, которая в двадцатом веке "отдалась своему призванию - открытию вневременной истины по ту сторону изменчивых феноменов".(2) Задолго до физиков нашего столетия об общности целей науки и искусства писал Фридрих Шлегель: "У всех наук и искусств, направленных на высшее, а не просто на потребности и низшую жизнь, в основе лишь один предмет - бесконечное, абсолютно чистое благо и прекрасное, божество, мир, природа, человечество". (3) Отличаются они, по его мнению, лишь сферой, средствами и точкой зрения. Ф.Шеллинг повторяет мысль о цели науки, ею может быть только одно: "показать действительность, настоящее живое бытие и присутствие Бога в целостности вещей и единичном". Его призыв: "Придите к физике и познайте вечное".(4)
А как часто противопоставляют науку искусству. И как часто выводы, ответы, формулы и истинных ученых, и истинных художников совпадают, раньше или позже это обнаруживается.
"Тоннель копается с двух сторон", - пишет Ю.Лотман и продолжает. - В то время как наука о человеке, в частности семиотика культуры, ищет закономерности культурного процесса и стремится осмыслить природу противоэнтропийных механизмов истории, на другом конце тоннеля слышатся мощные взрывы: появляются работы химика и физика Ильи Пригожина". (5) Его открытия в области физики и химии помогают и позволяют делать глобальные философские обобщения, дают новое видение природы хаоса, случая, точки выбора, свободы и необходимости, демонстрируют роль индивида в эволюции общества и космоса. Синергетика Пригожина, "поворачивая магический кристалл знания иной гранью, учит нас видеть мир по-другому".(6) Для Пригожина несомненно, что нас-
тоящая "наука приводит к Богу", его исследования подтверждают мысль Фрэнсиса Бэкона о том, что "малые знания удаляют от Бога, большие зания приближают к Нему".
Истинная литература, как и любой вид познания, это всегда постижение Высшего, постижение основополагающих принципов существования человека, общества, космоса. Стремясь прозреть и воплотить его, писатель творит "сокращенную вселенную", давая тем самым возможность увидеть мир, историю как легко обозримые единства и осознать законы их движения и развития. На протяжении многих веков писатели выводят свои формулы бытия, дают свои откровения, делают свои открытия, опережая, порой, науку в ее гипотетических построениях. Открытия эти - разного масштаба, разной принадлежности. Ряд их, научного порядка, легко принимаем и доказуем. В него входят знаменитое описание спутников Марса, сделанное Свифтом задолго до их астрономического открытия; научно-технические откровения Сирано де Бержерака; теория большого взрыва и пульсирующей вселенной Эдгара По; новое понимание пространства и времени, идеи планетарного сознания, структуры человеческой психики, предложенные Марком Твеном, и множество других открытий.
С откровениями космологического, онтологического порядка дело обстоит иначе. Во-первых, они недоказуемы и сегодня. Во-вторых, прочитывание их представляет определенную сложность. Ведь литература не пользуется тем аппаратом величин, с помощью которого осуществляется формулирование конечных выводов наукой. Язык литературы - иной. Он, как и язык Священного писания, основан на условных формах. Они могут быть большей или меньшей степени открытости, но в любом случае, они должны
быть найдены и расшифрованы. Откровение не дается открытым текстом.
Но при всей разности между открытиями, достижениями литературы и науки существует несомненная соотнесенность, соответствие. Умберто Эко полагает, что "в каждом веке способы организации художественных форм отражают пути, какими наука и современная культура видят реальность. Замкнутая, единая концепция в работе средневекового художника отражала концепцию космоса как иерархии установленных, предопределенных законов. .. Открытость и динамизм барокко знаменует появление нового научного сознания: осязаемое заменяется визуальным (то есть превалирует субъективный элемент)". По его мнению, "эстетические новшества барокко отражали коперниково понимание вселенной", отказ от геоцентрической конструкции. И в современной эстетике, во многом продолжающей систему барокко, как и в современной научной вселенной все различные "составные части имеют одинаковую ценность, и вся конструкция стремится перейти в нечто всецелое, близкое к бесконечности".(7)
Роберт Надо в книге "Физика и метафизика в современном романе", как бы продолжая эту линию, пишет, что ньютоновский мир, ньютоновская точка зрения на него определяют и форму романа 18 века, и тип организации в романе физической реальности: "Романисты, как и Ньютон, считали, что космос - это нечто, лишенное субстанции, это пустой контейнер, логически абсолютный по отношению к тому, что в нем содержится... Пользуясь некоторыми метафизически основанными допущениями, романисты 18 века создали характеры, которые, проходя через все пространство романа, изменяются, прежде всего, как функция взаимодейс-
._7-
твия с другими внешними субстанциями, а время изображали как нечто, существующее "где-то" вне сознания".(8) Время - извне, это часы, календари, оно вещественно, абсолютно, однонаправ-ленно. Однонаправленно и движение сюжета романа 18 века - из прошлого в настоящее, из настоящее в будущее. Герой и автор тоже абсолютны: герой неделим, как атом в старом понимании; автору известна вся механика жизни. В 20 веке, веке новой физики, нет и подобной системы романа. Присутствует множественность точек зрения, композиционная черезполосица, где время движется вперед и назад, главный герой может вообще не появляться, присутствуя лишь как фантом. Все относительно. Илья Пригожий заметил, что сюжет сегодняшнего романа с его открытостью для многочисленных линий развития "легко соотносим с современной физикой и космологией", а не с классическим образом мира, жестко детерминированного, стабильного, пребывающего в равновесии.(9)
Если для Ньютона пространство - нечто абсолютное, подобное готовой сцене, никак не зависящей от заполняющих ее физических тел, то для Эйнштейна очевидно, что если пространство и можно уподобить сцене, то эта сцена создается в ходе самого спектакля, создается физическими явлениями, взаимодействиями между объектами. И это меняет самоощущение человека в универсуме, подтверждает и утверждает высший смысл бытия, бытия каждого отдельного человека, без которого сама "сцена" была бы иной, который является не только исполнителем, но и творцом, способным определить не больше и не меньше, чем судьбу вселенной. Это вывод и Эдгара По, и Пера Лакгерквиста, и Пригожина, доказавшего важность выбора личности в момент бифуркации, и
литературоведа Ю.Лотмана, который сказал, что "человек не только пассивно отражает внележащую реальность, но и является активным фактором исторической и космической жизни".(10)
Еще раз хочется повторить мысль о соотнесенности, соответствии научных представлений и систем литературных произведений того или иного периода, соотнесенности, в первую очередь, а не влиянии.
Если история - живое, саморазвивающееся вещество, то таким же живым саморазвивающимся веществом являются и наука, и литература. Каждая из них движется своим путем, проходит свои фазы роста, находит свои формы постижения и воплощения Истины. При разности деталей, частичных опережений или отставаний, общее их развитие, трансформация, этапы должны иметь единую направленность. В качестве только одного примера, а их множество, можно привести период перехода от 19 века к веку 20, четко продемонстрировавшему наличие подобной всесвязанности, когда процессы, происходившие в науке, искусстве, социуме были в своей сути идентичны. Это закономерно, ведь и наука, и литература, как и все виды творчества, - отражение и воплощение единого универсума, основанного на единых законах бытия в области материи и духа. В открытии этих законов наука и искусство идут разными путями, в их основах на первый план выдвигаются в качестве доминанты разные составляющие человеческого сознания, разные методы познания, осуществляемые с помощью анализа, индукции, дедукции, эксперимента, опыта, наблюдения, с одной стороны, и интуиции, вдохновения, считывания информации, постижения, перевоплощения,с другой, хотя элементы и первого, и второго присутствуют в обоих вариантах. Для того, чтобы осмыс-
лить второй тип познания и вести разговор о художественном познании, нам представляется важным разговор о человеческом сознании вообще, его составляющих и эволюции.
В путешествии человеческого сознания очень обобщенно и схематически можно выделить три фазы. Первая фаза - фаза единства. Кассирер называет ее фазой мифологического мышления, полагая, что "миф имеет свою сущностную правду, кода он рассматривается как необходимый фактор в саморазвитии Абсолюта. Миф - одиссея чистого сознания Бога, чье раскрытие определяется и осуществляется при посредничестве в равной мере нашего осознания природы и мира и нашего осознания собственного "Я".(И) Кассирер справедливо считает, что "ранние формы человеческого сознания, к которым мы можем вернуться назад, должны быть поняты как священное сознание Бога. Это человеческое сознание есть сознание, которое не имело Бога вне себя, но которое, хотя не через знание или желание, не по свободному акту воображения, но по самой своей природе содержало в самом себе Бога".(12) Как человек был в Боге, так он был и в природе, космосе. Природа не была чем-то внешним для человека, "через него проходили силовые линии функционирования мира, и человек постоянно активно участвовал в этой космической пульсации". (13) Ортега-и-Гассет пишет: "В старину перед человеком вставал живой, цельный, не разбитый на части космос. Куда бы он ни глянул, он видел только проявление извечных сил, потоки особых энергий, творящих и разрушающих видимое".(14) Еще человек средневековья сохраняет знания о том, что "каждая былинка или растение - это земная звезда, гдядящая в небо", как каждая звезда - "небесное растение, отличающееся от земных растений
лишь материей".(15) Человек ощущал, что он "содержит звезды внутри самого себя, несет в себе небосвод со всеми его влияниями". (16) Как считает А.Уайтхед, "в античности и средние века человек был, так сказать, "встроен" в общую архитектуру космоса". (17) Человек был звеном в единой цепи бытия, где все было продолжением всего, где все, по определению Мишеля Фуко, "симпатизировало" всему, и сообщало о себе - и камни, и травы, и звезды. И человек, будучи частью системы, без труда читал ее знаки: желтые травы лечат печень, болезни которой имеют желтый цвет, орех своей формой, похожей на мозг, говорит, что он полезен последнему. Подобное мировидение связано с характерной для сознания человека древности категорией тождества. Она была универсальным элементом, игравшим, конструктивную роль в знании, и определяла форму познания. Леви-Брюль называет главным в восприятии человека древности принцип сопричастия. Более развернутую картину тождества, сопричастия дает Эрнст Касси-рер. Он считает, что первоначальное мышление человека -это особый тип, называемый мифологическим мышлением, который имеет свое базисное, фундаментальное положение - положение о единстве универсума. Весь космос - единое целое, единый план реальности. И оно определяет собой специфику содержания любой категории мифологического мышления. Например, в категории качества мифомышление не проводит разделительную линию между целым и его частями: "часть, по мифу, есть тоже самое, что и целое", " любая часть тела равна любой другой в ее магическом отношении к целому".(18) Возьмем категорию сходства/различия. В мифе нет понятия острого различия, ведь все сущности имеют один источник. Нет в нем противопоставления внешнего и внутреннего, важ-
ного и не важного. Однако это не означает нивелировки и отсутствия индивидуализации в мифологическом мире. В нем каждый объект несравнен и уникален. Он живет в своей атмосфере. Но все предметы "не рассеиваются на просто не связанные частности", они "имеют один источник и универсальный принцип управления, определяющий системы мифологической каузальности, по которому любое может прийти из любого, и даже напряжение между элементами, разделенными в пространстве и времени, растворяется, исчезает в простой идентичности магической причины".(19)
Мифологическое мышление не знает оппозиции объективное/ не объективное, идеальное/ реальное. Пожалуй, единственное разграничение, присутствующее в мифе, это сакральное/профан-ное, и то, говорить здесь об оппозиции нельзя, поскольку для мифологического мышления нет четких барьеров, делящих мир на слои "здесь" и "там", эмпирическую или трансцендентальную сферы. Любое содержание действительности, какое бы заурядное оно ни было, может получить особенный характер священного. Но при условии, что это содержание не будет оставаться внутри привычной, повседневной, бытовой сферы действий и поступков, а овладеет "мифологическим интересом и энтузиазмом".(20) Характеристика сакрального не лимитирована специфическим объектом или группой объектов, напротив, любое содержание может внезапно войти в него. Стремясь показать миф "как унитарную энергию человеческого духа", Кассирер доказывает, что в мифе слито субъективное и универсальное: "Именно потому, что космос может быть понят и интерпретирован только через человеческий дух, то есть через субъективность, чисто субъективное, на первый взгляд, имеет в то же самое время космическое значение".(21)
Очень глубокой представляется мысль Кассирера о том, что мифическая фантазия "оживляет" материю, "одухотворяет весь космос", и в то же самое время мифологическая форма мышления ведет к "материализации духовных содержаний". Это вновь приводит к исходной мысли о единстве мира. Мифологическое сознание знает один мир, и для него нет противоречий, нет разницы между реальностью и мечтой, жизнью и смертью. Источник этого - пребывание человека в Абсолюте. Вернемся к мысли Кассирера о том, что гармоничное, полисинтетическое мышление, имевшее Бога внутри себя, не было достигнуто самим человеком через знания или даже собственное желание. Оно не награда за совершенное, не заработанное, а данное, а возможно, и незаконно взятое -яблоко с Древа Познания, огонь Прометея. Наказание за нарушение запрета, а вернее, его логическое следствие, - расщепление единства сознания и выход из Абсолюта, (рай - это не место, а состояние сознания).
Движение, развитие этой тенденции составляет вторую фазу эволюции сознания. Результат ее - вычленение и доминирование одного начала - рационально-логического мышления, приведшего к одному типу познания, основанному на эмпирико-аналитическом принципе. Это разрастание, однобокость привели к деформации человеческого сознания в целом, к искаженной системе мировиде-ния и, как следствие, ложной системе ценностей, к неразрешимости антиномий, угнездившихся в самом мышлении человека.
Как только человек вышел из системы, а тем более противопоставил себя ей, последствия не заставили себя ждать. Теперь "человек чувствует себя изолированным в космосе, поскольку он больше не включен в природу и утратил свою эмоциональную
бессознательную тождественность с явлениями природы. Они постепенно теряли свое символическое значение. Гром - больше не глас разгневанного бога, а молния не орудие мести. Нет больше души реки, и дерево не определяет нормы жизни человека, и змея не воплощает собой мудрость, и пещера в горе больше не дом великого демона. Человек теперь не слышит голосов камней, растений и животных, не может говорить с ними в надежде быть услышанным. Его контакт с природой исчез, а с ним исчезла основополагающая эмоциональная энергия, которая поддерживала эту связь".(22) Если раньше человек мог легко "читать" немое послание к нему предметов, мог узнать, что такое цветок, просто став им, то теперь он должен убить цветок, и разъяв его на пестики и тычинки, изучить его строение. Человек почти утратил способ познания не рассудком, а сердцем. А ведь с помощью рассудка можно лишь описать или классифицировать, оставаясь на внешней поверхности, а не открывая суть: "Мир рассортирован нами по ящикам лабораторного шкафа, а мы сами не что иное, как классифицирующие животные. Каждый ящичек - какая-то наука. В эти ящички мы запираем кучки осколков реальности, вырубленных нами из огромной материнской каменоломни, по имени Природа. В конечном счете в нашем распоряжении остается всего только щебень жизни, распределенный по маленьким кучкам на основе принципа сходства осколков, то есть, по существу, случайно. Для того, чтобы стать хозяевами этой безжизненной сокровищницы, мы должны были расколоть на части вековечную природу, должны были умертвить ее".(23)
Многие мыслители прошлого и настоящего описали расщепление сознания, и, к сожалению, не только описали, но и противо-
поставили логику и воображение, рациональное и мифологическое, настаивая на истинности лишь одного из них. Шопенгауэр, например, выделяет два типа познания: обычное познание, постигающие объекты в качестве отдельных вещей, поясняющее то, чего хочет воля теперь и здесь, и гениальное, направленное на неизменную и действительную сущность вещей, на волю как таковую. Обычное познание реализуется -главным образом в науках и доступно всем, гениальное же(высшее, подлинное)познание связано с искусством, нравственным подвижничеством и является уделом избранных. Раз речь идет о двух типах познания, то и о двух типах мышления: "Шопенгауэр утверждает примат воли над разумом, иррационального над рациональным. Разум, каких бы ступеней совершенства он не достиг, по его мнению, дает лишь внешнее знание о мире, он не может постигнуть его изнутри. Это способна сделать только воля (божественное сознание), через которую индивид связан с космической первоосновой мира".(24)
Бергсон находит в человеческом сознании два слоя, первый - поверхностный слой, сфера деятельности обычного сознания, он подлежит количественным и пространственным характеристикам. В нем властвуют схемы, классификации и практический интерес. Второй - противоположный ему глубинный слой, динамический, свободный, лишенный пространственности, причинности и практического интереса, он достигается через непосредственную интуицию. (25)
По Карлу Юнгу также имеется два типа мышления - логическое, направленное, экстравертное и ненаправленное, интроверт-ное. Для логического мышления характерна устремленность на внешний мир, оно обеспечивает приспособление к реальности. Оно
протекает в суждениях, словесно, требует усилия воли, оно утомляет. Ненаправленное мышление представляет собой поток образов, а не понятий, оно нас не утомляет. Стоит расслабиться, и мы теряем нить логического размышления, переходя к естественной для человека игре воображения. Хотя такое мышление непродуктивно для человеческого приспособления к внешнему миру, Юнг отдает предпочтение ему, утверждает его историческое предшествование и превосходство. Юнг считает, что из-за преобладания на данном этапе экстравертного мышления "мы стали богатыми в познаниях, но бедными в мудрости". Однако Карл Юнг не противопоставляет эти два типа мышления, он понимает, что оба они -составляющие единого прасознания.
Эрнст Кассирер "источником и родной духовной почвой" всех философских направлений называет мифологический взгляд на мир, который существовал задолго до того, как мир явился сознанию в виде комплекса эмпирических предметов и атрибутов. И научное сознание до обретения своих логических форм, по мысли Кассире-ра, прошло через мифологическую стадию. Научное сознание тоже ищет синтез разграниченных элементов, на которые для него из-начельно делится мир. Анализ предполагает бесконечное расчленение всего на бесконечно малые составляющие. Думается, что оба варианта познания приведут к одному итогу. В конце аналитического расчленения окажется Нечто, не поддающееся дальнейшему дроблению, и это и будет той единой субстанциональной основой, к которой аппелирует полисинтетическое сознание. К его познанию приведет даже однобокий вариант, но приведет ценой огромных жертв.
О необходимости синтеза двух типов мышления, логического
и прелогического, пишет в своей работе Леви-Брюль. Он делает вывод, что прелогическое мышление является синтетическим по своей сути, оно мало склонно к анализу, происходит как бы прямое и мгновенное схватывание явления во всей его полноте (поэзия характеризуется подобным целостным "схватыванием"). Логическое же мышление не представляет синтеза без "предварительных анализов, результаты которых фиксируются в понятиях".(26) Леви-Брюль отмечает, что современное человечество утратило многие начала, присущие прелогическому мышлению:"Логическое является, несомненно, обладанием объекта, но это обладание всегда является несовершенным, неудовлетворительным и как бы внешним. Знать - это объективизировать, объективизировать -это проецировать вне себя, как нечто чужое, то, что подлежит познанию". Прелогическому же познанию присуща сопричастность: "Для того, чтобы уловить, до какой степени это интимное обладание отличается от обеъктивизирующего восприятия", Леви-Брюль приводит пример возможностей постижения Бога: "Рациональная попытка познать Бога приводит к нулю. А между тем, какая нужда в этом рациональном познании для человека, чувствующего себя соединенным со своим Богом? Разве сознание сопричастности своего существа с божественной сущностью не дает ему такой уверенности, по сравнению с которой логическая достоверность остается всегда чем-то бледным, холодным и почти безраличным?"(27)
Подобно Кассиреру, Леви-Брюль находит, что прелогическому мышлению присуще иное абстрагирование, иное восприятие причины и следствия, идеального и реального: "Для человека нашего общества между видениями, волшебными проявлениями, с одной стороны, и фактами, познаваемыми в результате обычного восприя-
тия, существует четкая разграничительная линия. Для первобытного человека, напротив, этой линии не существует. Один вид восприятий и действий кажется столь же естественным для него, как и другой, вернее, для него не существует двух отличных видов восприятия и действия. Религиозный человек нашего общества верит в две системы, в два мира реальностей, одних - видимых, осязаемых, других - духовных. Последние образуют как бы мистическую сферу, которая окружает мир физический. Для прелогичес-кого же мышления не существует двух таких миров, соприкасающихся друг с другом, отличных, но вместе с тем связанных. Для него существует только один мир".(28)
Леви-Брюля нередко упрекают в том, что иную систему мышления он оценивает и рассматривает извне. Упреки эти не беспочвенны. Но основной вывод, к которому приходит ученый, бесспорен, и к нему человечеству давно стоило прислушаться. Ле-ви-Брюль увидел, как необходимо мышление, включающее в себя достоинства и логического, и прелогического мышления, и что синтез их возможен, и не просто возможен, он изначально присущ человеческому сознанию.
Сознание, мышление - продукт эволюции. Карл Юнг полагает, что сознание все еще пребывает в стадии эксперимента, и что, "вне всякого сомнения, даже на так называемом высоком уровне цивилизации человеческое сознание еще не достигло приемлемой степени целостности".(29) Путь к этой целостности указывают труды Мишеля Фуко и Альфреда Уайхеда. Оба они также выделяют три фазы развития человеческого сознания. Первая фаза, основанная на уже названной категории тождества, завершилась, по теории ученого, когда произошло отщепление "Иного", и тождест-
во утратило свою приоритетную роль. А с 17 века "анализ замещает аналогизирующую иерархию, перечисление становится критерием точности. Теперь не сближают вещи, чтобы обнаружить в них все возможное, а различают".(30) В настоящее время, считает Фуко, главное - вернуться к Первоначальному, и это уже сейчас происходит, поскольку "в глубине своей современная мысль устремляется туда, где Иное в человеке должно стать ему тождественным". (31) Первоначальное в человеке не способно ни свестись к некоей предельной точке тождества, реальной или потенциальной, ни даже указать на нее, неспособно выявить в Тождественном тот момент, когда отщепление Иного еще не произошло. Оно с самого начала сочленяет человека с чем-то отличным от него самого, оно вводит в человеческий опыт возникшие раньше него содержания и формы, над которыми он не властен, оно связывает человека "с разнообразными, взаимопересекающимися, порой несводимыми друг к другу временными Последовательностями, рассеивает его во времени и вместе с тем водружает в самое средоточие длительности вещей".(32)
Альфред Норт Уайтхед выделяет следующие два пласта: "гармонию логической рациональности и гармонию художественного произведения".(33) Каждая из них находит свое место в системе всех вещей, обе необходимы, но художественная гармония стоит раньше логической гармонии "как живой идеал и формирует весь общий поток в процессе его прерывного развития по направлению ко все более прекрасным и совершенным результатам".(34) Таково и соотношение двух вер. "Вера в разум есть уверенность в том. что подлинная природа вещей образует мировую гармонию, исключающую чистую случайность". Эта "вера в природный порядок, ко-
торая делает возможным развитие науки, есть частный случай более глубокой веры. Она не может быть основана при помощи какого-либо индуктивного обобщения. Она рождается из непосредственного проникновения в природу вещей, открывающуюся нам в данности опыта. Здесь мы неразрывны с нашей собственной тенью. Ощущать эту веру - значит знать, что мы, будучи собой, все же больше самих себя".
Уайтхед, подобно Фуко, подчеркивает, что 17 век совершил переворот в типе мышления. Он заключается в отрицании того, что "дорога к истине пролегает прежде всего через сферу метафизического анализа природы вещей", в пользу "изучения причинно-следственных связей эмпирических факторов", в призыве "к использованию эксперимента и индуктивного способа рассуждения". Надвигалась эпоха "победоносного анализа", "18 век в Европе явился полной противоположностью средневековью. Этот контраст символически выражен различием между Шартрским собором и парижскими салонами, в которых Даламбер беседовал с Вольтером. Ненависть последних к готической архитектуре символизировала их антипатию ко всякой неясной перспективе. То был век разума, здорового, мужского, открытого разума, но одноглазого, неспособного видеть вглубь".(35)
Уайтхед убежден, что "конкретное мировоззрение человека именно в литературе получает свое выражение". Собственно, если мы рассчитываем проникнуть во внутренний мир мышления некоторого поколения, нам следует обратиться к литературе. И чтобы увидеть изменения в мышлении 19 века, Уайтхед прибегает к помощи поэзии, находит, что поэзия романтизма способствует формированию более полных схем мышления: "Свидетельства великих
поэтов выражают глубинные интуиции человечества, проникшие в конкретную фактуру всеобщего".
Однако в целом, в 19 веке господствовало "убеждение, согласно которому доктрина материализма обеспечивает адекватную базу для научных концепций". В 20 веке ситуация меняется. Причина тому - развитие самой науки: "Отличительной чертой настоящей эпохи можно считать то, что при изучении материи, пространства, времени и энергии возникло много сложностей, которые дискредитировали старые ортодоксальные представления. Их необходимо было подвергнуть пересмотру. Новая ситуация в сфере мышления возникла в связи с тем, что теории стали выходить за рамки здравого смысла. Точка зрения, унаследованная от 18 века, провозглашала триумф упорядоченного здравого смысла. Здравый смысл основывался на том, что каждый простой человек мог видеть своими глазами или при помощи микроскопа средней силы. Он измерял непосредственные данности, которые поддавались измерению, и обобщал то, что сразу могло быть обобщено. 18 столетие начиналось с полной уверенности, что с заблуждениями будет покончено. Сегодня мы придерживается противоположной точки зрения. То, что сегодня нам кажется вздором, завтра может оказаться доказанной истиной. Мы снова возвращаемся на позиции начала 19 века, но только на более высоком уровне воображения". (36)
Сегодня ситуация крайняя, и решающую роль в выходе из нее играет сознание: "Если цивилизация собирается выжить, тогда распространение понимания оказывается самой первейшей необходимостью". (37) Понимания, основанного на новых принципах синтетического познания. Поскольку мы конечные существа, полагает
Уайтхед, полное схватывание нам не дано, но стремиться к нему надо. Это позволяет увидеть Вселенную, космический процесс как бесконечное множество пульсаций субъективности. Каждый субъект и отдельный, и абсолютный. Все суьъекты - части "Изначального", "универсалии универсалий". Это осознать необходимо каждому, но также необходимо абсолютизировать себя, но абсолютизировать в Абсолюте. Абсолютизация себя вне Его приводит ко злу. Шеллингу принадлежит глубочайшая мысль о том, что "если частная воля человека служит всеобщей воле, она творит добро; противопоставляя себя всеобщей воле, преследуя свои эгоистические интересы, человек порождает зло".(38)
Как Фуко и Кассирер, Уайтхед видит в возвращении к Изначальному главную задачу современности. Путь к нему лежит через достижение должного сознания. Особая опасность на пути к нему - довольствование "простым повторением привычных способов мышления". Необходимо избавиться от догм и стереотипов. В этом плане интересна работа Алексиса Мейнонга, привлекающая к себе все большее внимание. В своем философском эссе он утверждает, что нужно сделать предметом познания "объекты, которые не только не существуют фактически, но также объекты, которые не могут существовать, потому что они невозможны", например, круглый квадрат: "Для того, чтобы знать, что круглый квадрат не существует, я должен сделать вывод о круглом квадрате".(39) Соглашаясь с философом, можно сказать об ограниченности и его подхода. Почему бы не предположить, что в бесконечно разнообразной вселенной найдутся условия, в которых круглый квадрат не просто возможен, а обычен? В целом же, установка Мейнонга на познание сущностей без ограничений, без диктата со стороны
реальности, несомненно правильна. Все мыслимое имеет свое существование - и Монсальват, и пегас, и фея.
Видимое иногда противоречит какой-то новой теории. Так волновая теория света не могла объяснить наиболее очевидных фактов нашего обыденного восприятия света, а именно того, что тени, отбрасываемые предметами, образованы прямолинейно распространяющимися лучами света. Если прибавить сюда то, что едва ли не все подлинно новаторские концепции в момент своего возникновения несут в себе известную долю нелепости, (даже такая, что Земля круглая), стоит ли удивляться, что они надолго остаются непризнанными. Может быть, чтобы верно оценивать все, мы должны находиться не в трехмерном пространстве: "Возможно, наше знание останется искаженным, пока мы не сможем охватить его сущностную связь с явлениями, требующими пространственных отношений в пятнадцати измерениях, - пишет Уайтхед. - Догматическое допущение троичности природы как ее единственного важного размерного аспекта в прошлом оказалось полезным. Но в настоящее время это становится уже опасным. В будущем он может стать фатальным барьером на пути роста знаний.
Также допустимо, что наша планета или же туманность, в которой находится наше Солнце, может постепенно измениться в плане общих характеристик ее пространственных отношений. Возможно, в неопределенном будущем человечество посмотрит назад на странную, суженную трехмерную вселенную, из которой возникло более замечательное и обширное существование".(40)
Уайтхед смотрит вперед и видит, как человеческий мир перейдет на иной уровень бытия, в иное пространственное построение. А Эйнштейн оглядывается назад. Ему принадлежит мысль о
том, что первоначально наша вселенная была двумерной. Но в какой-то момент, когда накапливаемое количество перешло в качество и произошел отрыв поля от материи, мир обрел третье измерение. Если следовать этой модели, то переход в следующее пространственное измерение, допустим в четвертое измерение, произойдет, когда человечество, как единый организм, накопит нужное количество определенной энергии, которое перейдет в новое качество, и осуществится очередной отрыв. Логичнее всего предположить, что это должна быть светлая энергия человеческого чувства и мысли - того, что составляет душу и сознание человека.
Человечеству нужно понять свое участие во вселенской эволюции и ее саму: только через постижение общей судьбы вселенной каждый человек сможет увидеть предназначение своей частной судьбы, свою роль в мироздании: так, "идя к осознанию вселенной, мы вернемся к самой сущности человеческой судьбы", - писал А.де Сент-Экзюпери.Рассуждая о философии Авесты, Эрнст Кассирер тоже пишет: "Человечество как целое и отдельный человек не стоят вне великого космического сражения. Каждое доброе дело, каждая добрая мысль увеличивает силу доброго духа, точно так же, как каждая злая мысль умножает реальность зла".(41) Не хотелось бы думать об этом как о сражении, но каждый человек или продвигает жизнь вперед, или тормозит ее даже мельчайшими повседневными делами.
Работы, подобные трудам Уайтхеда, подтверждают, что сегодня мир находится уже в третьей фазе, задача которой вернуть человечество к единству сознания, единству с Абсолютом, который для ученого - "поэт мира, с нежной любовью направляющий
мир в сторону истины, красоты и добра", и поклонение Ему "не есть забота о безопасности, оно есть смелое предприятие духа, полет к недостижимому".(42) "Новое видение великого "Вне" выведет человечество к качественно новому сознанию, которое не будет просто повторением первоначального, поскольку теперь оно будет результатом добровольного выбора человечества, выбором себя во Всевышнем, в Абсолюте, в Изначальном.
Очень многие люди в разные времена приходили к мысли, что человек сначала должен был достигнуть определенного уровня нравственности и лишь потом обрести сознание, тогда оно не стало бы для него источником мучений, не привело к катастрофическим последствиям. Во всяком случае, пример научно-технического развития нашего столетия убеждает в том, что знания человека, лишенного морали, разрушительны. Возможно, полученная в большом объеме энергетика сознания "перевесила" энергетику чувства в человеке, нарушив тем самым гармонию.
В мифах сознание человек обретает через нарушение запрета Высших сил, запрета, который не был безосновательным. Знание, просто данное, а не заработанное, данное в недолжный момент, когда не достигнута гармония в мыслях и чувствах не ведет к благу. Не к благу был огонь Прометея и яблоко с древа познания. И расщепление сознания - следствие возникшей дисгармонии, дисбаланса, перекоса. Положение усугубилось еще и тем, что усилилась та часть сознания, которая в самой минимальной степени соотносится с чувствами, эмоциями, способностью переживать. А именно способность к сопереживанию - высшее в человеке. Не случайно Альберт Эйнштейн делил великих людей на три категории. К первой он относил государей, полководцев, завое-
вателей, им человечество мало чем обязано. Вторая - это люди, способствовавшие улучшению материальных условий жизни - инженеры, изобретатели, медики, им можно выразить благодарность. Но высший тип - это люди, способствовавшие переводу человечества на новую ступень переживания, - писатели, художники, философы.
Продолжение доминирования сознания, основанного на разделении, сознания, которое можно назвать двумерным "да/нет" сознанием, приведет в лучшем случае к тупику, а скорее всего к взаимо, и тем самым, к самоуничтожению. Такое сознание знает только один выход: победу "да" над "нет", или победу "нет" над "да". Именно эту модель мы видим во взаимоотношениях людей, народов, государств. А не диктуется ли это общепринятой сегодня моделью сознания? У человека есть возможности, которые позволяют ему преодолеть двумерное сознание и несомненно связанное с ним трехмерное пространство. В его психике присутствует не только полярность, тезис и антитезис, но и лизис, который, как пишет Карл Юнг, ранее не осознавался. Эти возможности психики блестяще описал в своих трудах Уильям Джеймс. О личном опыте он оставил такое свидетельство: "Подсознательная жизнь, вся целиком, с ее порывами, верованиями, стремлениями и чаяниями, медленно подготовляла во мне интуицию, которая достигла сегодня уровня моего сознания - и что-то во мне знает с полной достоверностью, что она ближе к истине, чем самые точные логические рассуждения, направленные против нее".(43)
Человечество несет огромные потери, лишая себя изначально присущего универсального метода мышления. Это приводит к типу современного человека, "который занят такими важными вещами,
как создание машин и который считает себя "реалистом", поскольку ничего не видит кроме реальных вещей, которые можно использовать в своих целях; современный человек - это реалист, придумавший отдельное слово для каждого типа автомобиля, но лишь одно слово "любовь", чтобы выразить самые разнообразные душевные переживания". (44)
Сегодня - время возрождения универсального мышления. Не противопоставления логики и воображения, рационального и мифологического, а их синтеза как двух почетных форм сознания. Слишком долго они, как справедливо полагал Леви-Брюль, оспаривая друг у друга руководство сознанием, находились в состоянии вражды, приводя к мнимым битвам разума с самим собой. Он делает точный вывод о том, что впредь наша умственная деятельность, которая одновременно является и логической, и прелоги-ческой, может оказаться озаренной новым светом.(45) К мысли о необходимости нового синтетического мышления, восходящего к мифу, пришли Фуко и Уайтхед, Уильям Джеймс и Пьер Тейяр де Шарден, Кассирер и Карл Юнг.
Прийти к новому сознанию можно через три главные составляющие - Любовь, Познание и Красоту. Они связаны между собой. Красота учит Любви, ведет к ней. По Платону: "истинный путь к любви состоит в том, чтобы начиная с прекрасных вещей, постоянно возвышаться к самой красоте, переходя постепенно от любви одной формы к любви двух, и от любви двух к любви всех прекрасных форм, и от прекрасных форм к прекрасным занятиям, от прекрасных занятий к прекрасным наукам, и, наконец, достигнуть того знания, которое уже есть не что иное, как знание красоты самой в себе". В Любви, Знании, Красоте - заключается высшая
энергия космоса: "Любовь одного, какой бы она ни казалась нелепой, может Млечный Путь покачнуть и все его звезды".(46)
Для достижения нового сознания необходимо также объединение типов мышления, религий, народов, создание единого пространства духа. Выход, обособление - это всегда распад. Карл Юнг писал, что "обособление какой-то части психики ведет к утрате энергетического равновесия". Утрата энергетического равновесия, распад личности, шизофрения происходят при выделении и разрастании какой-то составляющей психики, ее попытке подчинить себе или подавить другие составляющие. То, что произошло с сознанием человечества, аналогично этой модели. Доминирование рацио, подавление и отрицание с ним не сходного, привело к патологии, в частности к материализму, который, по словам Кандинского, "сделал из жизни вселенной злую, бесцельную игру", а в душах "зародил отчаяние - следствие неверия, бессмысленности и бесцельности".(47)
Далеко не случайна параллель между сознанием человека и сознанием человечества. Сознание человека также многосоставно, в обобщенном виде его можно представить как троичность: подсознание, сознание, сверхсознание. И цель - осмыслить каждый пласт и привести его в единство с остальными. Юнг писал об этом: "Осознать самого себя - вот служение, которое человек может принести Богу". Личность, как истинная частица универсума, возникает лишь при синтезе всех начал человека, не подчинении одного другому, а именно слиянии при достижении каждым из них своего максимума возможного, что и станет основой их слияния без поглощения.
В переходе человечества на новый уровень сознания особая
роль принадлежит не только Красоте, но и Игре. Недостаточность быть Homo sapiens сейчас понимают многие. Его начинает заменять Homo ludens Йогана Хейзинги, а Гастона Башляра не устраивает и Homo faber, человек производящий. Человек, по его мнению, должен стать Homo aleator, человеком, играющим в кости. Мало быть человеком разумным, надо быть человеком, способным к творчеству, как к игре, свободе воображения.
Для расширения сознания в первую очередь необходимо его раскрепощение. И игра, с присущей ей свободой, легкостью может дать многое. Сократ считал игру основной и существенной причиной всех проявлений окружающего мира, а Платон сравнивал людей с "куклами богов". Если это так, то игра предшествует мифу. Сначала ее замысел, разработка правил, а уже разыгрывание ее -миф. То, что игра и миф генетически связаны между собой, проявляется во многом. Например, вопрос о свободе и необходимости. Игра - это свобода, импровизация, причины и следствия -самые непредсказуемые. И в то же время игра имеет свои жесткие правила. Так, миф - раскованность, все из всего, и в то же врмя мифу присуща жесткая регламентированность, четкое понимание того, что ничто в мире не происходит случайно. Второе, и миф, и игра - есть способ постижения жизни, причем такой, который должен снять ее видимую тяжесть, придать всему происходящему смысл. Через миф и через игру, будь то ритуал, фарс или карнавал, человек приобщается к трансцендентальной истине. И игра, и миф - это космическое мироощущение, выход из времени. Для игры, как и для мифа очень важны понятия верх/низ, право/лево, чет/нечет, черное/белое. В мифах воплощены основные психологические типы личностей, матрицы, к которым так или
иначе восходят люди; в игре тоже есть определенные типажи, роли, которые люди примеряют на себя, начиная с детства.
Если следовать мысли, что мир - блистательная игра вселенских сил, то все, происшедшее с человеческим сознанием, три фазы его развития, представляется совсем в ином свете. Мифологическое сознание отражает ту фазу игры, когда человеку была показана цельная картина сущего, где все было взаимосвязано, осмысленно и оправдано. Потом эту картину, по условиям игры, разъяли на части, кубики, нити, если это был гобелен. И задание игры - снова собрать цельную картину. Долгое время человечество разглядывало распавшиеся части, а сейчас, наконец, приступило к складыванию. Хейзинга в своей книге показывает, что игра выступает как заколдованный круг, из которого надо спастись, выйти. А спастись по его мнению, можно, лишь обратив свой взор на Высшее, причем "логическое продумывание проблем здесь ничуть не помогает".(48) Только обратившись к Высшему, увидев Единое, вернув цельность и осмыленность, человек выиграет, справится с заданием, выйдет из круга и станет свободным". Причем выиграет или проиграет все человечество, разом, ведь "люди все вместе выступают как некое целое не только в силу сходства организации, но в еще большей мере благодаря одинаковости своего назначения. Все люди - это множество проявлений способности Земли к одной и той же цели: восстановлению свободы, возвращению в высшую сферу".
Трехчастна эволюция сознания и в соответствии с воззрениями Ф.Шеллинга. Шеллинг считает, что "основание и начало порождающего мифологического процесса заключено уже в первом действительном сознании человечества". (49) И это - "полагающее
- зо -
Бога сознание".(50) Эволюция сознания, его поступательное движение "происходит не от малого к великому, а наоборот - великое, гигантское всегда составляет начало".(51) И первоначальная фаза представляет собой монотеизм, "погруженность в Бога". Но это лишь момент, "человек не может пребывать в таком вне-себя-бытии, он должен стремиться выйти из этой погруженности в Бога, а тем самым в свободное отношение к нему".(52)
Вторая фаза названа Шеллингом фазой политеизма. Политеизм - "путь к освобождению от односторонней мощи единого, переход к отношению, которое должно быть завоевано вновь". И третья фаза - вновь монотеизм, но какой! "Это теперь монотеизм действительный, возникший и одновременно постигнутый - предметный для самого сознания".(53) Предпосылка процесса мифологии -"отчуждение от божественной самости", ее процесс - "действительное становление Бога в сознании" и "в последнем мифологическом сознании восстанавливается образ истинного Бога".(54) Мифология по Шеллингу - "нечто сущностно подвижное, притом са-модвижное". И процесс самодвижения "состоит не в разделении, а в объединении разделенного", это процесс "восстанавливающейся и благодаря этому осуществляющейся истины".(55) Этот процесс связан с появлением новой мифологии. Ее главная черта - синтетичность, поскольку соединять она будет, согласно Шеллингу, мифологию, религию, открытия физики, а основа ее традиционна -любовь. Происходит этот процесс и сейчас, складываясь из мифологий, творимых каждым отдельным индивидом. Что же говорить тогда о художнике? Шеллинг ставит перед ним следующую задачу: "Всякий великий поэт призван превратить в нечто целое открывшуюся ему часть мира и из его материала создать собственную
мифологию".
Очевидно, что мыслители разных времен и разных народов пришли к единому- выводу о трехфазной эволюции человеческого сознания. В первой фазе человечеству дан извне тип сознания, единого, пребывающего в Творце. Вторая фаза - выход из сознания Бога, добровольный или вынужденный (наказание за нарушение запрета) и расщепление сознания, доминирование одной составляющей. Третья фаза - возвращение в сознание Бога, возвращение как акт свободной воли, свободного выбора человечества и переход к новому сознанию, основанному на первоначальном варианте, но на ином уровне. С его помощью станет возможно приближение к истинному знанию, более полное использование всех возможностей человеческого мышления.
К изначальному "полисинтетическому", мифологическому мышлению из всех существующих сегодня типов сознания в наибольшей степени близок, на наш взгляд, тип художественного сознания, который видит мир как сложный синтез разнородных сфер реальности, взаимопроникающих одна в другую. На протяжении многих веков господства рацио, именно эта ветвь человеческого сознания, в целом, художественное сознание, хранило и развивало принципы полисинтетического мышления, "художественной гармонии", "прелогического", "глубинного" сознания, тип "гениального" познания, познания через интуицию, через "схватывание" изучаемого, погружения в него, а не через аналитическое расчленение. В создаваемых писателями универсумах работают, конечно, по-иному, трансформировано, но все же работают некоторые из фундаментальных положений мифологического мышления, например, категории тождества, каузальности, перехода профанного в
сакральное, осуществляется прорыв к трехмерному сознанию.
Обозначенный тип художественного сознания, один из возможных, присутствует в истории мировой литературы постоянно, то уходя в тень, то выдвигаясь на передний план. Наиболее ярко он проявляется в средневековье, в барокко, в романтизме, в ряде явлений литературы 20 века.
В средневековье "литература вписывается в рамки канонизированной модели мира и ориентирована на изображение высшего и вечного мира сквозь преходящий земной".(56) Барокко "даже бытовую действительность рассматривает как начало смысловой вертикали", и если классицизм утверждает семантическую единосущ-ность слова, то барокко - его "смысловую многоплановость, по-лисемантичность".(57) И "для романтизма обыденная реальность -канва, по которой вышивается узор реальности высшей",(58) а слово "романтик присваивает себе", выступая "как интерпретатор мирового порядка", пересоздает его семантику, стремясь через него передать саму полисемантичность мира, увиденного им с помощью внутреннего зрения, в то время как в реализме слово "предметно, как бы принадлежит самой действительности".(59)
Можно увидеть, как уже внутри художественного сознания возникает своеобразная микромодель происходящего в человеческом сознании, чередование в лидерстве "двух способ художественного мышления, существующих как бы в разных измерениях", (60) одно из которых "систематизирует мир по законам логики, строго классифицирующей явления", другое ориентировано на игру воображения. Чередование это исходит из закономерностей литературного развития, эти две составляющие и противоположны, и необходимы друг другу, как необходимы друг другу рациональ-
ное и иррациональное, рацио и интуиция, анализ и синтез, являющиеся составляющими единого человеческого сознания.
Все линии литературы, будь то барокко или классицизм, романтизм или реализм, имеют общую задачу - постижение и художественное воплощение закономерностей бытия. Расхождение связано, в первую очередь, с мировосприятием. Тип художественного сознания определяется авторским мировидением и диктует особое эстетическое отношение к действительности, способ ее постижения и отражения, диктует саму "художественную доминанту," организующую "поэтику произведения в целом".(61) Думается, особых доказательств связи мировидения художника и миростроения в его творении не требуется. Но приведем мнение М.М.Кореневой о том, что романтическое видение мира, лежащее в основе произведений Готорна и Мелвилла, "является организующим началом. Именно оно обеспечивает целостность их художественного мира при разнородности элементов его составляющих".(62) В.Адмони связывает основные структурные сдвиги в литературе 20 века с "подлинными существенными изменениями в художественном сознании эпохи".(63) А.М.Зверев главным критерием искусства 20 века, который не может быть ни отменен, ни подменен, утверждает "новое качество художественного мышления".(64)
Очевидно, что природа поэтики, "иерархия поэтологических понятий"(65) обусловлены художественным сознанием. В данной работе нас интересует исследование поэтики, основанной на названном типе художественного сознания, который видит мир как сложный синтез разнородных сфер реальности, взаимопроникающих одна в другую, поэтики, чья сердцевина - условность, мифологическое, символическое, фантастическое, синтез рационального и
иррационального; исследование способов художественной реализации познанных писателем законов бытия, системы художественных средств постановки и решения в литературном произведении онтологических проблем, то есть описание и исследование онтологической поэтики.
Термин "онтологический" все чаще и чаще используется в последнее время в различных трудах и не только философских. Эта, по-видимому, отражение усиления интереса к универсальному, к сущностному, что характерно сегодня как для науки, так и для самого литературного опыта. Л.В.Карасев предложил термин, "онтологическая поэтика" в своей работе "Гоголь и онтологический вопрос", где пишет: "В литературе онтологические интуиции сказываются и в самой потребности автора в создании "второй реальности", и в особенностях устройства текста, в сюжетных ходах, мотивах поступков персонажей и различных деталях. Исследование этого особого смыслового слоя (обычно закрытого для автора текста) я назвал онтологической поэтикой или онтологическим подходом к литературе". (66) С помощью подобного подхода Л.В.Карасев в новом, глубоком ракурсе показывает тему бегства или отъезда у Гоголя, ее различные формы "как иноформы одного и того же универсального смысла - смысла " неумирающего тела".
Свою задачу мы видим в исследовании не столько семантического плана, сколько художественного, собственно поэтики, семантики ее составляющих, и во взаимосвязях, ведь поэтика -нечто большее, чем простая сумма приемов, и это большее рождается от взаимодействия ее составляющих. Наше внимание концентрируется при анализе на мифе, символе, гротеске, аллегории, времени/пространстве, сюжете, композиции, стиле, точке зрения,
интертекстуальности, номинологии, цвете, нумерологии, пейзаже, ритме, метафоризме. Мы говорили о том, что онтологические откровения, формулирование законов бытия не дается в литературе открытым текстом. Названная система поэтологических средств выполняет для писателя ту роль, что и различные величины, с помощью которых ученый выводит формулы движения и развития материй. Постараемся охарактеризовать возможности ее составляющих в создании философского обобщения с помощью трудов ученых-литературоведов.
Общеизвестна способность воплощать сложнейшие философские построения, предоставляемые художнику мифом, символом, метафорой. В.Г.Земсков задает вопрос: "Как литература может иначе философствовать, если не языком метафоры, условной формы, в том числе и с помощью мифометафоры"? (67) Миф является "формо - и сюжетообразующей силой, организующей всю поэтику романа". (68) Миф может присутствовать на уровне сюжета, как структурная матрица романа, и как интертекст, как мифосимволы, глобальные и частные, может воспроизводиться как мифологический ритуал в отдельных эпизодах.(69)
Сегодня " в основу самых сложных художественных структур ложатся мифологические, какие-то изначальные схемы представлений", а "архаические, ходы мифомышления активно работают в заново творимой образной структуре". (70) Многие писатели в 20 веке стремятся к новой эстетике, основанной на поэтике мифа, полагая что без этого невозможно изображение души в ее целостности, утраченной вместе с утратой мифологического мировосприятия. (71) И как справедливо считаает А.Ф .Кофман, самое главное присутствие мифа в литературе осуществляется на уровне ми-
фологического мышления. А уже оно диктует закон творимой художником действительности: " Магический реалист вовсе не волен в своей фантазии, вынужденный согласовывать ее с законами мифологического мышления". (72) Об этом писал и блистательнейший создатель филосовских книг, фантастических миров литературы нашего столетия Д.Р.Р.Толкиен. Он говорил о существовании строгой системы в фантастике, в чудесном; просто написать "зеленое солнце" нельзя, один элемент требует и всех остальных. Новую, вернее, старую, логику, логику мифа вернула нам и работа Голосовкера. За мифом стоит особая логика, особое мировиде-ние, позволяющее " открывать новые стороны давно известных вещей ", что Кольридж считал высшим докозательством гениальности как философа, так и поэта, например, суметь увидеть цветок "как естественный символ высшей жизни разума". (73).
Кутейщикова В.Н. определяет чудесную реальность как "метод художественного познания". (74) Чудесная реальность раскрывает тайны, позволяет приблизиться к Познанию, если увидина она должным образом. Ролан Барт пишет, что " для определения мифа важен не сам предмет сообщения, а то, как о нем сообщается, можно установить формальные границы мифа, субстанциональных же границ он не имеет", ведь "суггестивная сила мира беспредельна" (75) Любая вещь, действие, явление, увиденные в истинном свете, проявляют свою скрытую сакральную суть, которая может быть передана в произведении через определенную художественную форму.
A.M. Зверев в своей книге "Дворец на острие иглы" приводит слова Ч. Айтматова о том, что "в литературе все решают "масштаб и способ художественного мышления", а отнюдь не при-
верженность какой-то одной системе изображения... Новаторство неправомерно сводить только к форме". Определенная система видения мира, художественного мышления требует и определенной формы, способной отразить его. Основной принцип романтизма -принцип двоемирия, пронизывающий все целое произведения, от сюжета, композиции, персонажей до частностей, например, контраста, проистекает из видения романтиками мира, как разделенного на видимый и невидимый, низший и высший. Пока в раннем романтизме эти миры диаметрально противоположны, они разделены, не соприкасаются. Когда у поздних романтиков возникает подозрение о несовершентсве "того" мира и наличия высшего в этом мире, то меняется двоемирие: фантастическое входит в этот мир, на улицах Берлина встречаются сверхсущества, а в идеальном Джинистане оказывается горшок, сверхбытовая принадлежность готовки.
В сегодняшней же литературе полагает М.Эпштейн не существует ни первого, ни второго варианта двоемирия. В нем появляется метареализм, который исходит из принципа единомирия, предполагает взаимопроникновение реальностей, а не отсылку от одной, "мнимой" или "служебной", к другой - "подлинной". Он возникает из "многомерного восприятия жизни". "Метареализм -не отрицание рализма, а расширение его на область вещей невидимых, усложнение самого понятия реальности, которая обнаруживает свою многомерность, не сводится в плоскость физического и психического правдоподобия", но включает и высшую метафизическую реальность, "обращается не к подсознанию, а сверхсознанию". (76) И метафора в метареализме меняется, она "может быть раскрыта как метаморфоза, как подлинная взаимопричастность, а
не условное подобие двух явлений".(77) происходит возврат на новом уровне к первомоменту, ведь, как писала 0. Фрейденберг, "для первобытного сознания один предмет и есть другой, потому здесь нет места ни для какой переносности значения с одного предмета на другой". А иносказание открывает путь, по Фрей-денрберг, в новое мышление.
Метафора, как и мифология, отражает особый тип мировиде-ния. Конечно, анализируемая система средств не пребывает в статике, она меняется, меняется вместе с переходом на новый уровень сознания, какие-то ее компоненты в разные эпохи выдвигаются вперед, занимают ведущее положение, трансформируются. Так, в двадцатом веке само художественное мышление, как пишет Зверев А.М., устремилось к синтезу, и это одна из причин его нового качества. Тяготение к синтезу проявляется во всем: "формы становятся синтетичными по внутренней сути", наблюдается тенденция все большего движения к синтезу искусств, синтезу жанров, возникает "субъективная эпопея".Философы, искусствоведы, литературоведы отмечают усиление тенденции постижения мира в единстве, "изменение диалектики частного и всеобщего, явления и сущности - под знаком преобладания существенного", появление " нового соотношения "контекстов" и "констант", усиление "констант", неких повторяющихся и не зависящих от времени характеристик человеческого бытия". (78) Писатели стремятся спроецировать жизнь своих героев на вечность и, пользуясь формулой Германа Гессе, "рассказать в одной книге весь мир". (79) "Движение от анализа к синтезу" - важная особенность XX века как эпохи в литературе, - к такому выводу приходят многие (80)
В наши дни некоторые категории поэтики "приобретают новое
наполнение". В первую очередь, это касается категорий фантастического, игрового, условности. Фантастическое у Гессе, Экзюпери, Кортасара показывает новые возможности воплощения абстрактных идей, незримых событий в зримые образы. Фантастическое, создающее "вторую реальность" в сказочных циклах Д.Р.Р. Толкиена и К. Льюиса, позволяет выразить целый комплекс философских идей о "первой реальности", создать позитивную программу ее развития, сформулировать высший идеал, удовлетворить "главное изначальное желание всякого человека - осматривать бездны постранства и времени, говорить со всем и понимать все, что живет и движется в мире". (81) Фантастическое стало "средством обнаружения глубинных и подлинных смыслов действительности с помощью концентрации и гиперболизации типического до такой степени, когда оно уже переступает порог реальности и в то же время становится самым подлинным ее свидетельством". (82)
Прыжками в абсолютное привлекает в наше время прозу и миф, позволяющий "донести и вечность коллизий, развертывающихся в человеческом сознании, и их неповторимость в каждой судьбе". (83) Связанность мифа и судьбы человека отмечает А.А. Федоров, для него мифотворчество в новое время - это умение увидеть в конкретном образе матрицу человеческого характера, важ-нешие формулы эзотерического бытия", (84) увидеть и помочь каждому обнаружить собственную матрицу и жить в соответствии с ней.
Еще одна цель обращения к мифу сегодня заключается в том, что с помощью "современных литературных мифологий намеренно размывают историческое время, чтобы акцентировать общезначи-
мость происходящего где место "обычных" персонажей занимают "символы вечности". (85) Вечность, которая для Новалиса была сферой универсального синтеза, высшей реальностью, в сегодняшней литературе обретает новые очертания. По мысли Ф.Ф. Федорова, сейчас "время мифологизируется, авечность приобретает земные противоречия". Он считает, что "современная культура или непосредственно или опосредованно историю сопрягает с вечностью, реальность со сверхреальностью". (86) Время и вечность не противостоят друг другу, а друг в друге отражаются.
И мифологизм сегодня "предопределен побуждением к синтезу". Это побуждение привело к тому, что изображение чувственного мира оттеснено потребностями воплотить мир идей, тягою к супра- (или инфра) - реализму", к тому, что художник отдает усилия, как полагает Хосе Ортега-и-Гассет, "символическому обретению космоса, бесконечности". (87)
Тенденцию к универсальному осмыслению действительности подчеркивает и Юрий Манн. Он пишет, что гротеск, усиливающий обобщение, все глубже укореняется в художественном опыте нашего столетия. Это связано, как он полагает, с присущей современным литературным произведениям тягой к обобщению: "Конечно, каждое поизведение обобщает, и, однако, в том обобщении, с которым мы встречаемся в современной литературе, есть какая-то новая, настойчивая, проникающая нота, есть что-то от "подведения итогов", от непрерывного поиска философского смысла в любом, даже самом частном, мелком, удаленном от дорог истории случае" (88) A.M. Зверев как особую черту 20 века отмечает "очень активный интерес к романтизму и возвращение барокко" (89) Несомненна их родственность, Карпеньтьер отмечал, что "
- 41 - , s :' ';. ' -н
весь романтизм барочен". (90) Для средневекового искусства, для барокко, романтизма, для определенных явлений литературы нашего столетия характерно стремление "провидеть за внешней оболочкой реального мира, предстоящего перед взором художника, иную, духовную реальность", (91) стремление выйти "к основным, универсальным законам бытия и попытаться выяснить положение и место человека в иерархии систем - от микрокосма индивидуального- сознания до микрокосма вселенной", (92) стремление сделать темой своих произведений "вечные и глубочайшие вопросы бытия,... отыскать разгадку тайны мира, разрешить огромный всечеловеческий конфликт". (93)
Неудивительно, что сходным задачам соответствует сходная техника. Одна из новаций двадцатого века - усиление конструктивизма, увеличение степени осознанности творимой художником действительности. И это тоже связано, во многом, с переходом от видимого к сущему, так в живописи переходят к изображению геометрической фигуры, лежащей в основе предмета, порой сочетая в одной плоскости разнонаправленные стороны, чтобы, объединив все стороны предмета, прийти к истинному объему, единству.
М. М. Коренева, говоря о новых тенденциях в литературе 20 века, отмечает:"Обращение к условным формам, эксперементально-му письму приводило к тому, что автор неизбежно предлагал в произведении не непосредственное отражение окружающей действительности с его мировосприятием". Даже в фантастических современных произведениях очень силен элемент конструктивизма. Они втягивают читателя в определенную игру. Писатель "убеждает" читателя в реальности выдуманного мира, в то же время застав-
ляя его понимать и принимать конструкт. И даже интертекстуальность можно рассматривать как своего рода конструктивизм. Л.Арютинов пишет:" В прозе 20 века мифологические аллюзии, намеки, прямые или косвенные, аналогия с мифом приобрели сознательный характер".(94) вот этот "сознательный характер", вернее его степень, и обращает на себя внимание. Метафора во многом позволяет решить задачи, которые ставят перед собой художник и в 20 веке," Метафора возникает в силу глубинных особенностей человеческого мышления"(95) Метафора - блистательный аппарат познания мира в его сущностных взаимосвязах, в его целостности, и средство, позволяющее воплотить эти знания в художественную ткань. Мэнлав считает, что от сопряжения в метафоре двух разных сторон, обычное становится сверхреальным, а сверхреальное - живым из-за внесения в него повседневного и знакомого.(96)
Принято, что дочь воображения - метафора, а дочь логики - формула, но метафора - это тоже своего рода формула, доказывающая единство универсума. Виноградов В. В. писал, что метафоры - это "отголоски мифологического мышления", и дело не в "языковых метаморфозах, а в способе восприятия мира".(97) Хосе Ортега-и-Гассет выше всего ставит способность метафоры выводить нас за пределы познанного. Он пишет: " Метафора - это, вероятно, наиболее богатая из тех потенциальных возможностей, которыми распологает человек. Ее действенность граничит с чудотворством и представляется орудием творения, которое Бог забыл внутри одного из своих созданий, когда творил его,- подобно тому, как рассеянный хирург порой оставляет инструмент в теле пациента. Все прочие потенции удерживают нас внутри ре-
ального, внутри того, что уже есть".(98) Метафора позволяет говорить о не конкретном:"Метафора необходима абстрактному мышлению".(99) Она изменяет наш способ смотреть на вещи, "подсказывает, раскрывает, выявляет глубинные структуры реальности", дает "стереоскопическое видение"- способность иметь две различные точки зрения в одно и то же время".(100)
Вико называл метафору "маленьким мифом", ведь в метафоре, как и в мифе, главное - единство всего сущего. Автор А. Ричарде пишет:"Когда мы объединяем - неожиданно и впечатляюще -два предмета, относящиеся к двум весьма отличным друг от друга сферам опыта", "мы достигаем самого важног - усилия создания, чтобы соотнести эти предметы друг с другом".(101)
Так и символ - связывает, но, как правило, начала, принадлежащие к разным параллелям. А.Белый определяет символ как "третье двух миров, пересечение параллелей в крест с точкой духовного мира в центре".(102) Тиндалл У. называет символ "видимым знаком чего-то невидимого". (103) Или есть такое мнение: "В символе различные реальности встречаются".(104) Как человек принадлежит двум мирам, и физическому, и духовному, так и символ вещественно обозначает нереальное. И символ всегда больше видимого. Карл Юнг пишет:"Термин или образ символичен, когда он означает больше, чем выражает или определяет. У него есть более широкий, "несознательный" аспект, который не поддается точному определению или полному объяснению. Причина заключается в том, что объясняя символ, разум, в конце концов, приходит к идее трансцендентального, где наш рассудок должен отступить". И задает вопрос:"Почему мы так самонадеяны, что полагаем возможным заключить универсальное существование в узкие
рамки нашего языка?".(105). Как бы отвечая на этот вопрос Лэн-гер С. говорит: "Иногда наши понимания всеобщего опыта опосре-дованны метафорическим символом, потому что опыт этот нов, а язык обладает словами и фразами только для знакомых понятий. Тогда развитие языка будет постепенно следовать за бессловесным постижением, дискурсивное выражение заменит недискурсивный первоначальный символ".(106)
Символ позволяет кратко сказать о многом. Фолкнер ценил это качество символа . Ф.П. Шарплесс одним из преимуществ символа считает "экономность, стенографичность выражения", "когда простой предмет может представлять важные чувства и идеи, когда река, или дорога, или дерево, или алая буква могут объединить сложные значения с простыми и их ассоциативные эмоции с традиционными использованиями".(107) Символ позволяет "через предметное, отдельное проникать в духовно изначальное, что может наилучшим образом послужить высшей цели познания".(108) Ясперс называл символ кодом бытия, языком бессознательного. Как и метафора, символ связан с мифом: " То, что между мифом и символом существует связь, очевидно. Трудно представить миф, который не содержит символ или не подпитывается символическим или скрытым значением".(109)
Мифологические символы - "один из наиболее устойчивых элементов культурного континиума". Лотман пишет:"символ никогда не принадлежит какому-либо одному синхронному срезу культуры - он всегда пронзает этот срез по вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее. Память символа всегда древнее, чем память его несимволического текстового окружения". И именно мифосимволы, элементарные по своему выражению - круг, крест -
обладают большой смысловой емкостью и большими смысловыми потенциями. В этом же ряду стоят блистательно используемые писателями разных времен мифологемы - вода, земля, воздух, огонь, дерево. Именно эти символы образуют общечеловеческое " символическое ядро культуры".(110)
И миф, и метафора, и символ непереводимы. Потебня А.А. точно писал, что "переводить мы можем только с метафоры на метафору". (111) То же сомое можно сказать и об языке символа. Связано это и их принадлежностью к мифологическому сознанию, а " мифологическое сознание принципиально непереводимо в план иного описания, в себе замкнуто - и, значит, постижимо только изнутри, а не извне".
С мифом связана и символика цвета, и символика числа, и символика имени, которые играют столь существенную роль в онтологической поэтике.
Цвет, имя, число могут формировать в тексте основные характеристики создаваемого художником универсума. Бахтин в книге о Рабле показывает, что "античная и средневековая литература знают символическое, метафизическое и мистическое использование чисел". Число - "основание всего сущего, всякого строя и порядка". Рабле же "профанирует число", это " веселая карнавальная профанация, возрождающая и обновляющая число". " Все его числа, как в капле, отражают структуру всего раблезианского мира. На таком числе нельзя построить гармонической и завершенной вселенной. У Рабле господствует иная, чем в античности и высоком средневековье эстетика числа", которая отражает иную вселенную, иное ее видение.
Пишет Бахтин и о гротесковой структуре раблезианских чи-
сел.(112) Ю.Манн, говоря о гротеске, отмечает присущий ему "подчеркнуто филосовский характер. Он считает, что "гротесковое служит художественному познанию, осуществляемому особыми средствами", и что диапазон обещаемого в гротеске может расширяться до "подведения итогов" всей истории человечества, до извлечения из нее предельно сконцентрированного исторического смысла".(ИЗ) Гротеск, как правило, помогает познать несовершенство земных установлений. Так, "лишь в гротеске, по Гофману, может открываться удивительная ненормальность людей, для которых пошлая обыденность бытия стала нормой существования". (114)
Кайзер считает, что гротеск расцветает в периоды скептицизма, когда мир представляется абсурдом, когда разрушается привычная система. Тогда гротеск становится художественным выражением "Отчуждение человека от враждебного, иррационального и непостижимого мира". И гротеск вызывает чувство "удивления и ужаса, агонизирующего страха в мире, распадающемся и остающемся неприемлемым".(115) А вот Эрнст Крис считает, что "психология гротеска в большой степени основана на неожиданном и удивляющем облегчении от напряжения, ведущем к смеху".(116) При восприятии мира как чужого, непонятного, угрожающего гротеск становится адекватным ему художественным принципом. Гротеск смещает все пропорции, разрушает привычные связи, разрывает некую оболочку за счет смещения и обнажает внутреннюю суть чего-то привычного и,казалось бы, приемлемого. Одно, единичное явление представляется нормальным, но когда за счет гротеска оно возводится в кратную степень, становится очевидной вся его нелепость, а порой и преступность. Гротеск может заставить
увидеть все по-новому, в истинном свете, и тогда важное окажется не стоящим внимания, сильное, непобедимое - жалким и ничтожным. Обратное - показать истинное величие чего-то рядового - гротеску не дано. Но он может, согласно В. Гюго, служить "контрастным средством для возвышенного". А М.М.Бахтин точно отметил, что гротеск дает "почувствовать относительность всего существующего и возможность совершенно иного миропорядка". (117)
Для смещения пропорций, остранения гротеск нуждается часто в фантастическом. Для разоблачения он прибегает к комическому и ироническому. Кассирер писал об иронии как о "фило-софско-метафизическом принципе".(118) Комическое называют "способом познания действительности", "специфической особенностью человеческого сознания".(119)
По мнению М.М.Бахтина, гротеску присуща "художественно-эвристическая сила". С ее помощью романтиками была открыта "внутренняя бесконечность индивидуальной личности". Эта сила "освобождала от всякого догматизма, завершенности и ограниченности, что и позволило совершить это открытие". Бахтин полагает, что в основе гротеска лежит карнавальное мироощущение. А "Карнавализация позволяет раздвинуть сцену частной жизни определенной ограниченной эпохи до предельно универсальной общечеловеческой мистерийной сцены".(120)
Подобная сцена и позволяет делать глобальные выводы о законах, движении истории человечества. "Стягивая" времена в одну точку, показывая историю как легко обозримое единство, сталкивая две эпохи, далеко отстоящие друг от друга, писатели дают свою модель эволюции, представляемой как успех или пора-
жение. За счет размывания исторического времени и конкретики места усиливается вневременное, внепространственное; вечность и бесконечность придают общезначимый масштаб происходящему. Помимо такого "разбегания" пространства может быть и сужение его до размеров маленькой сценической площадки, но и ей через символику будет придан статус сцены универсума, что также изменит уровень философского обобщения.
Планетарно-космическое время/пространство, мифологическое время/пространство дают художнику выход к вечным ценностям, к слиянию имманентного и трансцендентного, к созданию художественных абстракций. Автор может идентифицировать физическое пространство и этическое пространство. Мир короля Артура у Кретьена де Труа там, где царствуют высшие ценности - благородство, справедливость, красота. А.Михайлов пишет: "Топографическая неопределенность соответствовала внутренней структуре изображения действительности, существующей и функционирующей по своим законам".(121) У Кретьена де Труа не двоемирие, не два пространства, а одна, особым образом организованная действительность.
Время мифа, как говорил А.А.Федоров, - всегда настоящее, у него иное измерение и скорость, оно нам недоступно, как недоступно следить за вращением звезд, они всегда для наблюдателя неподвижны.(122) И только длительность позволяет понять их перемещение. Так и наблюдение за кратким отрезком времени часто не дает увидеть общее изменение, и нужно не иначе, как волшебство магов Глабдобдриба, чтобы показать Гулливеру и читателю историю как движение, как процесс, чтобы "действительность предстала неким сгустком всемирной истории".(123)
Время и пространство - универсальный язык для формирования онтологических выводов. Лотман пишет, что "пространственная схема имеет тенденцию к превращению в абстрактный язык, способный выражает разные содержательные понятия", и что "система пространственных отношений становится языком для выражения идейных категорий".(124) Пример: дробленное пространство передает представления автора о разобщенности людей. И создаваемая в тексте иерархия пространств показывает авторскую модель мира.
С пространством тесно связан пейзаж, который также является прекрасным способом онтологических откровений писателя. Общепринято, что любой пейзаж - это состояние души. Славог-радская Л.В. считает, что "поиски художественных средств изображения природы неотделимы у романтиков от интеллектуального познания". Пейзаж позволяет им отразить "скрытые закономерности" бытия, "передать бесконечное в конечном".(125) Нередко пейзаж помогает сакцентировать общую мировоззренческую направленность произведения. Весенний, полный жизни пейзаж может снять чувство безысходности, возникающее из-за трагической событийной развязки, внушая мысль о возможном возрождении, открывая будущему дорогу. Пейзаж может символически изображать и основное движение сюжета, являясь его концентрированным выражением. Пейзажный парк позволяет писателю, как Эдгару По, не только создать желаемую модель мира, но и указать путь к ней.
Немаловажна и позиция, точка, с какой описывается пространство пейзажа. Например, наблюдатель помещается над землей, на вершину горы, на воздушный шар, изменяется ракурс видения, масштабы видимого, позицию верх/низ и внушает мысль о неодноз-
начности выводов, о ненужности да/нет ответа и "конечной инстанции ".
Такую же роль играет в произведении и точка зрения автора. Постоянно смещая точку зрения, прибегая к разнонаправленному сказу, бесконечно меняя перспективу, используя многоголосие даже в монологическом произведении, автор показывает свое восприятие мира, в котором нет догматизма, где есть право не разность, и тогда "эти разности оказывается взаимосвязаны и взаимонеобходимы".(126)
Не только позиции и голоса персонажей создают полифоническое звучание в тексте, но и тексты в тексте. Интертекст уже привлекает целый блок философских представлений, связанных с привлекаемым произведением. Новый текст может продолжать, развивать их, отрицать, диалогизировать с ними, но в любом случае интертекст уже будет семантической основой, "пусковым устройством", катализатором," ведь для того, чтобы производить текст, надо уже иметь текст", как для того, чтобы ребенок стал человеком, он должен слышать речь других людей.(127)
Тип речи, стиль повествования тесно связан с типом миро-видения. Марсель Пруст писал: "Стиль есть аспект видения, не техники". А Лосев А.Ф. настаивал на такой методологической установке: "Стиль" и "мировоззрение" должны быть объдинены во что бы ни стало; они обязательно должны отражать друг друга".(128) Ученые отмечают, что преобладание в тексте существительных или глаголов, прилагательных или причастий, единственного или множественного числа, первого или третьего лица, простых или сложных предложений - свидетельство того или иного отношения к миру, овладения им. В прозе Пушкина почти отсутствуют сложные
конструкции. У Толстого избыток не просто сложных, а сверхсложных предложений, с массой придаточных, свидетельствующих о видении мира, как труднопостигаемой системы, запечатлеть которую в ее необьятности пытается писатель. Не только синтаксис, но и лексика позволяет автору неявно подвести читателя к основной идее. Слово многократно повторяемое, нередко становится ключом и к главной мысли. "Язык художественного текста в своей сущности является определенной художественной моделью мира и в этом смысле всей своей структурой принадлежит содержанию",-пишет Лотман. (129)
На уровне фонетики особое значение в исследуемом аспекте имеют тональность и ритм. Общепринято, что произведение всегда больше, чем сам текст, чем сумма слов: "Произведение выражает больше, чем об этом можно судить по смыслу его слов".(130) Оно - текст плюс "что-то". Это "что-то" формируется и за счет ритма, пауз, фигур умолчания, которые тем не менее, ощутимы. Фонетическое звучание, ритм воздействуют на бессознательное читателя, и это воздействие идет поверх смыслового аспекта слов. Нильс Бор писал о "гармониях, недосягаемых для системного анализа". (131) Они - отражение природы, "переживание ее таинственных энергий в нас самих", и отражаются они из бессознательного. В сфере неслышимого - излучение могучих изначальных процессов. И в них - "первозданная мощь всей гармонии".(132)
"Ритм оказывается категорией художественного смыслооб-разования" при определенном "интонировании и акцентировании" какого-либо выразительного элемента.(133) Бунин у Катаева говорит о "не столько логическом, сколько музыкальном построении художественной прозы с переменами ритма, с вариациями, перехо-
дами одного музыкального ключа в другой".(134) Леви-Стросс пишет, что музыка и мифы затрагивают в слушателях общие для всех ментальные структуры, ссылаясь при этом на замечание Бодлера о том, что "хотя каждый слушатель воспринимает музыкальное произведение в только ему одному свойственной манере, установлено, что музыка вызывает сходные мысли в разных головах".(135) И это тоже свидетельство общности, ведь у всех людей - сходный, близкий ритм биения сердца, ритм дыхания. И верно организованный ритм текста втягивает физиологические ритмы читателя или слушателя, стремясь к унисону в своем воздействии: "Ритмы могут выступать в роли миметических ориентиров, которые обладают сходным ритмом, протекают в аналогичном темпе и заставляют человека не только учащать или замедлять дыхание, но и переживать аналогичные ощущения".(136) Онтологический ритм, передающий некие высшие знания об Универсуме через ощущения Бытия, наглядно можно увидеть в живописи, например, Винсента Ван-Гога. Ритмика волнистых линий в его поздних картинах, волнистых контуров церкви, домишек вызывает определенное психическое состояние, цвет же, обретающий в его творениях символическое значение, вызывает дополнительные ощущения - осязател-ные, такие как ощущения холода, зноя или гладкости, и слуховые: желтый цвет вызывает ощущение звучания высокого тона. Кандинский уверен, что "передать Божественное" можно, пользуясь "исключительно живописными средствами - красой и формой".(137) То же он находит и в пользовании словом. Слово, как и краска и форма первоначально нейтрально, но "когда его слышишь, возникает абстрактное представление, дематериализованный предмет, который сразу вызывает в сердце вибрацию. Это
чистое "звучание" мы слышим, может быть, бессознательно. Слово у Метерлинка, рассуждает Кандинский, на первый взгляд нейтральное, звучит зловеще. Обыкновенное, простое слово, например, волосы, при верно почувствованном применении, может вызвать атмосферу безнадежности, отчаяния. Слово имеет, таким образом, заключает он, два значения, первое - прямое, и второе -внутреннее, являющееся чистым материалом поэзии и литературы. Эдгар По, по мысли Кандинского, одним из первых обращается к внутреннему значению слова. И в музыке находит Кандинский движение от "материального к абстрактному". Вагнер точно подбирает мотив, соответствующий вибрации героя и через это, а не ак-сесуары, характеризует его. Моцарт, считал Федоров А.А., свое философское представление о пороке передает следующим образом. Когда его герои в "Женитьбе Фигаро" пытаются обмануть графа Альмавиву, они начинают петь в унисон, тогда как у каждого из них есть своя яркая музыкальная партия. Этим унисоном Моцарт выражает мысль о том, что порок однолик, он одновариантен, все лгущие люди - одинаковы, "поют одним голосом", тогда как добро, индивидуальность - многовариантны. И в эволюционном движении порок, в силу своей ограниченности, обречен, он не сможет конкурировать с многообразием позитивного.
С ритмом тесно связана композиция. Она сама во многом организует ритм, она может создавать ощущение гармонии или дисгармонии, соответствующие самоощущению автора в мире. Симметрия или ассимметрия, тектоническое или атектоническое построение, свободная или жесткая связь между частями, цифровое количество глав, применение контраста для формообразующего построения, форма кольца, фрагмента, - все это способствует
формированию основополагающих характеристик, творимого автором универсума, его закрытости или распахнутости, равновесия, устойчивости или сложной балансировки и падения, устремленности эволюции вверх или кружения по замкнутой линии.
Анализ Карасева Л.В. финитных или инфинитных произведений, темы отъезда в творчестве Гоголя показывает возможность нового подхода к сюжету с онтологических позиций. Сюжет долго имел самодавлеющее значение и по принципу от обратного перестал привлекать внимание, чему способствовала и новая литературная практика, где сюжет играет все меньшую роль. Но справедливо мнение Питера Брукса, который пишет: "Сюжет должен быть контуром или арматурой рассказа, на котором держится и строится все остальное".(138) Сюжет и художественное целое произведения - нераздельное единство, когда оно - истинное искусство. Ван-Гог писал брату: "Когда манера изображения находится в полном стилевом соответствии с изображаемым предметом, это и есть то, что создает произведение искусства". В таком случае творение художника, будь то Шекспир или Рембрант, становится "слегка приоткрытой дверью в сверхчеловеческую бесконечность, кажущуюся тем не менее такой естественной".(139)
В разные времена встречается понимание произведения ис-куства как некоего подобия живому организму. Как любое творение природы, дерево или человек, произведение искусства обладает цельностью, завершенностью, единством, обладает сверхсложностью и сверхпростотой великого, универсума, который оно и позволяет понять, и которым оно становится. Бенедетто Кроче сказал об этом так: "художественное изображение - это отражение космоса. Каждая часть его пульсирует жизнью целого и целое
заключается в жизни каждой частицы. Правдивое художественное изображение - это образ и в то же время - вселенная, вселенная как индивидуальная форма, и индивидуальная форма как вселенная". Кассирер писал: "Произведение искусства есть единственное, уникальное, независимое, замкнутое в себе самом нечто. Оно само рисует новое целое - образ и духовный космос новой реальности. Индивидуальное не указывает на статическое, абстрактное, универсальное, существующее вне его, оно само есть это универсальное, так как вбирает в себя его субстанцию и суть символически".(140)
Чтобы создать такую новую реальность, художнику вовсе не требуется показать все, что само по себе невозможно", а надо "привести нас в такое настроение, при котором мы готовы все объять взором", - утверждал В.Гумбольт. "Пусть поэт перенесет нас за пределы действительности, и мы очутимся в области, где каждая точка есть центр целого, и, следовательно, целое беспредельно и бесконечно. Дух, на который художник подействовал таким образом, всегда склонен с какого бы предмета ни начал, обходить весь круг сродных с этим предметом явлений и собирать их в один целый мир".(141)
Собрать явления в один целый мир, нарисовать новое целое, приоткрыть дверь в сверхчеловеческую бесконечность можно лишь при условии холизма, сведения в единство смыслового плана, образного плана, стилистического, от лексики до синтаксиса, от ритма до знака препинания. Тогда возникает литературное произведение, в котором "каждый и макроэлемент, и микроэлемент несет на себе отпечаток того неповторимого художественного мира, частицей которого он является".(142) И любая "клеточка"
этого единого организма несет информацию обо всем организме, а структура художественного мира "просвечивает" и в лексике, и в синтаксисе, и в фонетике".(143) Улавливая мировую гармонию, проникая в нее, овладевая ею, художник творит свою гармонию, которая, подобно земной песчинке, хранящей в себе всю информацию о Земле, содержит в себе галограмму гармонии универсума, представляет ее. Александр Блок писал: "Гармония есть согласие мировых сил, порядок мировой жизни. Порядок - космос, в противоположность беспорядку, хаосу. Из хаоса рождается космос... Мировая жизнь состоит в непрестанном созидании новых видов, новых пород... Нельзя сопротивляться могуществу гармонии, внесенной в мир поэтом.
На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком, на глубинах, не доступных для государства и общества, созданных цивилизаций, - катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения".
Улавливая эти волны, художник творит Красоту. Красота на Земле - отблеск мировой Гармонии. Она позволяет человеку приблизиться к гармонии и познать Любовь. Только через Красоту художник может запечатлеть Познанное.
Литературе США, на материале которой осуществляется решение главной задачи исследования, вариант сознания, видящий мир как гигантскую символическую картину, отражающую закономерности инобытия, общий в своих главных моментах для литератур разных времен и народов, присущ органически, изначально. Ведь именно такое понимание мира было свойственно отцам-пилигримам.
Пуритане самые обыденные, повседневные действия и события понимали как знаки высшего и делали выводы о нем через наблюдения за будничным. Основать ни много ни мало как новый мир, новую веру, новую систему взаимоотношений с Богом, - такую задачу ставили перед собой пуритане, воспринимавшие себя отборным зерном целой нации, перенесенным Господом на новую почву. Это повлияло на формирование ведущей идеологии США. А. Токвилль писал: "Культуру Новой Англии можно сравнить с костром, зажженым на вершине холма, который дав тепло окружающим, все еще окрашивает своим заревом далекий горизонт".(144) Пуританское символическое мировосприятие,исконное и основополагающее, во многом определило и тип художественного сознания, функционирующий непрерывно от ранней пуританской поэзии до сегодняшних дней. Многие американские писатели "соотносили с пуританской картиной мира творимую ими художественную реальность",(145) парадигмы пуританского сознания способствовали развитию одной из важных линий в литературе США. С другой стороны, исследователи видят в концептуальном коде пуританства многое, что роднит его со средневековьем и барокко. Это панзнаковый подход к реальности, когда реальность преисполнена знаков, символов и обладает почти сплошной семиотичностью; верное понимание и использование многозначного слова, как единственный путь к познанию; использование сложных развернутых рядов многоуровневых метафор; восприятие мира как осмысленного сообщения, требующего расшифровки; обращение к цитации как важнейшему способу структурирования и прочитывания действительности; метафорическое раскрытие значения собственного имени персонажа.(146) Блистательно анализируя пуританскую "картину мира", А.А.Долинин пи-
шет: "Стремление ново-английских пуритан к символическому постижению мира сближает созданную ими культуру не только с культурой средневековья, но и с современной им общеевропейской литературой барокко". И М.М.Коренева находит в пуританской поэзии "возврат к более древним средневековым структурам", а в своеобразном "соотношении абстрактного и реального" улавливает сходство с поэтикой барокко.(147) Именно этот ряд - готика, барокко, романтизм, получающий название "вторичные стили" у Д.С.Лихачева или "панзнаковых" систем у Ю.Лотмана, имеет в своей основе интересующий нас тип художественного сознания. И Ф.Ф.Федоров выделяет два типа художественного мышления, укладывающиеся в два образования: с одной стороны, античность-ренессанс-классицизм; с другой стороны, средневековое искусство-барокко-романтизм. На осознанный уровень, на уровень художественного сознания данная тенденция переходит, начиная с романтизма, и получает свою блестящую реализацию в произведениях Э.По, Г.Мелвилла, Н.Готерна, Р.У.Эмерсона, Г.Торо, Э.Дикинсон, У.Уитмена. Возможно, что романтизм достигает поразительных высот в США и потому, что его установления были восприняты как органичные, умножились, усилились, соединившись с национальной традицией.
Яркий пример этого - творчество Натаниэля Готорна. Готорн верит, что высшая реальность отражается в земном. Эстетическим эквивалентом представлений писателя о множественности уровней, образующих мир, о "звеньях великой цепи, связующих человечество с божественным", о их взаимопроникновении, возможности воплощения одного в другом, служат символы зеркала, света и тени. Готорн писал, что творит художник, мчась по краю, пребывая на
границе между сознанием и бессознательным, и территория ромэн-са для Готорна - "нейтральная территория между реальным миром и страной чудес". И художник пытается как бы застыть на границе двух миров, земного и небесного, и в одном взгляде зафиксировать оба. Для него сфера повседневного бытия не отделена от "сферы духа, они связаны единством стоящей за ними надмирной и надличной высшей идеи", - как справедливо считает М.М.Коренева. И Готорн стремится воплотить "истину, которую он открывает, осмысляя единичное явление, ситуацию, судьбу в свете универсальных категорий".(148) Зеркало, которое Готорн называл "своего рода окном или дверью в духовный мир", было "фаворит-ной фигурой не только для Готорна, но и, как сказал Эмерсон, для эпохи". (149) Зеркало позволяет увидеть историческое прошлое, когда в нем вдруг оживают давние отражения. Зеркало показывает скрытую внутреннюю сущность, позволяя отличить человека от чучела. В нем появляются призраки, витающие рядом с людьми, иные миры. В "Алой букве" множество зеркал: глаза Перл, отполированный нагрудник доспехов, зеркало у Димсдейла, зеркало уходящего момента, зеркало ручья. Зеркало ручья высвечивает особость Перл, подчеркивает ее одухотворенность, призрачность и неосязаемость. Но кроме того зеркало способно множить. Перл стоит на берегу ручья, "а в глубине ручья стоит другая девочка". Начищенный нагрудник доспехов превращает Эстер в алую букву, увеличенную до гигантских размеров. И алых букв - несколько. Алая буква, вышитая на платье Эстер, алая буква выжже-ная в ее сердце, появившаяся на груди Димсдейла, алая буква зеркального отражения, огромная алая буква, появившаяся на небе. Не одна, а четыре бабочки присутствуют в новелле "Мастер
Красоты". Реальная бабочка, механическая бабочка, бабочка -идея художника, идеальная бабочка.(150)
Готорн обожал готическую архитектуру, говорящую "о таинствах неба и чудесах земли".(151) К эффекту игры со светотенью, столь виртуозно применявшимся древними мастерами, часто прибегает и Готорн, передавая с ее помощью философские представления. Зеркала, тени, мерцания, отражения, умножение образа-символа являются у Готорна художественным выражением идеи о структуре мира, о типе связи ее составляющих. Он писал об отражениях: "Деревья отражаются в реке; они не сознают духовный мир, находящийся так близко от них. Так и мы".(152)
В символической системе Готорна важную семантическую роль играют символы иероглифа, огня, воды, сердца, пещеры. Особое место занимают мифологемы леса и сада. С помощью мифологемы сада, традиционной и органичной для пуританства, как и в целом для христианства, Готорн передает свои идеи об обществе, цивилизации, путях и возможностях из развития. От сада губернатора в романе "Алая буква" осталось одно название. Сад превращен в огород; кочаны капусты и огромная тыква заполняют его пространство. Цветы здесь так же редки, как и личности, подобные Эстер и Перл в пуританском ново-английском поселении. Но грозит человечеству еще более страшный сад - сад Раппаччини, где все естественно-природное превращено "стараниями" человека, ученого, в ядовитое, несущее смерть. Осмысляя путь цивилизации, прогресса, истории, Готорн создает ощущение социума, его установлений и воздействия на личность и делает вывод от том, что общественные установления обрекают человека на невозможность совершенного способа существования, показывает социум,
где все носят лицемерные маски благообразия и благочестия, а за ними скрывают страшные пороки. И все же вновь и вновь ищет Готорн архетипы должного бытия, верный путь, который бы позволил быть "непадшим в падшем мире",(153) путь, подчиненный идее красоты, свободы и совершенства. Пройти такой путь, по Роторну, необыкновенно сложно и часто невозможно. Внешнее давление мира соединяется с внутренним давлением самой природы человека, отмеченной первородным грехом. Общество - не толпа, а совокупность индивидов, и как оно может быть не пораженным, если каждый - поражен. Как спастись? Чтобы ответить на этот вопрос, Готорн обращается к "нравственной живописи", позволяющей постигнуть "запредельное сознание", делает предметом своего исследования и изображения "всю глубинную загадку человеческой души и человеческого сознания".(154)
Именно творение художника может соединить в себе земное и небесное , реальное и идеальное, как деревянная статуя Драуна "идеальна, как античная статуя", и в то же время "реальна, как любая прелестная женщина, которую мы встречаем на улице".(155) Постигая конкретное, бытовое, социальное, историческое, Готорн прибегает к абстракциям, а чтобы понять невидимое, он тщательно вглядывается в земное. "Видимое осмысляется невидимым, невидимое - видимым".(156) Результат этого - нечто третье.
Художественное воплощение, решение "философских, социальных, этических, эстетических вопросов, над которыми билась Америка его времени", Готорн осуществляет с помощью фантастики, символики, аллегории, мифологем, цвета, пространства. В отличие от него, Р.У.Эмерсон и Г.Торо, которые, как и Готорн, проявляли "интерес к двум главным формам взаимоотношений: Че-
ловека к Богу и Человека к Человеку",(157) писали в ином ключе. Произведения Эмерсона и Торо - одна из прекраснейших составляющих непрерывной традиции постановки и решения сложнейших онтологических проблем в литературе США. Но им присущи иные варианты художественного решения, нежели интересующая нас линия. А вот творчество Марка Твена рубежа веков очень близко к ней. В поздних своих произведениях Твен приходит к "планетарной" тематике: место человека в мироздании, структура вселенной, закономерности человеческой судьбы, истории и цивилизации. И решает он ее, обращаясь к фантастике и гротеску, пространственно-временным смещением, иносказанию, абстрагированию. Свои философские идеи Твен реализует через сюжетные ходы, все изображаемое подчинено действию законов сверхъестественного. Цепная рекция пересоздания действительности приводит к образованию фантастического мира, который как бы суммирует представление о закономерностях бытия в целом. Фантастика применяется Твеном на разных уровнях - сюжета, образа, пространственно-временного фона, но во всех случаях она не самоцель, а прием, раскрывающий глубинный смысл событий. Семантические функции фантастики у Твена многообразны. С ее помощью он находит "видимую одежду" для размышлений над абстрактными проблемами бытия. Фантастические перемещения - в средневековье, в потусторонний мир - служат развенчанию ложных идеалов. Преобразование пространственно-временных связей позволяют Твену вырваться за пределы земных представлений и воплотить в художественных образах свои идеи о космической модели вселенной. Фантастика обнажает и самую сущность человеческого поведения, скрытую в обыденных обстоятельствах, и позволяет описать сложную струк-
туру человеческой психики, загадки которой особо привлекали Твена, ощущавшего, что "мы имеем духовное Я, которое может отделяться и самостоятельно перемещаться".(158)
Философская устремленность фантастики Твена проявляется в самом ее характере, открытом, нарочито подчеркнутом, игровом. Сочетание фантастики и реальности, двух противоположных планов, пересечение несмыкаемых в природе рядов придает творчеству Твена гротесковую направленность.
Благодаря фантастике Твен особо интересно работает с категориями пространства и времени. С ее помощью сценой в произведениях последнего периода Твен делает бесконечность и вечность, ведь для демонстрации универсальности выведенных законов Твену необходимо было создать модель мира без исторической и географической определенности. Достигается это с помощью различных приемов. Нередко, чтобы показать историю как легко обозримое единство, Твен прибегает к стягиванию в одной точке разных исторических эпох. Стягивание может достигаться на уровне сюжета (встреча веков в "Янки при дворе короля Артура"), за счет фантастического пересечения в одном временном плане атрибутов разных эпох, сближение разных эпох при помощи сопоставления аналогичных явлений, через введение специфической лексики, обнаруживающей особое мышление. Твен демонстрирует относительность земного времяисчисления и восприятие его как однонаправленного в рамках мирового времени. Космическая точка зрения, перемещение рассказчика в центр метагалактики позволяют Твену передать свое представление о крупномасштабной структуре вселенной. К тому же это позволяет освободиться от близкой и четкой действительности и в неконтролируемом удале-
нии поставить мысленный опыт, сконструировать некое идейное построение.
Место действия часто условно: рай, инопланетный и земной, куда попадает капитан Стормфилд, Эдем с живущими там Адамом и Евой; мир короля Артура, внепространственный мир этического идеала; маленький кусочек земли в горах средневековой Австрии, становящийся точкой вне времени и пространства из-за предельной изолированности от внешнего мира, которая неоднократно подчеркивается Твеном. Так писатель проверяет на прочность самые стойкие идеальные миры, существующие в сознании человечества.
Проза Готорна и Твена - два ярких примера использования условно-фантастических форм, аллегории, символа для создания собственного художественного универсума.
Особая философская насыщенность, обращение к иносказанию для формулирования "несказанного", трудно поддающегося формулировке, проецирование сегодняшнего на вечность присущи многим произведениям литературы США 20 века. Это произведения таких разных писателей, как Торнтон Уайлдер, Томас Вулф, Курт Воннегут.
Из всего многообразия, богатства литературы США для подробного анализа нами выбраны произведения трех писателей -Эдгара По, Германа Мелвилла и Джона Гарднера. В центре - три их произведения: "Приключения Артура Гордона Пима", "Моби-Дик или Белый Кит", "Королевский гамбит".
"Чтобы различить, где Истина, необходимо огромное морское пространство"- писал Мелвилл. (159). Видимо, поэтому, все три гения, о которых здесь идет речь, избрали для своих произведе-
ний, в сгущенном виде представляющих поиски Истины и приближение к ней, огромное морское пространство. "Приключения Артура Гордона Пима", "Моби-Дик" и " Королевский гамбит" основаны на одной модели - плавание коробля по океану. Цель плавания - таинственна, непостижима, недостижима - загадочные острова, то появляющиеся, то исчезающие, не менее загадочные сверхсущества, обитатели океанических глубин, главный из которых - Белый Кит.
Плавание корабля - традиционная символическая модель, идущая из глубины веков и работающая на протяжении всего времени. В различных стилях и эпохах. Подобная устойчивость свидетельствует о ее семантической емкости, универсальной значимости, архетипическом начале, присущем ей. И для воплощения сложных онтологических проблем подобная знаковая система - корабль, плавание, океан - оказывается подходящим языком. Соотношение, соположение микро и макро структур, взаимоотношение низшего и высшего, человек, его включенность в социум, планету, мир, - все это легко формулируется через символ коробля и океана.
Корабль и океан связывает плавание. Путь, странствие -еще одна устойчивая модель, с помощью которой легко оформить идею о духовном прозрении, избавлении от невежества. Не случайно и традиционная метафора - " духовное восхождение" - согласуется, ассациируется с пространственным перемещением. Но любой путь имеет и свою качественную наполненность. Он может быть профакным - из жажды приключении и удовольствий, и сакральным, один из вариантов такого пути - паломничество. В последнем перемещение по горизонтали в физическом пространстве,
сопровождается движением по вертикали в нравственном пространстве.
Корабль , плавание, океан - пример некоего первосимвола, который, в силу своей широкой смысловой валентности, способен вступать в разные отношения с другими символами и семиотическими рядами. И результат этих отношений - возникновение уже специфических смысловых единств, хотя основа у них одна - плавание коробля. Так, По, Мелвилл и Горднер, используя" огромное морское протранство", творят многомерное смысловое пространство, каждый - свое, каждый свою вселенную. Но создавая свою вселенную, все трое используют систему средств, важнейшими составляющими которой являются: миф, символ, гротеск, аллегория; время/пространство, сюжет, композиция, стиль, интертекст, имя, цвет, нумерология, пейзаж, ритм, точка зрения, метафо-ризм, фантастическое, игровое.
Естественно, что каждый из трех гениев использует эти составляющие по-своему, делая что-то одно доминантой: у По -это символ, у Мелвилла - миф, у Гарднера - игра. И все же поражает сходство основы, каркаса, основных философских выводов, общей системы, даже с учетом того, что "Королевский гамбит" -"вариации на темы мистера По и мистера Мелвилла", по определению самого Гарднера. Это символика корабля, плавания, океана; символика белого и черного со сходным философским осмыслением, символ иероглифа, мира как книги, символика имен, (и удивительное совпадение имени Дик для обозначения темной половины, Моби - Дик, и Дик Петере, которого многие рассматривают как низшее "я" Пима, его темного двойника), цифровая символика, сочетание патетики и пародии, мифологемия круга, символ доли-
ны, интертекстуальная и культурологичекая насыщенность.
Эдгар По, Герман Мелвилл и Джон Гарднер выполняют задачу, которую ставил перед художником Ф.Шеллинг. Они превращают в нечто целое открывшуюся им часть мира и из его материала создают собственную мифологию. Обратимся же к поэтике их творений, позволяющей им осуществить столь высокую миссию. Обратимся, помня слова Карла Юнга: "Великое произведение искусства подобно сновидению, которое при всей своей наглядности не истолковывает себя само и никогда не имеет однозначного толкования". Осмелимся дать свое истолкование, предлагая его как один из возможных вариантов, возможных до бесконечности, помня на этот раз положение М.М.Бахтина о том, что структура символа так же бесконечна, как и структура атома.
"Приключения Артура Гордона Пима"
Долину человек может превратить в совершенство, подобное долине Ландора и Эллисона, тогда она - волшебный круг. Долину люди могут превратить в поселение Школькофремени, - тогда она - заколдованный круг, из которого нет выхода. Третья Долина, присутствующая как фон во многих новеллах По - Долина Элизиум (может, не случайно звуковое сочетание Elysium-Ellison) место обитания душ. Значит, земля - нейтральна, ее пространство это место, которое можно превратить и в рай, и в ад. Создать идеальный ландшафт своего универсума По позволяет присущее ему чувство Прекрасного: "Красота, которую я обожаю, - писал он, - красота природного голубого неба и солнцем оси янной земли". В онтологической поэтике цвет играет одну из главных ролей. Обратимся к "Приключениям Артура Гордона Пима" для анализа данного феномена. Хорхе Луис Борхес писал, что в этой "книге два сюжета: один, непосредственный, отдан морским приключениям, другой, неотвратимый, скрытый, нарастающий, проясняется только в конце". Борхес полагает, что "тайный двигатель романа - чувство омерзения и страха перед всем белым", и что все де тали подчинены упомянутому тайному сюжету. Вряд ли все так од нозначно, но значимость цвета в "Приключениях Артура Гордона Пима", действительно, трудно переоценить. Великий шифровальщик в этом произведении, видимо, опасаясь, что его шифровка может быть просто незамечена, в конце дает ключ к тайному шифру и тайному сюжету.
В послании издате ля он дешифрует странные рисунки, приводимые в записях Артура Гордона Пима, изображающие план шахт, наскальные надписи. Все пять рисунков "образуют эфиопский глагольный корень, означающий "быть темным"; отсюда происходят слова, означающие тьму или черноту". Верхний ряд наскальных знаков "представляет собой арабский глагольный корень, означающий "быть белым", и отсюда слова, означающие яркость и белизну. Нижний ряд, нет сомнений, в первоначальном состоянии, образовывал древнеегипетское слово - "область юга". И далее "издатель" разъясняет: "Эти предварительные выводы открывают широкое поле для размышлений и увлекательных догадок. Их можно, видимо, строить в связи с некоторыми, наиболее обстоятельно изложенными деталями повествования, хотя на первый взгляд они отнюдь не являют некой единой цепи. "Теке-ли-ли!" - кричали перепуганные дикари при виде белого животного, подобранного в море. Таков же был испуганный вопль пленного островитянина, когда мистер Пим вытащил из кармана белый платок. Так же кричали огромные белые птицы, стремительно несущиеся из парообразной белой пелены на юге. Ни на острове Тсалал, ни во время последующего путешествия к полюсу не было обнаружено ничего "белого". Не исключено, что скрупулезный лингвистический анализ вскроет связь между самим названием острова "Тсалал" и загадочными пропастями и таинственными надписями на их стенах".(50) Эти "предварительные выводы" не раз продолжались другими, помимо "издателя", энтузиастами. В "Пиме" три цвета: главные - белый и черный, третий красный, который По связал с кровью. Эти три цвета являются основными для многих народов Африки, Австралии, Северо-амери-канских индейцев. В "Упанишидах"говорится, что эти три цвета -единственно истинное в мире. Их расшифровка такая: белое - бытие, красное - энергия, черное - темнота; белое - чистота и безмятежность, красное - активность, черное - сдавленность. Все переходит из одного в другое.(51) Магия трех этих цветов завораживала и другого великого американца, Германа Мелвилла, посвятившего не одну страницу рассуждениям о них. И для него, как и для По, черное и белое - не только инструмент осмысления и передачи философских проблем, но и социальных установлений, рабства, расовых трагедий, создающих ужас предощущения войны. Для нас же особо важно онтологическое начало цветовой символики По.
"Эврика"
Истина и Красота, Красота и Истина. Одно без другого в творчестве По не существует. "Эврика" - космогоническая структура, основанная на эстетических принципах",(82) а эстетика По основана на философии монизма.
По имел право назвать ее Книгой Истин. В "Эврике" много открытий, связанных с естественными науками. Ученые двадцатого века, которым "Эврика" была дана для оценки с научной точки зрения, пришли к выводу о постэйнштейновском мировидении Эдгара По.
Эдгар По показывает, что наши критерии времени, пространства и скорости не позволяют понять многое. Чтобы изменить ситуцию, необходимо изменить точку зрения. Она должна быть как стержень, вокруг которого вращается человек, а не взирает не-повижно в одном направлении: "Мы нуждаемся в таком быстром вращении всего вокруг центральной точки зрения, что, в то время, как мельчайшие подробности исчезнут совершенно, даже и более значительные предметы сливаются в одно. Земля рассматривалась бы только в ее планетарных отношениях. Человек в таком огляде становится человечеством, человечество - членом мировой семьи разумов". Скорость вращения позволит увидеть глобальное - это положение не бессмыслица, и оно не только образное выражение. Подтвердить это можно от обратного. Сегодня в науке говорят о видимости или невидимости системы в зависимости от скорости ее вращения. Самый простой пример - лопасти вентилятора. Когда вентилятор медленно их вращает - они видны, при ускорении, сливаясь в одно, они становятся не видны. И если рядом с нами находятся системы, имеющие совсем иную ритмику движения, мы их не будем видеть.
Каким образом, неизвестно, но По добился вращательной точки зрения. Во всяком случае он добился предоставляемого ею результата. В "Эврике" все глобально и близко к данным современной науки. Например, нашу галактику По описывает как спиралевидную, с ядром в центре, вокруг которого вращаются и наша солнечная система, и Альфа Лиры, как планеты вращаются вокруг солнца; для объяснения ее формы, он приводит пример планеты Сатурн, в его же время было принято считать, что галактика наша напоминает по форме букву Y. Ошибку своих современников По объясняет тем, что у человека на Земле ограниченная перспектива, он находится внутри, и взгляд извне ему не дан. Увидеть в перспективе, находясь на Земле, человек может с помощью интуиции, озарения, познания душой. По называет это "взглядом внутрь", при научном подходе мы всматриваемся во вне, а при интуитивном - вовнутрь. По пишет, что многие не доверяют этому методу, называя его гаданием: "Среди разряда философов, которые гордятся чрезмерно положительностями, слишком общепринято посмеиваться над всяким умозрением, давая ему всеобъемлющую кличку "гадание". Главное дело в том, кто гадает. Гадая с Пла тоном, мы тратим время с большей целесообразностью, нежели прислушиваясь к доказательством Алкмэона".(83)
Еще один вывод По - об изменениях на Земле в связи с изменениями влияния Солнца на Землю. Он объясняет, что планеты образуются из сгустков вещества, выбрасываемых Солнцем. Вихревое их движение приводит к тому, что в центре атомы движутся медленнее, чем по краям. И происходит сгущение вещества, его уплотнение. По мере затвердения Земли на ее поверхности возникают разные племена. Образование еще одной планеты, более внутренней, чем Меркурий, приведет "к новому изменению земной поверхности - изменению, из которого возрастет племя, двояко, вещественно и духовно, высшее, чем человек". Есть ученые, которые рисуют аналогичную картину. Планеты, как в зародыше воз-никающие из Солнца, медленно удаляются от него. По мере удаления уплотняются, появляется вода. А затем, после выхода из определенной зоны, начинается уход воды, разуплотнение и увеличение в размерах. Модель вселенной, созданная По, - это модель пульсирующей вселенной. Из некоей точки начинается разбегание, в какой-то момент оно завершается, и идет обратный процесс -возвращение в исходное состояние. И так повторяется не однажды. Здесь прочитывается не только последняя модель вселенной, предложенная современной наукой - пульсирующей вселенной, но и теория большого взрыва.
"Писец Бартльби"
"Писец Бартльби" Мелвилла получает название загадочной, мучительно загадочной повести. Почему? Видимо из-за своей внешней простоты и ощущаемого под ней огромного подводного течения. История писца! Что может быть прозаичнее? Да еще, если она рассказывается ничем не примечательным среднестатистичным винтиком скучной-прескучной законодательной машины - юриспруденции. Да еще, если в ней ничего особенного не происходит. Просто владелец конторы вдруг обнаруживает, что его недавно нанятый писец, человек с виду положительный, никуда не уходит после службы, а остается здесь же в комнате, за ширмой. Вскоре Бартльби, так его зовут, перестает писать из-за болезни глаз , и, не зная как избавиться от этого странного человека, владелец снимает новое помещение и переводит контору туда. А писца Бартльби помещает в Гробницу, нью-йоркскую тюрьму, где он вскоре и умирает.
Стало общим место сравнивать "Писца Бартльби" с "Шинелью" Гоголя. И это правомерно. Сюжет "Шинели" тоже чрезвычайно прост. Маленький робкий чиновник заказывает шинель. Для него это - поступок. И пока шинель шьют, она превращается в мечту его жизни. Но в первый же вечер, когда он ее надевает, воры на темной улице крадут шинель. Чиновник умирает от горя, и его приведение бродит по городу в поисках шинели.
Можно и так, лишь фабульно, читать "Шинель", "но водолаз, искатель черного жемчуга, тот, кто предпочитает чудовищ морских глубин зонтикам на пляже, найдет в "Шинели" тени, сцепляющие нашу форму бытия с другими формами и состояниями, которые мы смутно ощущаем в редкие минуты сверхсознательного восприятия". (1) Автор "Писца Бартльби" всегда предпочитал чудовищ морских глубин и только так надо читать и его произведение. Здесь, как и у Гоголя, происходит "смещение" рациональной плоскости при внешнем ее сохранении. И это "смещение" открывет у ног бездну, заглянув в которую, приходишь в ужас от собственного убожества, идиотизма этого мира, его жестокости, глубинной безнравственности, искареженной системы лжеценностей. С убийственной явственностью начинаешь понимать, что "люди просто тихо помешенные", они стремятся к цели, которая кажется им очень важной, в то время, как абсурдно-логическая сила удерживает их за никому не нужными занятиями. "В мире тщеты, тщетного смирения и тщетного господства высшая степень того, чего могут достичь страсть, желание, творческий импульс - это новая шинель, перед которой преклонят колени и портные, и заказчики". (2)
Шинель и контора - явления одного порядка. Также нелепо мечтать о конторе, видеть во владении ею цель своей жизни. А уж предавать ради обладания конторой Человека, обрекая его на гибель, и более того, предавать Человека в себе - не страшно ли это? Именно так поступает рассказчик, а ведь он вовсе не злодей, он даже лучше многих окружающих. Сам себя он считает осмотрительным, методичным, готовым сотворить добро, если, правда, это не связано с материальными расходами. И долгое время читатель так и воспринимает его, пусть ограниченным, но не злым малым. Подобного эффекта Мелвилл добивается за счет использования разнонаправленного сказа. Рассказчик исповедует одни принципы, автор - иные. Но голос автора .кажется, отсутствует, слово предоставлено только рассказчику (за исключением последней страницы). Этим Мелвилл добивается двойного эффекта.
Слушая историю взаимоотношений рассказчика и Бартльби в изложении первого, мы с самого начала попадаем под его влияние, с его позиций оцениваем происходящее и незаметно для себя тоже начинаем возмущаться поведением писца и даже хотим, чтобы его поставили в какие-то границы Нормы. И когда вдруг видишь, как Бартльби, поджав колени, скрючившись, головой касаясь холодного камня, бледный, исхудавший лежит на тюремном дворе, и слышишь финальное восклицание автора: " 0, Бартльби! О, люди!" -испытываешь обжигающее чувство стыда и сострадания, осознания того, что ты ничуть не лучше любого обывателя, который спешит убрать с глаз долой, выбросить, задвинуть все, что будоражит, нервирует, не укладывается в привычные рамки так называемой благопристойности. Повесть Мелвилла оказывает очищающее воздействие на душу за счет пробуждения чувства вины и сострадания.
Второй эффект сказовой формы повествования связан с саморазоблачением рассказчика. Он пыжится, он рисуется не только перед слушателями, но перед собой. Прочитав на досуге Эдвардса "О воле" и Пристли "О необходимости", рассказчик "проникается" высоким осознанием предназначения и судьбы: "Да Бартльби, думал я,- оставайся за своими ширмами, я больше не буду тебе досаждать; да что там - я никогда не ощущаю такой тишины, как когда ты здесь. Теперь я хотя бы увидел, почувствоал, постиг, для чего я живу на земле. Я доволен. Пусть другим достался более высокий удел; мое же предназначение в этой жизни, Бартльби, заключается в том, чтобы отвести тебе уголок в конторе на столько времени, сколько ты пожелаешь здесь находиться".(
"В горах самоубийств"
"В некотором царстве, в некотором государстве жил-был карлик,"- начинает свою сказочную повесть "В горах самоу-бийств"Джон Гарднер."Королевский гамбит" Гарднер назвал притчей. В этой повести -притче предтставлен завершенный универсум, ставятся глобальные проблемы бытия .А в сказочной повести Гарднер решает проблему более частного порядка -почему человек хочет покончить с собой и можно ли это желание изменить.В мифе действия героя имеют коллективное и космическое значение,в сказке герой устраивает свою собственную жизнь .Таково ,в целом, и различие "Королевского гамбита" и "В горах самоубийств".
В сказке Гарднера вполне сказочные герои: карлик, сын козы и рыбы-мага, прекрасная Армида, дочь кузнеца, принц Кристофер и воплощение зла Шестипальный. Кроме самой сказочной истории в текст вставлены четыре фольклорные сказки. В фольклорной сказке герой или героиня через женитьбу или замужество меняют свой социальный статус.Здесь всё также заканчивается свадьбой - дочь кузнеца выходит замуж за принца. Всеми презираемый карлик становится премьер -министром, а принц, естественно, королём. А встретились все трое в горах Самоубийств, куда пришли с одной целью, прыгнуть в пропасть и прервать свою земную жизнь. Почему они хотели это сделать и благодаря чему они остались живы и обеспечили сказочный "happy-end"?
Гарднер писал об этой своей вещи: "Я выстроил свою теорию, почему люди кончают самоубийством и что нужно сделать, чтобы помочь им. Я облек эту теорию в форму сказки,... думаю, то, что она говорит о самоубийстве - правда. Это самая серьезная книга, какую я когда-либо писал, хотя она и излагается через шутки и сказки. Все, что я знаю о самоубийстве - в ней". А
Гарднер немало знал о тяге к самоубийству. Он долгое время был мучим ею и говорил : "Когда я думал, что сейчас выйду из дома и покончу с собой, всегда вставала передо мной одна мысль: люди, которые кончают собой, вполне вероятно обрекают своих детей на самоубийство". Что заставляло Гарднера стремиться к смерти- особая закрытая тема, а вот о том, что привело его героев в горы самоубийств, можно поразмышлять.
Первым появляется карлик, Чуду, сын козы. Ему 207 лет. Он живёт в небольшом городке,имеет свой идеал того, каким он должен быть и стремится к этому идеалу. Это прекрасная модель личности, где всё основывается на доброте. Чуду мечтает приносить людям, своим соседям, любому жителю городка радость, помогать им. За всю свою жизнь он ни разу не позволил себе пустить в ход свои колдовские способности, навредить хоть одному человеку. А он мог, мог всё - превратить жителей в кого угодно, сделать так, чтобы поезд потерпел крушение - да мало ли чего ещё. И хотя со стороны людей он видел лишь ничем не обьяснимую, кроме предрассудков, ненависть и брезгливость, он продолжал пытаться проложить дорогу к их сердцам: ставил к дверям наиболее нуждающихся корзинки с продуктами, терпеливо улыбался продавцу бакалейной лавки вместо того, чтобы разнести её, слыша оскорбления и несправедливые обвинения в том, что из-за него прокисло всё вино, выдался неурожай, выросла преступность и т.д. Чуду с трудом удерживал свою растущую ярость и бежал домой. "Сердце его всю дорогу колотилось, а его глаза "наполнялись жгучими слезами, "И только прийдя домой, Чуду давал выход своей ярости, которая действительно была присуща его природе, но которую он считал не согласующейся с принятыми им моральны ми принципами, Он"срывал с головы шляпу и кидал ее на ковер и топал по ней обеими ногами, снова и снова, пока шляпа не молила: "Пощади!"
Со временем ему становилось всё труднее сдерживать себя. Он пытался отвлечься, "читая словарь или пробуя новые рецепты для приготовления блюд из репы, или прогуливаясь туда, где ходят большие поезда". И он думал о том, "какие ужасные дела он мог бы вершить, если бы он был таким существом, каким его представляли жители деревни". Глядя на поезд,он вдруг ловил себя на том, что представляет, как поезд "взрывается и разлетается на тысячи огненных искр, а длинный высокий эстакадный мост рушится с ужасным грохотом". И Чуду охватывало чувство "иррациональной, ревнивой ярости, которое, несомненно, внушало ему трепет, настолько чуждо оно было (говорил он себе) его истинной природе". Он начал думать: "По крайней мере, в потенциале я настолько опасен, насколько утверждают это самые злобные жители деревни". И чтобы не сорваться и однажды не пустить поезд под откос, Чуду решает покончить с собой.