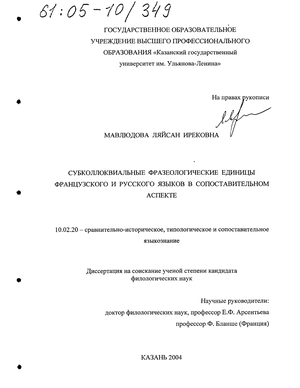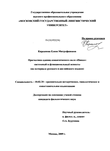Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Характерные особенности стилистически сниженных фразеологических единиц французского и русского языков 11-60
I.1. Изучение сниженных пластов лексики и фразеологии в трудах отечественных и зарубежных лингвистов 11-30
1.2. Функционально-стилистическая и экпрессивно-стилистическая характеристики сниженных фразеологических единиц 30-50
I.3. Демократизация языка и подвижность стилистических границ 50-58
Выводы по первой главе 58-60
Глава II. Семантические особенности субколлоквиальных ФЕ французского и русского языков 61-124
II.1. Тематика субколлоквиальной фразеологии и ее национально-культурные особенности во французском и русском языках 61-93
II.2. Субколлоквиальная синонимия 93-105
II.3. Семный анализ СФЕ тематической группы «Женщина» 105-121
Выводы по второй главе 122-124
Глава III. Межъязыковые соответствия субколлоквиальных фразеологических единиц французского и русского языков 125-173
III.1. Теоретические предпосылки выявления межъязыковых соответствий фразеологических единиц 125-130
III. 2. Факторы межъязыковой фразеологической эквивалентности 130-151
III. 2. 1. Компонентный фактор 131-141
III. 2. 2. Формальный и формально-смысловой факторы 141-144
III. 2. 3. Фактор структурно-грамматической организации ФЕ 144-147
III. 2. 4.Фактор разрядной принадлежности 148
III. 2. 5. Фактор совокупного фразеологического значения 149-151
III. 3. Французско-русские субколлоквиальные фразеологические соответствия 151
III. 3. 1. Фразеологические эквиваленты 152-158
III. 3. 1. 1. Полные эквиваленты 152-154
III. 3. 1.2. Частичные эквиваленты 154-158
III. 3. 2. Фразеологические аналоги 158-166
III. 3. 2. 1. Полные аналоги 158-163
III. 3. 2. 2. Частичные аналоги 163-166
III. 3. 3. Безэквивалентные СФЕ и способы их перевода 166-171
Выводы по третьей главе 171 -173
Заключение 174-176
Библиография 177-194
Словари и справочная литература 194-197
Источники 197-199
- Изучение сниженных пластов лексики и фразеологии в трудах отечественных и зарубежных лингвистов
- Тематика субколлоквиальной фразеологии и ее национально-культурные особенности во французском и русском языках
- Теоретические предпосылки выявления межъязыковых соответствий фразеологических единиц
- Фразеологические эквиваленты
Введение к работе
Сопоставительные исследования в области фразеологии начали привлекать внимание лингвистов сравнительно недавно и представляют собой одно из новых и стремительно развивающихся направлений современной лингвистики. Сопоставительная фразеология изучает языки вне зависимости от их родства с целью выявления общих и дифференциальных признаков на всех языковых уровнях: функциональном, семантическом, формально-смысловом, структурном. Сопоставительный анализ фразеологических фондов отдаленно родственных языков представляет значительный интерес «как для разработки общей теории фразеологии, так и для изучения общих и отличительных признаков исследуемых языков» [Арсентьева 1989:3]. Именно в сопоставлении с другим языком проявляются дифференциальные признаки. Фразеологический фонд любого развитого языка отражает не только специфику структурно-грамматической организации языка, но, что самое главное, куглулирует в своей семантике процесс развития истории и культуры народа, фиксирует и передает от поколения к поколению культурные установки и стереотипы. С этих позиций сопоставительные штудии в области фразеологии представляют интерес не только для общей теории фразеологии, но и для таких дисциплин как лингвокуль-турология, методика преподавания иностранных языков, контрастивная лингвистика, теория перевода.
Среди научных работ, посвященных сопоставительному изучению фразеологии, выделяются работы по теории и практике межъязыковой фразеологической эквивалентности (Райхштейн, Солодухо, Байрамова); работы, посвященные анализу отдельных компонентов фразеологического значения (Пиотровская, Шаховский, Макарова, Молостова); исследования фразеологизмов, объединенных по определенному тематическому признаку (Арсентьева, Алеева, Залялеева, Сафина, Тарасова).
Предметом настоящего диссертационного исследования является сопоставительная характеристика субколлоквиальных фразеологических единиц (СФЕ) и типы их межъязыковых соответствий.
Рабочее определение термина «субколлоквиальные ФЕ» дается в главе I. Это вызвано необходимостью очертить круг рассматриваемых фразеологических единиц (ФЕ). Выбор в качестве объекта исследования субколлоквиальных ФЕ продиктован недостаточной изученностью данного пласта фразеологии в двух сопоставляемых языках.
Под термином фразеологическая единица в данном исследовании понимается «устойчивое сочетание слов с осложненной семантикой, не образующееся по порождающим структурно-семантическим моделям переменных сочетаний» [Кунин 1996:5], В границы фразеологии включены как идиомы - «устойчивые сочетания лексем с полностью или частично переосмысленным значением», так и идиофразеоматизмы, т.е. «устойчивые словосочетания, у первых фразеосемантических вариантов которых компоненты имеют буквальные, но осложненные значения, а у вторых идиоматических вариантов - полностью переосмысленные», фразеоматиз-мы - «фразеологизмы неидиоматического характера, но с осложненным значением» [Там же: 26-27].
В настоящее время российское общество переживает время резкой активизации сниженных единиц языка в современной речи, что связано с переломным этапом в истории нации. Употребление субколлоквиальных фразеологических единиц мы можем отметить как в ткани художественного текста, так и в современном публицистическом тексте: от выступлений политических деятелей до рекламных слоганов, субколлоквиальные ФЕ «льются» обильным потоком с экранов телевизоров и из радиоприемников. Таким образом, лингвист, занимающийся изучением современной фразеологии, не может обойти своим вниманием ее субколлоквиальные единицы, так как они есть объективная реальность современной языковой ситуации.
Учитывая тот факт, что «фразеология покрывает наиболее субъективно значимые фрагменты действительности» [Мокиенко 1999:83], изучение субколлоквиального фразеологического словаря на уровне тематических групп позволяет составить представление о наиболее важных концептуальных доминантах языковой картины мира современного социума, его системы ценностей и особенностей национально-культурного мировосприятия. Тематическая систематизация субколлоквиального материала позволяет также установить как полиэквивалентные межъязыковые фразеологические отношения ФЕ французского и русского языков, так и выделить безэквивалентные СФЕ уже на тематическом уровне, что повышает актуальность и практическую значимость работы.
Целью данной диссертационной работы является выявление сходств и различий субколлоквиальных ФЕ французского и русского языков на функционально-стилистическом, эмоционально-экспрессивном и сигнификативно-денотативном уровнях фразеологического значения.
Задачи исследования. <~
вычленить из фразеологических фондов французского и русского языков субколлоквиальные ФЕ;
дать их функционально-стилистическую и экпрессивно-стилистическую характеристику субколлоквиальных;
выделить основные тематические группы внутри исследуемого субколлоквиального фразеологического корпуса, общие для обоих изучаемых языков и специфические для каждого из них в отдельности;
выявить и сопоставить количественную наполняемость тематических групп субколлоквиальных ФЕ французского и русского языков;
проанализировать факторы формирования межъязыковой фразеологической эквивалентности на материале субколлоквиальных ФЕ;
установить типы межъязыковых фразеологических соответствий субколлоквиальных ФЕ: полные и частичные эквиваленты, полные и частичные аналоги;
выделить группу безэквивалентных субколлоквиальных ФЕ и определить способы их перевода.
Научная новизна.
В работе впервые проводится анализ существующей научной литературы по проблемам субколлоквиальной фразеологии как французских, так и отечественных исследователей. Проведено распределение субколлоквиальной фразеологии по функционально-стилистическим регистрам и выявлено своеобразие наполняемости данных регистров в сопоставляемых языках. Впервые произведено распределение субколлоквиальной фразеологии по тематическим группам и выявлена количественная наполняемость групп и подгрупп. Новизна заключается также в комплексном подходе к исследуемом материалу: субколлоквиальная фразеология французского и русского языков рассматривается на фоне других стилистических регистров, представленных во фразеологии, а также на уровне семантических и тематических групп и, наконец, на уровне фразеологического значения.
Теоретическая значимость работы состоит в систематизации основных категорий социолингвистики, нормативной лексикографии и функциональной стилистики, необходимых для характеристики сниженных ФЕ; в наличии новой информации, подтверждающей присутствие системных закономерностей в сфере субколлоквиальных фразеологических единиц, которые находятся на периферии фразеологического фонда.
Практическая ценность работы определяется возможностью использовать материалы исследования и результаты анализа в практике составления как общих двуязычных фразеологических словарей, так и специальных словарей сниженной фразеологии, а также при подготовке спецкурсов и спецсеминаров по сопоставительной фразеологии, социолингви-
стике, арготологии и, в целом, в практике преподавания французского языка.
Методы исследования. В процессе сопоставительного исследования СФЕ были применены методы фразеологической идентификации и фразеологического анализа А.В. Кунина, дистрибутивный анализ, компонентный (семный) анализ в сочетании с методом словарных дефиниций и контекстным анализом, метод синхронного сопоставления ФЕ, разработанный А.Д. Райхштейном, и метод этимологического анализа. В качестве вспомогательного метода для уточнения информации об употребляемости и стилистической окрашенности ФЕ использовался метод опроса информантов.
Материалы исследования. Фразеологический корпус, являющийся объектом данного диссертационного исследования, был извлечен методом сплошной выборки из одно- и двуязычных фразеологических и специализированных словарей. За основу были приняты Французско-русский фразеологический словарь (под ред. Я.И. Рецкера, 1963), Фразеологический словарь русского литературного языка (Федоров 1997) и Словарь разговорной лексики французского языка (Гринева, Громова 2001). Отобранные из Французско-русского фразеологического словаря ФЕ были проверены по Словарю разговорной лексики французского языка на степень их устарелости. Устаревшие и устаревающие ФЕ как во французском, так и в русском языках не включены в материал исследования. Список ФЕ был значительно расширен за счет ФЕ из словарей: Dictionnaire de Г argot francais et de ses origines (Colin, Mevel, Leclere 2001), Словаря русского арго (Ели-стратов 2000), Большого словаря русского жаргона (Мокиенко, Никитина 2000) и ряда других изданий. Ценные для исследования этимологические сведения были получены из словарей: ФразеологиЗхМЫ в русской речи (Ме-лерович, Мокиенко 1997), Опыт этимологического словаря русской фразеологии (Шанский, Зимин, Филиппов 1987), Dictionnaire des expressions et des locutions (Rey, Chantreau 2002).
Источниками иллюстративного материала послужили художественные произведения французских и русских писателей и поэтов конца XX века, материалы печатной прессы и теле- и радиопередач последних лет. Общее количество отобранных из словарей ФЕ составляет 4 тысячи единиц (примерно по 2 тысячи для каждого языка). Личная картотека примеров насчитывает 621 примеров для русского языка и 415 примеров для французского языка.
Объем и структура диссертации.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии, словарей и источников, списка принятых в работе сокращений.
Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность и новизна, определяются цели, задачи и методы исследования, формулируется его теоретическая и практическая значимость.
В первой главе представлен анализ изучения сниженных пластов лексики и фразеологии во французской и отечественной лингвистике (раздел 1), даются функционально-стилистическая и эмоционально-экспрессивная характеристики и обосновывается термин «субколлокви-альные ФЕ» для определения принятой в данной работе степени сниженное фразеологизмов (раздел 2), а также освещается проблема подвижности стилистических границ в контексте демократизации языков (раздел 3).
Во второй главе рассматривается тематическое распределение изучаемого фразеологического корпуса, определяется количественная наполняемость основных тематических групп, выявляются их общие и специфические характеристики (раздел 1), подвергается изучению вопрос о развитой субколлоквиальной синонимике и освещается ее выражение в исследуемом материале (раздел 2), а также дается пример семного анализа сигнификативно-денотативного компонента фразеологического значения с целью выделения общечеловеческих и национально-культурных черт на материале одной из тематических групп субколлоквиального словаря (раздел 3).
Третья глава содержит краткий обзор теоретических исследований в области межъязыковой фразеологической эквивалентности (раздел 1), здесь также анализируются факторы формирования межъязыковой эквивалентности ФЕ применительно к изучаемому материалу (раздел 2) и дается классификация межъязыковых фразеологических соответствий субколлок-виальных ФЕ французского и русского языков (раздел 3).
В заключении обобщаются выводы, полученные в ходе исследования.
Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры ро-мано-германской филологии Казанского государственного университета, всероссийских научно-практических конференциях - «Межкультурные коммуникации в когнитивном аспекте» (Челябинск, 2001) и «Сопоставительная филология и полилингвизм» (Казань, 2002), «Язык и методика его преподавания» (Казань, 2004), на Первой выездной академической школе для молодых лингвистов-преподавателей вузов РФ (Казань, 2001), международных конференциях - «Бодуэн де Куртенэ и современная лингвистика» (Казань, 2001) и «Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы» (Казань, 2004).
Изучение сниженных пластов лексики и фразеологии в трудах отечественных и зарубежных лингвистов
История изучения стилистически сниженных ФЕ неразрывно связана с исследованием таких явлений, как просторечие, жаргоны и арго. Сниженные лексические и фразеологические единицы какое-то время оставались пасынками отечественной лингвистики.
Можно выделить несколько подходов в истории изучения сниженных, то есть просторечных, жаргонных и арготических образований русского языка. Первый подход определим как нормативно-стилистический. Отношения между просторечием и литературным языком в российском языкознании долгое время носили сложный и противоречивый характер. Ожесточенные споры по поводу стилистического статуса сниженных ненормированных образований продолжались всю первую и начало второй половины двадцатого века. Просторечие определяли как язык лиц, не вполне овладевших литературным языком, и, что немаловажно, стоящих на нижних ступенях социальной лестницы. Здесь нужно указать на экстралингвистические причины, послужившие толчком для собственно лингвистических споров о статусе просторечных образований.
Революция 1917 года, преобразовав до основания структуру общества, расширила круг носителей литературного языка и, как следствие, «обогатила» последний лексикой просторечного и жаргонного содержания: «В годы разрухи и голода слова эти хлынули было в невиданном до сих пор количестве, затем эта волна стабилизировалась и в настоящее время уменьшилась» - писал в 1931 году В.Стратен о блатной лексике [Цит. по: П.В.Лихолитов «Жаргонная речь уличных торговцев» // Русская речь, 1994, №4, C.66J. Все это явилось причиной неизбежной демократизации и ослабления нормативных показателей литературного языка.
Влияние изменений в политической и экономической жизни общества на языковую ситуацию и, в частности, феномен жаргонизации речи в переломные моменты в жизни общества неоднократно обсуждались в российском языкознании [Ларин 1977, Лихачев 1993, Береговская 1996, Грачев 1997, Мокиенко 2000, Саляев 1995].
Таким образом, перед российскими учеными встала объективная задача нормативного регулирования языка. Высказывались абсолютно полярные точки зрения. С одной стороны - пуристические суждения о засорении русского языка, с другой - революционные взгляды на язык люмпен-пролетариата как на «язык будущего» [Елистратов, 1995]. 1918 год ознаменовался созданием Института живого слова, занимавшимся проблемами социальной диалектологии, а финальным этапом формирования нормы стало издание в 1935-1940 гг. «Толкового словаря русского языка» под редакцией профессора Д.Н.Ушакова. Вот как описывает В.А.Саляев историю создания «первого словаря русского языка новой эпохи»: «В условиях слабой разработки теории нормативного членения лексики перед создателями словаря стояла объективная задача оценить (здесь и дальше разрядка наша - Л.М.) новую лексику с нормативной точки зрения, установить системные отношения между языковыми фактами различных функциональных стилей, между литературным языком и просторечием с учетом языковых реалий нового времени, дифференцировать огромный массив лексики, требующей строгой кодификационной оценки» [Саляев 1998:8]. «Оценить», «установить», «дифференцировать» по шкале нормативности/ненормативности - такие цели преследовало российское языкознание в послереволлюционный период.
Входить или не входить просторечию в литературный язык? Если брать за основу определение просторечия как языка социально низких сло ев населения, не владеющих литературным языком, то, возможно, правомерно утверждать о нелитературности просторечия, как это сделал в свое время Ю.А.Скребнев [Скребнев 1975].
Переломный этап в установлении стилистического статуса просторечия приходится на 70-гт. прошлого столетия и связан с именем Ф.П. Филина. В своих работах, опубликованных на страницах журналов «Вопросы языкознания» и «Филологические науки», он выступил в защиту просторечия как необходимого экспрессивного фонда русского языка: «Современный литературный язык не может состоять только из одних нейтральных, стилистически однородных средств выражения, хотя эти средства и составляют его основу. То, что в словарях обозначается как просторечное средство, может быть употреблено в подходящей ситуации любым образованным человеком. Вывести из состава литературного языка функционирующее в нем просторечие означало бы лишить литературный язык средств сниженной речи, обычно несущих высокую эмоционально-оценочную нагрузку» [Филин 1973:7]. Ф.П.Филин продемонстрировал новизну научного подхода, предложив различать два вида просторечия - литературное и внелитературное - и показал разницу между ними, относя к первому «языковые средства (слова, обороты, синтаксические конструкции, грамматические формы, особенности произношения), употребляемые всеми образованными людьми для грубоватого сниженного предмета мысли (своего рода низкий стиль нашего времени)», а ко вторым «элементы речи лиц, не вполне овладевших литературным языком или вовсе малограмотных. К внелитературному просторечию относятся языковые явления всех языковых уровней, которые образованный человек не может употребить ни при каких обстоятельствах (разве что нарочито, подражая малограмотному или передразнивая его)» [Филин 1979:20, 22].
Тематика субколлоквиальной фразеологии и ее национально-культурные особенности во французском и русском языках
Многие исследователи сходятся во мнении, что субколлоквиальная фразеология характеризуется богатством словарного состава при относительной ограниченности покрываемой тематики [Guiraud 1956, Gadet 1997, Calvet 1999,, Goudaillier 1991, Fournier 2000 Francois-Geiger 2001].
Подобное количественное неравенство означающих и означаемых наблюдается как в русском, так и во французском языках: среди 2000 тысяч субколлоквиальных ФЕ (СФЕ) русского-языка и такого же количества СФЕ французского языка нами было выделено лишь порядка 35 крупных тематических групп.
Круг основных тематических понятий, разрабатываемый субколлок-виальной фразеологией, также совпадает в изучаемых языках. Очевидно, данное положение можно применить и к «низкой» фразеологии других языков. Схожая тематика субколлоквиальной фразеологии носит характер языковой универсалии, так как будь то французский, английский, русский, немецкий, итальянский или испанский языки, центрами синонимического сгущения всегда будут быт, эмоции, тело, пейоративные действия, материальные ценности, отношения между людьми и т.п. [Calvet 1999, Химик 2000, Хомяков 1974].
Подобная избирательность субколлоквиальной тематики тесно связана и обусловлена просторечным и арготическим/жаргонным мировоз-зрением. Зубоскальство, смех, «раблезианство», приправленное вульгаными, «низкими», телесными образами - отличительные черты современного субколлоквиального словаря. Последний является продуктом народного творчества, а для народной культуры всегда было свойственно то, что М.Бахтин обозначил как карнавальное мироощущение. Карнавализация жизни в концепции Бахтина предстает как отступление от норм этических, социальных, моральных, что является для народа способом душевной разрядки, способом, если не ухода от реальности, то хотя бы разумного противостояния обыденности и повседневности и вызова «правильной» жизни [Бахтин 1965].
Таким образом, возникновение и существование субколлоквиального словаря обусловлено эмоционально-психологическим запросом, поскольку выражает не столько принадлежность к определенной социальной группе, сколько особое представление о жизненных ценностях, эмоциональную избыточность, максимализм, а также является «своего рода общественной забавой, языковой игрой, подчиненной принципам эмоциональной экспрессивности» [Жирмунский 1936:119].
Говоря о просторечном и общеарготическом/общежаргонном мировоззрении как породителе того, что мы именуем субколлоквиальным словарем, нам представляется уместным рассмотреть этот вопрос в краткой исторической ретроспективе.
Новое городское просторечие, общий жаргон/общее арго - суть своеобразный языковой фильтрат, вобравший в себя и переработавший философию народного здравого смысла, «юмор висельников» и «особый предметно-смысловой и ценностный кругозор» арго маргиналов [Бахтин 1975].
Начнем с мировоззрения воровского жаргона/арго маргиналов. Лингвистическая картина мира здесь представляет его в перевернутом виде: положительные ценности высмеиваются, а предосудительные понятия, наоборот, реабилитируются и нейтрализуются [Яеу 2002, Береговская 1975]. «В жизни и творчестве, - пишет Е.С. Ефимова - вор играет роль шута, лгу на, дурака. «Смех», «глум», «сквернословие», «бесчинства» - набор признаков, которыми древние источники определяли скоморохов и который может быть использован при характеристике современных воров. В основе воровского мировидения лежит игра, освобождающая от законов жизни и ставящая на место жизненной условности иную, «улегченную» условность. Вор - носитель смехового начала, он использует «дурацкую маску», преимущество которой - возможность обнаружения и осмеяния лжегероев, обнажения чужих пороков» [Ефимова].
Как мы видим, смеховое начало присутствует и в философии воровского жаргона/арго маргиналов, но смех здесь иной, более нигилистичный и резкий, чем в общежаргонном/общеарготическом мировидении.
Юмор, характерный для классического жаргона/арго, - это, по меткому выражению И.А.Бодуэна де Куртенэ, «виселичный юмор»: «[...] мы не должны забывать, - пишет он в предисловии к «Блатной музыке» Трах-тенберга, - что в переживаемое нами время нам необходимо упражняться и совершенствоваться именно в «виселичном юморе». А то без этой поддержки нам просто пришлось бы отчаяться и ... повеситься» Щит. по Быкову II].
В предыдущей главе мы упоминали о том влиянии, которое оказал в XX веке воровской жаргон не только на отдельные социальные диалекты, но и в целом на русский литературный язык. Тому есть объективное историческое объяснение. В России, благодаря постоянным массовым контактам - особенно в период сталинских репрессий - представителей всех слоев общества с пенитенциарной системой, многие социальные диалекты находятся под заметным воздействием классического воровского жаргона [Мокиенко 2000II].
Итак, принимая во внимание тот факт, что в России не только собственно маргинальная прослойка общества, но и его интеллигентная часть побывала в «местах не столь отдаленных», мы можем проследить воздействие маргинального мировоззрения, выражающегося как в наличии опре деленных тематических доминант, так и в тенденции к «юмору висельников», который позволяет народу излить душу и высказать все, что он думает по поводу окружающей его действительности, свое недовольство жизнью, людьми, правительством.
Теоретические предпосылки выявления межъязыковых соответствий фразеологических единиц
Разработке проблемы межъязыковой фразеологической эквивалентности уделялось пристальное внимание в трудах таких ученых, как Н.Ф. Алефиренко, Е.Ф.Арсентьева, Л.К.Байрамова, З.З.Гатиатуллина, А.В.Кунин, А.Д. Райхштейн, Я.И.Рецкер, Э.М. Солодухо, А.А. Хуснутди-нов, Р.А.Юсупов и др.
В предисловии к «Англо-русскому фразеологическому словарю» А.В. Кунин обозначает свою точку зрения на способы достижения максимальной адекватности перевода фразеологизмов, выделяя различные виды перевода: 1) эквивалент - адекватный фразеологический оборот русского языка, совпадающий с английским оборотом и по смыслу, и по образной основе; 2) аналог - русский устойчивый оборот, адекватный английскому по значению, но по образной основе отличающийся от него полностью или частично; 3) описательный перевод - способ перевода, применяемый при отсутствии в русском языке эквивалентов и аналогов и заключающийся в передаче смысла английского фразеологического оборота русским переменным словосочетанием; 4) антонимический перевод представляет собой передачу негативного значения с помощью утвердительной конструкции и наоборот; 5) использование калькирования как метода перевода может быть продиктовано либо желанием сделать акцент на образной основе английской фразеологической единицы, либо невозможностью перевести эту ФЕ посредством других видов перевода; 6) комбинированный перевод - в тех случаях, когда русский аналог не полностью передает значение английского фразеологизма или же имеет иной специфический колорит места и времени, дается калькированный перевод, а затем идет описательный перевод и русский аналог для сравнения [Кунин 1984]. Л.К.Байрамова при составлении «Учебного тематического русско-татарского фразеологического словаря» применила следующую классификацию межъязыковых соответствий на уровне фразеологии: 1) абсолютно тождественные фразеологические эквиваленты - татарские ФЕ, совпадающие с переводимыми оборотами по семантике, стилю, лексическому составу, грамматическим формам и синтаксической структуре; 2) полные фразеологические эквиваленты - татарские фразеологизмы, совпадающие с русскими фразеологизмами семантически, стилистически и лексически. Совпадение по морфологическим и синтаксическим характеристикам русских и татарских ФЕ может быть полным и частичным; 3) неполные, частичные фразеологические эквиваленты, которые совпадают с русскими оборотами семантически, стилистически и частично - лексически, морфологически и синтаксически; 4) фразеологические аналоги, которые совпадают с русскими фразеологизмами по смыслу и стилю; другая разновидность аналога допускает и минимальное совпадение на лексическом и синтаксическом уровнях; 5) фразеологические кальки - покомпонентный перевод на татарский язык русского фразеологизма; 6) фразеологические полукальки, представляющие собой полуперевод-полузаимствование русского фразеологизма, то есть часть русского фразеологизма переводится татарским словом, а часть - заимствованным словом [Байрамова 1991]. Меру фразеологической эквивалентности Э.М. Солодухо определяет по полноте совпадения значений, компонентного состава и стилистической направленности сопоставляемых фразеологизмов. Грамматическая структура и количественный состав элементов фразеологизма, по мнению Э.М.Солодухо, не влияют в значительной степени на межъязыковую фразеологическую эквивалентность. По полноте совпадения значений ученый выделяет константные эквиваленты - фразеологизмы, совпадающие по значению, а также по значениям в случае полисемии; переменные эквиваленты - полисемантические фразеологизмы, имеющие частичные расхождения в семантической структуре. При полном или частичном совпадении лексического состава фразеологизмов и их стилистической направленности эквиваленты подразделяются на абсолютные и относительные [Солодухо 1977]. Свое видение межъязыковой фразеологической эквивалентности Э.М. Солодухо воплотил при исследовании ФЕ-интернационализмов, среди которых он выделил шесть основных типов межъязыковых соответствий: 1) интернационализмы с наибольшим объемом однородного фонографического (звукового и графического) сходства; 2) интернационализмы с неоднородным частичным фонографическим сходством; 3) интернациональные структурно графические оппозиции; 4) изоморфические интернационализмы ( самая многочисленная группа); 5) формальные интернационализмы; 6) латентные фразеологизмы (соотносимые лишь по общим логико-образным и логико-фразеологическим идеям). У А.Д. Райхштейна межъязыковая эквивалентность есть межъязыковая соотнесенность конкретных ФЕ, т.е. тождество (сходство) их смысловой или формально-смысловой организации, отсутствие же межъязыковой соотнесенности означает их полное различие. Отношения полного тождества и полного различия представляют собой два полярных типа межъязыковых соответствий, наряду с которыми существуют и промежуточные. В самом общем виде эти типы могут быть названы как отношения неполного (частичного) тождества, с дополнительной дифференциацией в случае необходимости. Названные типы межъязыковых отношений обнаруживаются при сопоставлении немецких и русских ФЕ: а) в отдельных аспектах их формально-смысловой организации, глав ным образом лексической и структурно-синтаксической (аспектная соот несенность); б) в их совокупном содержании, т.е. сигнификативно-денотативном и коннотативно-прагматическом значении (функционально-смысловая со отнесенность). Кроме того, ученый выделяет количественный аспект сопоставительной характеристики ФЕ - число эквивалентов у конкретной ФЕ, их сравнительную употребительность, удельный вес эквивалентов различного типа во фразеологических составах сопоставляемых языков. Дифференцированный анализ аспектной и функционально-смысловой соотнесенности между конкретными ФЕ позволяет обнаружить исследователю следующие качественные типы межъязыковых фразеологических отношений:
Фразеологические эквиваленты
К полным эквивалентам относятся субколлоквиальные фразеологические единицы французского и русского языков с одинаковыми сигнификативно-денотативным значением, субъективно-оценочной, функционально стилистической и эмоционально-экспрессивной коннотациями, структурно-грамматической организацией и компонентным составом. Тождественное сигнификативно-денотативное значение и субъективно-оценочная коннотации определяются равным набором интегральных и дифференциальных сем. Следует также учитывать специфические типологические признаки, присущие одному языку и не характерные для другого при рассмотрении структурно-грамматической оформленности ФЕ [Арсентьева 1993]. Что касается функционально-стилистической коннотации, то ФЕ в нашем материале уже характеризуются функионально-стилистической общностью, так как они изначально отбирались, руководствуясь этим показателем. Исключение для такого обобщения здесь составляют лишь грубо-просторечные фразеологизмы, которые формируют отдельную группу.
В нашем корпусе фразеологизмов были выделены следующие случаи полной эквивалентности.
Фразеологизм bourrer la paillase в значении «наесться досыта» является полным эквивалентом русской СФЕ набить брюхо по следующим признакам. Сигнификативно-денотативное значение и субъективно-оценочная коннотация характеризуются набором только интегральных сем: действия - поглощения пищи как результата или как процесса (в зависимости от времени, в котором будет употреблена ФЕ) и качества - «досыта, т.е. до полного насыщения, вдоволь». Оба фразеологизма построены на одинаковом грубоватом образе, оба относятся к группе экспрессивно-номинативных ФЕ, совпадает их эмоционально-экспрессивная окрашенность. Как видим, интенсив присутствует не только в словарной дефиниции {«досыта»), но и в скрытом виде в определении глагола «набить, набивать» - «наполнить, втискивая что-нибудь внутрь». Одинаков компонентный состав фразеологизмов; совпадает также их структурно-грамматическая организация: оба относятся к классу глагольных фразеологизмов и построены по синтаксической модели V + N.
Фразеологизмы changer de disque и сменить пластинку со значением «переменить тему разговора, заговорить о чем-либо другом, не повторять одно и то же» являются также полными эквивалентами. Сигнификативно-денотативное значение, субъективно-оценочная и ироническая эмоционально-экспрессивная коннотации у обеих СФЕ совпадают. Компо 153 нентный состав и образная основа, равно как и структура (глагольные ФЕ, построенные по схеме V + N) - одинаковы. Фразеологизмы se rincer le goulot (и его вариант se rincer la dalle) и прополоснуть глотку вступают в отношение полной эквивалентности вследствие тождества сигнификативно-денотативного значения и отрицательной оценочной коннотации, а также сниженной эмоционально-экспрессивной коннотации, компонентного состава и общей синтаксической модели V + N. Приведем еще несколько примеров полной эквивалентности во французском и русском языках на их субколлоквиальном срезе: n avoir pas un radis (un rotin) dans la poche = не иметь ни гроша в кармане -быть абсолютно без денег; noir comme dans le cul du negre = темно, как в заду у негра; lecher le cul = лизать зад - угодничая, пресмыкаться, унижаться перед кем-либо; couper le kiki = перерезать глотку - убить кого-либо; 1. Dans mon cas je connais des mecs qui se kickent avec des tas de merde mais moi la vie je vais pas lui lecher le cul pour etre heureux (R. Gary (E. Ajar «La vie devant soi», p. 104). 2. Но хуже всех такие вот дядечки, которые этой шпане лижут задницы (Л.Зорин (т.2.) «Злоба дня», с. 488). III. 3. 1. 2. Частичные эквиваленты. Незначительными различиями в плане выражения ФЕ тождественной семантики, которые могут носить компонентный или морфологический характер, отличаются частичные фразеологические эквиваленты от полных. В основном различия касаются компонентного состава, которые заключаются в том, что в сопоставляемых фразеологизмах задействованы компоненты сходной понятийной или смежной семантики. Среди частичных эквивалентов выделяются три группы. Первая подгруппа включает в себя фразеологизмы, различающиеся лишь одним компонентом смежной семантики. Приведем примеры этой группы. Субколлоквиальные фразеологические единицы lecher les picds de qn и лизать пятки кому-либо со значением «угодничать перед кем-либо» являются по отношению друг к другу частичными эквивалентами первой группы. Сигнификативно-денотативное значение и презрительная отрицательная субъективно-оценочная коннотация характерны для обеих ФЕ. Как в русском, так и во французском языках их синтаксическая структура V + N. Будучи построены на одном и том же образе, русский фразеологизм предпочел компонент более узкого смысла «пятки», тогда как французский наоборот - «pieds» (ноги), в этом и заключается единственное различие этих двух фразеологизмов. СФЕ французского языка grosse legume является частичным эквивалентом СФЕ русского языка большая шишка. Совпадая по сигнификативно-денотативному значению, субъективно-оценочной и шутливой эмоционально-экспрессивной коннотациям, а также структурно-грамматической организации - класс субстантивных ФЕ, данные фразеологизмы имеют расхождение в компонентном составе - «legume» - «овощ» во французском обороте и «шишка» в русском.