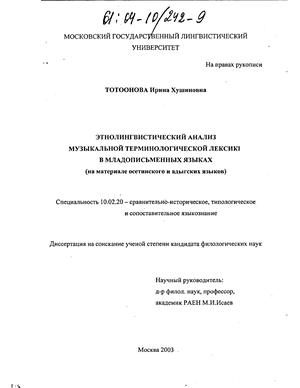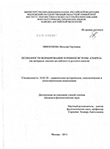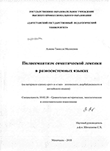Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Понимание термина и терминологической лексики в современном терминоведении 25
1.1. Место терминологии в социокультурных системах и языке 25
1.2. Проблема границ терминосистем и их стратификация 46
Глава 2. Особенности терминов вокального искусства 57
2.1. Терминосистема «вокальное искусство» осетин 57
2.1.1. Микросистема с организующим центром «голос» 59
2.1.2. Микросистема с организующим центром «песня» 61
2.1.2.1. Подсистема «жанры осетинских народных песен» 67
2.2. Терминосистема «вокальное искусство» адыгов 83
2.2.1. Микросистема с организующим центром «голос» 84
2.2.2. Микросистема с организующим центром «песня» 86
2.2.2.1.Подсистема «жанры адыгских народных песен» 89
2.2.3. Песенно-музыкальная культура адыгов и религия 105
Глава 3. Особенности терминов инструментального искусства 110
3.1. Терминосистема «инструментальное искусство» осетин 112
3.1.1. Микросистема «музыкальные инструменты» 113
3.1.1.1. Подсистема «музыканты-исполнители» 128
3.1.1.2. Подсистема «игра на музыкальных инструментах» (настройка и исполнительские приемы) 129
3.1.2 Микросистема «инструментальные жанры» (названия мелодий, наигрышей) 132
3.2. Терминосистема «инструментальное искусство» адыгов .. 137
3.2.1. Микросистема «музыкальные инструменты» 138
3.2.1.1. Подсистема «музыканты-исполнители» 149
3.2.1.2. Подсистема «игра на музыкальных инструментах» (настройка, исполнительские приемы) 151
3.2.2. Микросистема «инструментальные жанры» (название мелодий, наигрышей) 153
Глава 4. Особенности употребления музыкальных терминов, восходящих к звукоподражательным словам 165
4.1. Терминосистема «звукоподражания» в осетинской музыкальной культуре 165
4.2. Терминосистема «звукоподражания» в адыгской музыкальной культуре 173
Заключение 177
Список использованной литературы 187
Приложение
- Место терминологии в социокультурных системах и языке
- Терминосистема «вокальное искусство» осетин
- Терминосистема «инструментальное искусство» осетин
- Терминосистема «звукоподражания» в осетинской музыкальной культуре
Введение к работе
Среди сокровищ, накопленных человечеством за тысячелетия его истории, музыкальная культура занимает особое место. «Музыка - сверстник мира, чья глубокая древность делает ее происхождение столь же неясным, как образование языка или первых членораздельных звуков человеческого голоса» (Бёрни 1961: 166).
Без музыки, искусства очень древнего, не мог жить ни один народ на земле. Еще в первобытном обществе музыка являлась непременной составной частью игр первобытных людей. Тогда она была неотделима от слов песен и движений в пляске и входила в состав так называемого единого синкретического искусства. «В древнейшей музыке было много подражания звукам окружающей среды. Постепенно люди научились отбирать из огромного количества звуков и шумов звуки музыкальные; научились осознавать их соотношение по высоте и длительности, их связь между собой. Ритм раньше других музыкальных элементов получил развитие в первобытном музыкальном искусстве. Первобытная музыка помогала людям найти ритм в работе. При этом певцы подчеркивали ритм ударами в ладоши или притоптыванием: это самая древняя форма пения с сопровождением. По сравнению с музыкой первобытного общества, музыка древнейших цивилизаций стояла на неизмеримо более высокой ступени развития» (Музыка 1977: 315).
Так, в древнекитайской традиции мир - это музыкальная система, ее «звучащее тело». Истоки музыки, - говорится в одном старинном трактате, - далеко в прошлом. Она возникает из меры и имеет корнем Великое единство. Со времен архаики музыка в Китае была символом всеобщего порядка, именно ее магические свойства приводили в гармонию отношения Вселенной, Поднебесной и Человека. Музыка наделялась демиургической силой. Космогонический процесс, каким он представлен в трактате китайских натурфилософов «Люйши Чуньцю» (240 г. до н.э.), неотделим от первозвука, сопровождающего образование неба и земли, рождение космоса из хаоса. При этом звуки, возникающие в момент космогенеза, а затем сопутствующие каждому новому циклу времени, представляются как целостный музыкальный образ. Центр пространства и начало времени совпа-дают с источником звука, гармонический эфир, наполняя Вселенную, придает равновесие всему миру. Музыка приводит в гармонию все четыре времени года, к Великому единству - «всю тьму вещей». Музыка, гармония и радость были в Поднебесной синонимами одухотворенного наслаждения благой жизнью, высшей целью человека (Гудимова 1999: 6). > Фридрих Ницше утверждал: «Без музыки жизнь была бы ошибкой», а древние греки полагали, что любое искусство стремится быть музыкой.
В мифах разных народов гармонию творят из хаоса боги. У египтян -это создатель мифического пантеона богов, мира и всего существующего, покровитель искусств, сам играющий на арфе, бог истины и справедливости Птах (Пта); как бог музыки почитался Ихи - сын златокрылого бога Света Гора. Согласно Библии, Иувал - «отец всех играющих на гуслях и свирели». В индуистской традиции творец мира - Брахма - творец музыки.
Самое поэтичное создание ведийской литературы - богиня зари Ушас - «порождение певучих звуков», наставница и муза певцов, дарующая им мастерство и вдохновение. Ушас - прекраснейшая дева в сверкающем жемчужным светом наряде на блестящей колеснице, запряженной багря ными конями. Поднимаясь на востоке, она наполняет вселенную светом и пробуждает мир. Ее лучезарный свет благотворен.
Интересно, что богиня, рожденная музыкой, согласно ведической традиции и универсальным законам Рита, преобразует хаос в космос, определяя все аспекты бытия, - движение солнца и звезд, дождь и ветер, жизнь людей, животных и растений и даже действия богов. Следовательно, Рита - это закон гармонии, искусства, которому неукоснительно должны следовать певцы и музыканты (Гудимова 1999: 5).
Так, в древнем эпическом цикле осетинского народа «Нартские сказания» герой Ацамаз является обладателем чудесной певучей свирели уадындз, волшебными звуками которой он пробуждает и завораживает весь мир. По словам В.И.Абаева, Ацамаза можно поставить в один ряд со знаменитыми певцами-чародеями: Орфеем в греческой мифологии, Вейне-мейненом в Калевале, Грантом в «Песне о Гудруне», Садко в русской былине (Абаев 1982: 55).
Говоря о воздействии, которое оказывает игра Ацамаза на окружающую природу, как пишет В.И.Абаев, становится ясно, что речь идет не просто о чудесной магической, волшебной «песне», а о «песне», имеющей «природу солнца». И в самом деле, от этой песни «начинают таять вековые глетчеры; реки выходят из берегов; обнаженные скалы покрываются зеленым ковром; на лугах появляются цветы, среди них порхают бабочки и пчелы; медведи пробуждаются от зимней спячки и выходят из своих берлог и т.д.» (Абаев 1982: 66).
С необычайной ясностью выступают здесь древние представления осетин об «огненной природе» песни. Огонь обладает как светом, так и цветом. Отсюда такая яркость «огненных» образов самых различных героев-музыкантов. Песни героя Ацамаза имеют силу и действие солнца. Более того, они завораживают все вокруг, заставляя петь, веселиться и плясать, вторя песням музыканта-чародея. Ни в одном европейском орфическом сюжете мы не встретим такого яркого единства микро- и макрокосми-ческих элементов, которые соединяет в себе «солнечный» герой Ацамаз; его музыка - удивительный пример восхождения из ущелий к звездам и еще выше. По мифологическим представлениям, музыка наиболее полно воплощает в себе Абсолют, таит сокровенные знания, а музыкальные инструменты служат посредниками между миром земным и небесным, между нынешним поколением и поколениями предков. Так, в Древнем Египте музыкальным воспитанием занимались жрецы, отбиравшие для изучения только совершенную музыку, способствующую обузданию страстей и нравственному очищению (Гудимова 1999: 6-7). Аристотель говорил: «Музыка облагораживает нравы», а известный французский философ Монтескье писал: «Музыка - это единственное из всех искусств, которое не развращает нравов».
Еще в древней Шумерии за V тыс. лет до н.э. музыке придавалось такое важное значение, что в «табеле о рангах» музыканты занимали самое высокое место после богов и царей. Именами музыкантов назывались города, а музыкальным инструментам приносились жертвы (Гудимова 1999:7).
Мотив жертвоприношения музыкальным инструментам перекликается в «Нартских сказаниях» осетин с сюжетом о создании Сырдоном первого фандыра - двенадцатиструнной арфы. Согласно преданию, произошло это в час скорби, когда нартский герой Сырдон, придя домой, обнаружил в котле останки своих сыновей, убитых из мести Хамыцем. Взяв кисть руки любимого старшего сына, он натянул на нее двенадцать струн, «а струны те были из жил, что несли кровь к сердцам его сыновей», «по звонким струнам ударил и запел-зарыдал», изливая в звуках свое горе. Фандыр свой Сырдон преподнес в дар нартскому обществу.
Музыка рождается из трагедии и должна исходить из самого сердца. Именно тогда, как полагали далекие предки, она оправдывает все приносимые ей жертвы, только тогда она способна трогать другие сердца.
Знаменитый индийский музыкант Инайятхан (1882-1927) говорил о том, что в самой глубине человеческого существа гармония Вселенной складывается в совершенную музыку - музыку сфер. «Музыка сфер - это музыка, которую слышно в путешествии к цели творения. И ее слышат и наслаждаются ею те, кто дотронулся до самых глубин своей собственной жизни» (Инайятхан 1997: 114).
Представление о музыке сфер musica mundana архетипично и включено в мифологическую модель мира наряду с такими ее «константами», как Мировое Яйцо, Мировое Древо, Мировая Гора и пр. (Маковский: 1996).
Наиболее полно идея мировой музыки воплотилась в древнегреческой культуре. Искусству эллинов покровительствуют солнечный бог Аполлон - бог искусства и художественного вдохновения, бог всех сил, творящих образами, бог, вещающий истину и возвещающий грядущее, - и девять олимпийских муз - дочерей Зевса и Мнемозины - Памяти. Мнемозина как бы старшая из всех муз, именно память - родоначальница всех искусств.
Древнегреческие ученые уделяли большое внимание законам музыкального искусства, его теории. Пифагор, знаменитый философ и математик, положил начало и особой науке - музыкальной акустике, и первым ввел элемент воспитания при помощи музыки.
Согласно Пифагору, Солнце, Луна и планеты, располагаясь на небосклоне, соединяются в музыкальные созвучия. Так рождается чудесная музыка - musica mundana, без которой мир распался бы на части. Земная же музыка - первое из искусств, дарующих людям радость. Это, по мнению пифагорейцев, лишь отражение мировой музыки, царящей среди небесных сфер.
Земная музыка, как отголосок музыки небесной, мировой, находила живейший отклик в душе человека, ибо сам человек был частичкой мироздания и в нем изначально звучали мировые гармонии.
Римский философ неоплатоник Анций Манлий Торкват Северин Боэций (480-525) разделяет музыку на три вида: музыку мировую (mundana), человеческую (humana) и инструментальную {instrumentalis).
Итальянский поэт эпохи барокко Джамбаттиста Марино (1569-1625) говорит о том, что мир некогда был исполнен «музыкальными соразмерностями», а теперь прекрасный порядок нарушился. «После того как извечный Маэстро сочинил и представил свету дня прекраснейшую музыку Вселенной, он распределил партии и каждому назначил ему соответст- вующую; там, где он взял наивысшую ноту, ангел пел контральто, человек -тенором, а множество зверей - басом» (цит. по Гудимова 1999: 12).
И Вселенная, и природа, и все строение нашей души и тела, согласно мифологической и пифагорейской модели мира, держатся музыкальным согласием. Этот же тезис лежит в основе миропонимания, в основе эстетики древней и средневековой Индии. По индуистскому учению, звук (када) - это энергия космоса, давшая начало жизни, а ритм развития Вселенной воплощается определенными сочетаниями звуков. Семь основных ступеней индийских ладов тоже соотносятся с семью планетами солнечной системы.
Культовая музыка древней Индии называлась «марга сангита», что означает «музыка Пути». Она настраивала человека в унисон с космосом и использовалась для медитаций, в которых постигались тайны мироздания.
Арабские энциклопедисты X века, входившие в тайную организацию «Чистые братья и верные друзья» также считали, что музыкальные лады и ритмы имеют внутреннюю связь с небесными светилами, временами года и суток, цветами, запахами, темпераментами людей - словом, практически со всеми явлениями мира (Гудимова 1999: 7-12). Идея мировой музыки нашла свое отражение и в русской культуре. «Дух музыки опочил над хаосом: и был свет - первый день творения». Музыка - демиург, созидающий «и ветхую землю нашу и новую землю чаяний наших» (Белый 1994: 175-176). Музыка выражает единство, связующее миры бывшие, сущие и будущие, еще более совершенные. В музыке звучат для нас намеки будущего совершенства: «Наше прошлое - музыка как норма, наше будущее - музыка как ценность» (Белый 1994: 172).
В разные времена человек пытался описать музыку. Музыкальная картина мира постоянно вербализовалась, так как сознание человека способно к интермодальному восприятию знаковых систем, а язык является именно такой универсальной знаковой системой, с помощью которой мы можем описать другие знаковые системы (Кульпина 2002: 104,115).
Описать музыку значит вербализовать слышимый универсум - «тончайшую стихию», объединяющую воедино все субстанции живой и неживой природы. Язык описания музыки - это «обширная тема, связанная, в частности, с проблематикой взаимодействия вербальных и невербальных семиотических систем» (Кульпина 2002: 103). Эта связь сложна и опосре-дованна. Итак, в данной работе исследуется то вербальное выражение музыки, которое заключено в терминологии этой области искусства.
Работа представляет собой сравнительно-сопоставительное изучение музыкальной терминологии младописьменных языков - осетинского (в двух его разновидностях: иронском и дигорском) и адыгских (адыгейского и кабардино-черкесского). Привлекаемые к исследованию языки, согласно генеалогической классификации, относятся к разным языковым семьям. Осетинский - индоевропейская языковая семья, иранская группа, иронское (восточное) и дигорское (западное) наречие; осетины - потомки аланов-скифов (Реформатский 96: 412).
Под общим названием «адыгские» объединяются: кабардино-черкесский и адыгейский (наречия: абадзехский, бжедугский, шапсугский) языки - кавказская языковая семья, западная группа абхазо-адыгских языков, черкесская подгруппа (Реформатский 96: 422).
К младописьменным же осетинский и так называемые адыгские языки относятся вследствие общего деления всех литературных языков на старописьменные и младописьменные. Младописьменными считаются языки, которые приобрели письменность после 20-х годов XX столетия. Адыги -это самоназвание некогда существовавшего единого племени, объединявшего три народности (адыгейцев, кабардинцев, черкесов). Поэтому в культуре и языках этих народов сохранилось очень много общего, что и породило к жизни объединяющий термин «адыгский».
Истории было угодно свести осетин, кабардинцев, адыгейцев и черкесов на едином северокавказском пространстве, объединив их на многие столетия отношениями соседей. Сходные природно-климатические, географические, общественно-политические и социальные условия жизни, а также систематический обмен опытом сформировали яркие и самобытные, но в то же время имеющие-очень много общего, национальные культуры этих народов. Особый интерес привлекают к себе достижения в области духовной культуры. Объектом специального исследования в настоящей работе явилось искусство музыки и танца и отражающая понятия этой области искусства соответствующая терминология.
Как известно, термин является основной единицей специальной лексики. Напомним, что в ее состав входит целый ряд других единиц, среди которых специалисты выделяют следующие виды специальных лексем: термины, номены, терминоиды, предтермины, квазитермины, прототермины, профессионализмы и профессиональные жаргонизмы (Гринев 1993).
Современное состояние науки позволяет предложить следующее определение термина: «Термин - это слово или подчинительное словосочетание, имеющее специальное значение, выражающее и формирующее профессиональное понятие и применяемое в процессе познания и освоения научных и профессионально-технических объектов и отношений между ними» (Кобрин, Головин 1987: 5).
Функцией термина является концептуально-информационное обслуживание специальных областей человеческой деятельности: науки, техники, производства, управления, торговли, дипломатии, политики, искусства, культуры, сельского хозяйства, ремесел и т.д. При этом термин называет конкретные и абстрактные предметы и явления, относящиеся к этим областям. «Эту функцию выполняет слово, взятое из общеупотребительной лексики или специально для этой цели конструированная лексема. Эта единица в структурно-субстанциональном отношении является лексемой, а как функциональное явление-термин» (Комарова 1979: 9).
Термины образуют в языке особый пласт лексики, который в рамках того или иного естественного национального языка выступает в нем в качестве его функциональной разновидности. Совокупность прочно установленных в данной науке терминов образует терминологию данной науки.
В каждой определенной отрасли науки и техники терминология представляет собой исчислимую систему. Нельзя изъять или прибавить к этим системам какую-нибудь часть, не изменив других частей, не вызвав общей перегруппировки терминов. Поэтому можно говорить о структуре терминологий в самом точном и строгом научном смысле.
Весьма плодотворной в этом плане является разработанная А.А. Реформатским теория терминологического поля. Полем для единичного термина является данная терминология, терминология данной области науки, техники, культуры и т.д. Вне этого поля термин теряет свою характеристику термина. Терминологическое поле идиоматично для каждой терминологии. Оно покрывает всю систему понятий данной науки. Термин всегда занимает строго определенное место в «матрице» данного терминологического поля, он предельно парадигматичен. Для каждого термина весьма существенна «значимость», его valeur в соссюровском понимании этого слова, значимость, которая определяется окружением, вытекает из противопоставления одного элемента всем другим элементам системы (Реформатский: 1961).
Терминология - это совокупность терминов профессиональной сферы деятельности (области знания, техники, управления, культуры и т.д.), связанных друг с другом на понятийном, тематическом, лексико-семантическом, словообразовательном и грамматическом уровнях (Головин, Кобрин 1987: 67).
Считая функциональный подход к различению термина и нетермина наиболее приемлемым, термин в нашей работе определяется как «слово или словосочетание (образованное на базе подчинительных связей, имеющее профессиональное значение, выражающее и формирующее профессиональное понятие и применяемое в процессе (и для) познания и освоения некоторого круга объектов и отношений между ними - под углом зрения определенной профессии» (Березин, Головин 1979: 264).
Это определение может использоваться как рабочее. Оно имплицитно содержит в себе указание на то, что терминологические единицы не являются равноценными с точки зрения их понятийного содержания. Последнее представляется весьма важным при построении классификации терминов.
Обсуждаемым в современном терминоведении является вопрос о структурировании терминологии. Так, известный лингвист и терминолог В.М.Сергевнина считает, что «все термины одной отрасли знания или профессиональной деятельности образуют терминологию, т.е. единое целое, состоящее из элементов (терминов), обязательно взаимосвязанных на экстралингвистическом (т.е. понятийном или предметном) уровне, на лингвистическом же уровне связи могут отсутствовать. Каждая терминология состоит из большего или меньшего количества терминосистем, т.е. целого, состоящего из элементов, обязательно взаимосвязанных как на экстралингвистическом, так и на лингвистическом уровне. Иерархия может быть продолжена выделением в терминосистемах микросистем, в последних - подсистем, состоящих из рядов терминов, объединенных каким-либо типом связи» (Сергевнина 1981: 66).
При этом терминология представляет собой открытую, наиболее динамично и быстро развивающуюся часть словарного состава любого развитого языка. Проблемы терминологии являются актуальными для любой отрасли знания и чем такая отрасль специфичнее, тем более остро встают в ней эти проблемы. Поэтому на протяжении всей истории науки учеными предпринимались попытки исследования различных терминологий. Однако для исследования терминологии необходимо знать ее языковые особенности, закономерности образования и развития. Это является основной задачей специалистов-терминологов. Они вырабатывают рекомендации по упорядочению, совершенствованию и наиболее эффективному использованию терминов и терминологий. .
Актуальность темы обусловлена, прежде всего, необходимостью дальнейшего изучения как собственно языковых, так и социокультурных источников развития лексических систем младописьменных языков, в том числе и музыкальной терминологической лексики. В последние годы как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике большое внимание уделяется всестороннему изучению проблем терминологии различных областей знания. Особое место среди развивающихся систем терминологической лексики занимает терминология музыки, которая на сегодняшний день продолжает оставаться недостаточно изученной. Это относится и к музыкальной терминологии осетинского и адыгских языков, которая до настоящего времени не была предметом специальных лингвистических, тем более сопоставительных исследований.
Помимо научных публикаций автора предлагаемой работы (Тото-оновой И.Х. 2000-2003) в области осетинской музыкально-хореографической терминологии, известно лишь несколько примеров обращения к подъязыку музыки, как предмету лингвистических наблюдений. Однако эти работы затрагивают отдельные стороны музыкальной терминологии осетинского языка и ограничиваются анализом единичных терминов (Алборов 1979; Таказов 2000; Цекоева 2000). Что касается адыгских языков, то здесь можно назвать «Словарь музыкально-хореографических терминов адыгских языков», составленный искусствоведами Н.Гишевым и А.Соколовой, включающий 145 слов (Эльбрус 1999: 207-222).
Все другие попытки по описанию и изучению данной терминологии носят фрагментарный и отрывочно-спорадический характер. Обычно исследователями ставятся частные искусствоведческие (Галаев 1964; Туганов 1957; Хаханов 1983; Цхурбаева 1957, 1959; Шавлохов 1980; Ашхотов 1995, 2000; Кумехова 2000; Левин 1968; Соколова 1986, 1988, 1991, 1993; Шу 1964, 1976, 1992 и др.) или этнографические (Алборов 1992; Калоев 1999; Кокойти 1958; Магометов 1968; Бгажноков 1991; Налоев 1978, 1986; Тлехуч 1991; Чич 1991 и др.) задачи. Следовательно, уже давно назрела необходимость объединить результаты предыдущих изысканий и провести лингвистический анализ музыкальной терминологии указанных языков, сопоставить его результаты и выявить специфику, сходства и различия музыкальных терминосистем.
Цели диссертационной работы заключаются в развитии основных понятий современного терминоведения; описании терминологической лексики внутри терминосистемы; выявлении структуры, состава, особенностей и закономерностей формирования и развития одной из самых интересных с лингвистической точки зрения профессиональных подсистем языка - музыкальной терминологии; сопоставительном анализе национальных музыкальных терминологий осетинского и адыгских языков; описании особенностей функционирования музыкальной терминологии в современной лексической системе; представлении различных подходов к классификации данной терминологии.
Исследование потребовало поиска единого подхода для описания терминологий изучаемых языков. Такое единство обеспечили методы инвентаризационного типологического терминоведения, которое позволило выделить и описать формальные, семантические, исторические (этимологические, генетические, хронологические, диахронические) и функциональные параметры исследуемых терминов и терминологий, необходимые для их последующего сопоставления.
Реализация поставленных целей предполагала решение следующих задач: отбор источников (словарей, справочников, энциклопедий, монографий, научных статей и других текстов, в которых содержатся изучаемые термины); выбор терминов музыкального искусства из анализируемых источников; инвентаризация терминов в связи с отсутствием в осетинском и адыгских языках словарей и словников музыкальных терминов (хотя, как отмечалось выше, адыгские языки частично зафиксировали терминологию данной предметной области в «Словаре музыкально-хореографических терминов»); лексикографическая обработка собранного материала: приведение единиц в единообразную грамматическую форму, снабжение омонимичных и полисемичных терминов пометами, при необходимости уточнение значения и формы терминов; упорядочение изучаемых терминов по тематическому признаку; построение терминосистем и их сопоставительный анализ.
Ограничиваться сопоставлением отдельных терминов было бы неправильно, так как полноценная оценка термина вне соответствующей терминологии в данном случае является невозможной и на практике к анализу любого термина неминуемо в той или иной степени привлекается его окружение.
На последнем этапе проводилась работа по выявлению сходств и различий исследуемых терминологий, процессов ее образования, становления и развития, а также составление словников музыкальной терминологической лексики осетинского и адыгских языков в соответствии с изученными терминосистемами. Словники оформлены в данном исследовании как приложения.
Инвентаризация терминологии может быть самостоятельной работой, результатом которой является описательный терминологический словарь, но чаще всего она является предварительным условием и этапом работы по упорядочению терминологии, и тогда ее результатом является словник - собрание терминов, упорядоченное по определенному признаку, например алфавитному или тематическому (Гринев 1993: 17).
Критериями включения в словник отобранной специальной лексики явились: важность (или семантическая ценность) термина, его употребительность (частотность), тематическая принадлежность, системность, тер-минообразовательная способность, синхронность (временной фактор), нормативность и сочетаемость. При отборе лексики и подготовке словника системность является наиболее верным, гарантирующим полноту пред- ставлення материала путем выделения терминов определенной предметной области. Она дает возможность определить границы отдельных тематических подразделов специальной лексики данной области, установить четкие рамки словаря, отсеяв случайные термины, выявить возможные синонимы и лексические лакуны.
Работа выполнена в русле сопоставительных и типологических исследований, представляющих собой одно из основных направлений в современном языкознании и терминоведении.
Сопоставляемые явления рассматриваются в синхроническом аспекте, а при необходимости привлекаются данные диахронии и смежных с лингвистикой наук - антропологии, этнографии, фольклористики, искусствоведения, музыкознания, истории науки и техники, всеобщей истории и др., которые помогают установить время и особенности зарождения и развития отдельных, интересующих в ходе исследования единиц изучаемых музыкальных терминологий.
В работе применяется компаративная методика исследования, позволяющая автономно рассмотреть и описать терминосистемы осетинского и адыгских языков, а затем сопоставить полученные результаты.
Рассмотрение терминов как «сгустков смысла» и определение роли термина в истории материальной и духовной культуры народа позволили использовать в работе элементы терминоведческого, филологического и когнитивного подходов, а также совместить динамический, историко-культурный и этнолингвистический аспекты исследования.
Объект и конкретные задачи исследования определили выбор методов лингвистического анализа. В качестве основного в работе используется описательный метод, который предполагает наблюдение над языковыми фактами с их последующим анализом и определением их закономерностей. Наряду с описательным методом с целью получения более объективных данных применяется метод дефинитивного сопоставления, который обеспечивает выявление и определение единиц музыкальной терминологии. В работе используется также метод компонентного анализа, позволяющий глубже проникнуть внутрь семантической структуры термина, выделить составляющие его компоненты, определить семантический объем термина и изменения в семантике при его функционировании.
В работе применяются и другие методы, типичные для современного терминоведения: метод анализа структуры и конструирования термино-систем, метод внутренней реконструкции, приемы выявления термино-элементов и расчленения сочетаний терминов; метод аспектации, способствующий углубленному исследованию сложных и многоструктурных терминологических явлений. Использовались также такие частные приемы и методы, как таксономическая характеристика языковых явлений и общенаучные: метод сопоставительного анализа, обобщения, аналогии и др.
Источниками материала исследования послужили: теоретические работы в области терминологии (научные статьи в журналах и сборниках, монографии, диссертационные исследования), искусствоведческая и этнографическая литература, тексты художественной литературы, различные справочники, энциклопедии, словари (специальные, толковые, терминологические, историко-этимологические и др.). Музыкальные термины представлены систематично и в общих переводных словарях, данные из которых иногда даже расширяют материал общих толковых, тематических и специальных источников.
Достоверность полученных результатов и обоснованность сделанных выводов обеспечиваются обширным языковым материалом, подтверждающим теоретические положения диссертации, и соответствующими исследовательскими приемами, адекватными положениям теории термина и терминологии. Собранная картотека (около 1000 терминов) была подвергнута лингвистическому анализу в двух сферах - в сфере фиксации (словари) и в сфере функционирования (несловарные тексты).
Научная новизна работы заключается в том, что: впервые объектом специального лингвистического исследования стала музыкальная терминология осетинского и адыгских языков, при этом исследование носило сопоставительный характер; впервые собран столь обширный массив музыкальных терминов из разнообразных источников, дана лексикографическая обработка анализируемого материала, проведена его лексико-семантическая классификация и сопоставительное изучение выделенных систем; впервые сделана попытка составления словаря музыкальной терминологической лексики осетинского и адыгских языков; изучение собранного материала позволило сделать заключение о самобытном пути развития музыкальной терминологии в младописьменных языках, в частности осетинском и адыгских, которые ранее не отмечались.
Полученные данные позволяют дать ответ на вопрос о степени и границах реализации общетерминологических свойств специальной лексики и терминологизируемых явлений в области музыкальной терминологии. Результаты исследования вносят определенный вклад в разработку общетеоретических вопросов развития терминологий различных предметных областей, в решение таких актуальных проблем современного термино-ведения, как сущность термина, явление терминологизации и детерминологизации, виды терминологий, взаимодействие специальной лексики со словами общенародного языка. Разрабатывается ряд лингвистических проблем двуязычной терминографии. Обсуждается вопрос о взаимосвязи языка и культуры с целью подтверждения тезиса о социокультурной составляющей терминологии, что отражается в определении роли этно-образующей функции языка в формировании меж- и внутриэтнических пространств младописьменных языков. На примере музыкальных обозначений вскрываются пути становления языковых картин мира. Здесь подчеркиваются два существенных момента: а) ЯКМ не является уже сложившейся данностью (как это нередко представлено во многих этно- культурных трудах); б) развитие ЯКМ - это извечное балансирование между фрагментами или осколками разных картин мира.
Выявляются глубинные сходства и различия исследуемых языков и культур. Высказывается мнение о том, что особенности осетинской и адыгской музыкальных культур обусловлены континуально-циклическим (мифологическим) типом мышления. При этом национально-культурная семантика термина определяется как необходимый и определяющий компонент значения термина, выводящий его на деятельностныи уровень языковой единицы.
Полученные выводы и наблюдения могут быть использованы в практике исследования широкого круга общеязыковых и собственно термино-ведческих проблем. Материалы проведенного исследования могут найти применение при создании общей картины становления терминосистем младописьменных языков, использоваться в работах по историческому тер-миноведению, ономасиологии, лексикологии, семиотике и общему языкознанию. Кроме того, материалы исследования могут применяться в практике преподавания вузовских курсов истории младописьменных литературных языков, на спецкурсах и спецсеминарах по терминоведению и лексикографии.
Материал работы может быть полезен при совершенствовании отдельных терминологий, при изучении проблем терминологии в целом и отраслевых терминосистем. Собранные данные могут быть использованы и в лексикографической практике при составлении толковых, терминологических, нормативных и др. словарей. Материал исследования моясет использоваться для написания профессионально-ориентированных текстов и пособий, способствующих формированию у учащихся необходимой компетенции в области национальной терминологии музыки и хореографии, искусства и духовной культуры современного общества.
Данное исследование может послужить основой для дальнейшей теоретической и практической работы специалистов в этой области. Сле- дующим этапом работы может стать упорядочение терминологии музы- кальной сферы и создание словаря музыкально-хореографических терми нов исследуемых языков. В этом заключается собственно научное и социо культурное значение представленной работы.
Результаты проведенной работы по теме диссертации доложены и | обсуждены в Московском государственном лингвистическом университете ! на общеуниверситетских научных и научно-методических конференциях, на заседании кафедры общего и сравнительного языкознания.
По материалам диссертации были сделаны доклады на ежегодных международных чтениях памяти кн. Н.С.Трубецкого «Евразия на перекрестке языков и культур». Проблемы сравнительной лингвокультурологии. - М., 2000; «Вавилонская башня: Слово. Текст. Культура». - М., 2002.
Основные положения диссертации отражены в следующих публи- " кациях автора:
Тотоонова И.Х. К классификации осетинских музыкальных терминов // Проблемы сравнительной лингвокультурологии. Ежегодные международные чтения памяти кн. Н.С.Трубецкого 17-18 апреля 2000. «Евразия на перекрестке языков и культур»: Тез. докл. - М.: МГЛУ, 2000. - 0,1 п.л.
Тотоонова ИХ. Семантические группы осетинских танцевальных терминов // Социокультурное варьирование в языке / Редкол.: О.Л.Каменская (отв. ред.) и др. - М., 2001. - 0,7 п.л. (Сб. науч. тр./МГЛУ. - Вып. 452)
Тотоонова И.Х. Особенности осетинского музыкального мышления // Вавилонская башня: Слово. Текст. Культура. Ежегодные международные Чтения памяти кн. Н.С.Трубецкого. - 2001 МГЛУ (16-17 апреля 2001). «Евразия на перекрестке языков и культур»: Тез. докл.- М., 2002. - 0,1 п.л.
Тотоонова И.Х. Термины музыкального искусства в нартовском эпосе осетин // Проблемы коммуникативной лингвистики / Редкол.: ОЛ.Камен- екая (отв. ред.) и др. - М., 2002. - 0,8 п.л. (Вестник МГЛУ. - Вып. 468).
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и двух приложений.
Во введении показывается место исследуемых музыкальных культур в системе общечеловеческой эстетики, их взаимосвязь и общая основа. Здесь описывается деление музыки на три сферы - «вселенскую» (musica mundana), «человеческую» (musica humana) и «инструментальную» (instrumentalis), ведущее свое начало из глубокой древности. Аналогично мы выделяем в исследуемых музыкальных культурах три терминосистемы: вокальную музыку, инструментальную музыку и звукоподражания. Во введении дается также обоснование выбора темы, раскрывается ее новизна, теоретическое и практическое значение, описывается материал и его источники, определяются методы и задачи, вводятся основные понятия.
Место терминологии в социокультурных системах и языке
Современный человек живет в культурной среде, складывавшейся в течение тысячелетий. В ней находят свое отражение окружающая человека объективная действительность, достижения в развитии материальной и духовной культуры. Эта среда представляет собой чрезвычайно сложное явление, воздействующее на человека и определяющее его мировоззрение, поступки и мышление. Одним из элементов этой культурной среды является язык. По словам В.В.Виноградова, «в составе любого литературного языка значительное место занимает так называемая терминологическая лексика, которая, как отмечают исследователи, развивается особенно многообразно и интенсивно» (Виноградов 1961: 6). Если еще в первой половине XX века языковеды рассматривали термины как дальнюю периферию словарного состава, то сейчас, после пережитой нами НТР, отношение к ним кардинальным образом изменилось. В настоящее время проблемы терминологии находятся в центре внимания лингвистической науки. Приходится считаться с тем, что по подсчетам разных специалистов 80-90% всей новой лексики, появляющейся в развитых языках, - это термины и другие специальные лексические единицы. А признаваемая многими учеными интернационализация языка связана в значительной степени с широким использованием в нем специальной лексики (Лейчик 2000: 20). Вслед за А.В.Суперанской, Н.В.Подольской, Н.В.Васильевой, мы разделяем словарный состав любого языка на общую и специальную лексику (Суперанская, Подольская, Васильева 1989). Специальная лексика рассматривается как «подсистема лексики литературного языка, обеспечивающая выполнение специальной профессиональной коммуникации на базе общественно-технического, научного и социально-управленческого стилей языка» (Кобрин, Головин 1987: 99). Еще Д.СЛотте говорил о научных терминологиях, имея в виду упорядоченные совокупности терминов, противопоставленные неупорядоченным (Лотте 1961: 72-73). В настоящее время преобладает мнение о том, что стихийно складывающиеся терминологии, большей частью неполные, логически нестрогие, отличаются от сознательно упорядоченных или конструируемых терминологических систем (терминосистем). Правда, существуют достаточно стройные, законченные терминологии, например, терминология шахматной игры, ремесленные лексиконы ткачей, бондарей и др.; но это скорее исключение, чем правило (Лейчик 2000: 23). Как уже говорилось выше, впервые вопрос о системности терминологии был поставлен Д.С.Лотте, в работах которого подчеркивалось, что системность терминологии требует соблюдения трех условий: 1. Терминологическая система должна основываться на классификации понятий. 2. Необходимо выделять терминируемые признаки и понятия, основываясь на классификационных схемах. 3. Слова должны отражать общность терминируемого понятия с другими и его специфичность (Лотте 1961: 10). Развивая эти положения, ученые В.М.Лейчик, И.П.Смирнов и И.М. Суслова рассматривают терминологическую систему как «сложную динамическую устойчивую систему, элементами которой являются отобранные по определенным правилам лексические единицы какого-либо естественного языка, структура которой изоморфна структуре логических связей между понятиями специальной области знаний или деятельности, а функция состоит в том, чтобы служить знаковой (языковой) моделью этой области знаний или деятельности» (Лейчик, Смирнов, Суслова 1977: 42). Существует также большое количество работ, в которых любая терминология называется системой и осуществляются попытки исследования ее системных признаков и характеристик. В последние годы в терминоведческои литературе можно встретить также утверждение, что та или иная совокупность терминов (т.е. терминология) становится терми-носистемой лишь тогда, когда она подвергается сознательному упорядочению и коррекции: терминолог создает дефиниции, предписывает связи между терминами, строит логические отношения и т.д. (Гринев 1993; Лейчик 2000 и др.). Так, С.В.Гринев говорит о том, что «в результате упорядочения терминологии она превращается в терминосистему, то есть полностью соответствующую системе понятий данной области упорядоченную систему терминов с зафиксированными отношениями между ними» (Гринев 1993: 78). В разных предметных областях замена терминологий термино-системами может происходить по-разному, и существует мнение, что в теоретических науках терминосистема может быть сконструирована с самого начала, при формировании общей теории, тогда как в прикладных областях дольше удерживается стихийно сложившаяся терминология (Лейчик 1989). Такая научная позиция, как утверждают терминологи Б.Н.Головин и Р.Ю.Кобрин, может и должна вызывать сопротивление. «Случайного скопления терминов, системно не связанных и не организованных, не имеет ни одна отрасль производства или техники, ни одна область науки или управления, потому что в любой названной сфере предметы и их признаки соотнесены и связаны, системно организованы и понятия той или иной области знания. Терминология системна прежде всего потому, что системен мир, отдельные участки и стороны которого она, терминология, отображает и обслуживает» (Кобрин, Головин 1987: 78).
Терминосистема «вокальное искусство» осетин
Многочисленны и разнообразны вокальные жанры, связанные со словом, поэтическим текстом, звучанием человеческого голоса в сопровождении музыкального инструмента и без него: Центральным системообразующим элементом данной микросистемы является базовый термин: хьаеіаес гьаеіаес1 - голос, глотка (в д. диалекте в значении «голос» выступает также термин хъур) С древних пор сопоставляется в старославянском glasb, русском - голос. Остается спорным, имеем ли мы дело с первоначальным (индоевропейским) родством [и.-е. gal-so-, ср. сакс, (хотанский) Tgarsd - «aus vollem Hals» = осет. qcelcesy jag] или с последующим скифо-славянским схождением. Первое предположение встречает трудности: откуда L в осетинском? (для иранских языков характерен ротацизм); откуда второй aft Ввиду этих неясностей выставить для осетинского слова иранский прототип не представляется возможным. Правильнее думать, что перед нами специфическое славяно-скифское схождение, возможно заимствование в скифский из старославянского с закономерным в этом случае полногласием в осетинском (ст.-слав. glasb — осет. gcelces, как груз, glaxa - осет. gcelcexxa). Русск. (юж. диал.) галас «шум голосов», «шумный говор», «крики» (Даль) относится сюда же (1973: 288-289)2. и. Афтае айв фидыдта уыцы хуымаетэеджы фжндыры хъаелаес, раст ын цыма йж мыртаз ног фаесалы ныффазрсыгътой (Фидиуазг 1976: 33). - Этот простенький фандыр (зд. голос фандыра) звучал до такой степени прекрасно, будто звуки его проходили через сухую траву (осоку). и. Йж сыгъдаег хъаелаес - иу хъырназг хъаелаесты сэермэе, цъиусурау, стахт (Фидиуззг 1976: 34). - Его чистый голос ястребом взмывал над голосами подпевающих (хора). и. Йае сыгъдаег баерзонд хъаелаес аеваеллайгае ленк казны къухаемдзазгъд аемае хъырнаег хъаелаесты саермае (Фидиуаег 1976: 35). - Его чистый высокий голос без устали плывет над звуками аплодисментов (сопровождающих пение) и голосами подпевающих. и. хъаелаесы интонаци - интонация голоса цъаехснаг хъаелаес цъаехснаг хъур - звонкий голос д.1 Wo, nse zaerbatug, dae zard c aexsnag zaellangaej kaenis. - О наша ласточка, ты ведешь свою песню звонкой трелью (1958: 334-335) . и. Нывгенды зараег кагидаер цъаехснаг хъаелаес аемае йын хъырнынц баезджын хъаелаестае фыццаг хаеццае-маеццтае, стаей - аемваеткаей... (Фидиуаег 1976: 34). — Чей-то звонкий голос затягивает песню, ему подпевают чьи- то низкие голоса, сначала невпопад, затем слаженно. и. ацъаехснаг каенын - сделать резким, пронзительным, вы- соким (о звуке); взять высокий тон и. ацъаехснаг уын - стать резким, пронзительным, высоким (о голосе) и. наергае хъаелаес - зычный голос и. хъаелаесджын - голосистый и. хъаелаесджын бурэемаелгъ - голосистый соловей и. аенаехъаелаес - безголосый хъаелаесы дзаг гъаелаеси дзаг - во весь голос и. аемхъаелэесаей (аемхуызонаей) - в один голос и. Баелаегьтаей хъуысынц баелгегътгерджыты эемхъаелаес зарджытае. -С лодок раздаются песни дружные гребцов.
Терминосистема «инструментальное искусство» осетин
Под звуки прошлое встает И близким кажется и ясным... (А.Блок) Искусство инструментальной музыки осетин имеет многовековую историю развития и представляет собой одну из важнейших сторон общенациональной культуры. Оно включает в себя творческое наследие нескольких поколений народных певцов, сказителей и музыкантов, а также искусных мастеров-исполнителей на народных инструментах и многое другое. В XX веке фольклор, и особенно музыкальный фольклор, был осознан как самостоятельная ценность, как проявление народной мудрости, духовной культуры, а также как неисчерпаемый источник вдохновения для композиторов и как предмет науки (Хаханов 1983: 30). Об этом говорит история предков осетин, которые умело использовали психоэмоциональное воздействие музыки. Она выполняла различные социокультурные функции: ритуально-обрядовую, бытовую, художественно-эстетическую, рекреационную, и даже «терапевтическую». Слушание музыки в часы досуга, особенно в зимнее время, являлось единственным развлечением крестьян, запертых снеговыми заносами в мрачных ущельях гор. Историк Е.Марков пишет, что «часто целые длин-ные зимние вечера они проводили в темной сакле, вокруг чадящего очага в безмолвном наслаждении, слушая старого сказочника или песенника» (Марков 1904: 165). Даже для развлечения больного, облегчения его страданий прибегали к музыке. Не лишено интереса в этом отношении свидетельство К.Л.Хетагурова: «Тяжело больного знакомые и родственники не оставляют ни днем, ни ночью. Чтобы отвлечь больного от мысли о болезни, они стараются быть веселыми, рассказывают сказки, играют на осетинском фандыре - небольшой двенадцатиструнной арфе, и под аккомпанемент распевают легенды о Нартах, Даредзанах и других мифических героях» (Хетагуров 1960: Т.4. 359-360). Музыка, по представлению осетин, приостанавливала разрушительное действие болезни, смягчала страдания и притупляла боль, облегчала труд и облагораживала нравы. Словом - имела великую силу многопланового воздействия. Осетинские народные инструменты делятся на духовые, струнные и ударные. Исследователь-музыковед Курт Сакс считает, что первые духовые инструменты появились в эпоху позднего палеолита (35-10 тыс. лет назад) - это флейта, труба, труба-раковина. В эпоху мезолита и неолита (10-5 тыс. лет назад) появились флейта с игровыми отверстиями, флейта Пана, поперечная флейта, поперечная труба, дудки с одинарным язычком, носовая флейта, металлическая труба, дудки с двойным язычком. Внутри группы духовых музыкальных инструментов существуют свои разновидности. Они различаются по принципу звукообразования: уадындз хаетжл - свирель семейства флейтовых, родствен- ная абх. ачарпану, аджар. чабан саламури и ад. камылю и. wadynj возводится В.И.Абаевым к vadmici- от vad- «играть на музыкальном инструменте», «петь». Ср. др.-инд. vad-, vadati «говорить», «подавать голос», «петь»; vad-, vddayati «играть на музыкальном инструменте»; vdditra- «музыка», «музыкальный инструмент»; vddaka-, vadin «музыкант»; vddana- «инструментальная музыка», «музыкант»; vadariiya- «трубка» (как материал для свирели), «дудка», «свирель»; греч. avdrj «голос», «пение», «звон»; аєїдсо «петь»; doidrj, фдт} «песнь», «пение»; аоіддс: «певец», «заклинатель», «чародей». Возможно, сюда же др.-инд. vana- (из vdd-nal) «музыка»; van!- «звук», «тон», «музыка»; vamcT- «название музыкального инструмента» (из vadmcT-l- ср. выше реконструированное «скифское» vdd9nici-) (1989: 35). и. Satanee rakoyrdta EfsatTjae \vadynd3. - Шатана выпросила у Афсати свирель (1958: 602).
Терминосистема «звукоподражания» в осетинской музыкальной культуре
В современном терминоведении продолжает обсуждаться проблема рациональности употребления терминов с точки зрения их происхождения, например: исконные - заимствованные, мотивированные - немотивированные и т.д. Весьма благодатным в этом аспекте является материал музыкальной терминологии в исследуемых нами языках, а именно, музыкальные термины, восходящие к завукоподражательным словам. Существует теория, согласно которой язык находится под влиянием таких внешних факторов, как климат, географические условия, природа, а также рельеф местности. Все это в совокупности воздействует на мировоззрение и культуру народа. Природа щедро одарила Кавказ. Тут все неповторимо и прекрасно. Величественные горы, покрытые вечными снегами. Могучие снежные вершины, ослепительные ледники, спускающиеся прямо к заповедным лесам. Неповторимые по своей красоте и бурному травостою яркие альпийские луга, реликтовые сосновые леса, светлые зеленые долины и темные глубокие ущелья. Бурные реки, звонкие и стремительные потоки, пенистые и неугомонные водопады, звенящие хрустальной чистотой стремительные родники - все это создает удивительную по красоте картину. А Терек? Можно часами стоять на его берегу, не в силах оторвать взгляда от бешеного бега воды. И уже невозможно представить себе этого края без реки, придающей ему неповторимую живописность и красоту. Великий русский поэт А.С.Пушкин воспел Кавказ в своих стихотворениях. В его Кавказском цикле мы видим этот горный край как бы сверху, с высоты многих тысяч метров, что создает ощущение, будто перед нами раскинулся «морщинистый лик бытия». Весьма интересно складывались у осетин музыкальные представления, выразившиеся в попытках познания и описания окружающего мира через музыку. Во многом особенности музыкального мышления осетин обусловлены простотой и суровостью и вместе с тем, величием окружающей их природы Кавказских гор, близостью неба (звезд) и т.д. Отличительной особенностью осетинской народной музыки вообще и песен в частности является тот факт, что в них есть что-то незавершенное. Будто кто-то со стороны должен продолжить, унести в высь эти звуки и где-то там, в глубокой бездне, закончить их, повторяя все слабее и слабее таинственным хором в бесконечной цепи гор. С этим оказывается связана и та интересная особенность осетинской музыкальной термино- логии, которая позволяет в силу определенных причин (географических и климатических условий, традиционного быта осетинского народа и т.д.) отнести к пласту музыкальной терминологической лексики единицы со звукоподражательным происхождением. Это такие слова и термины, как: и. зэелфаезмаен - звукоподражание и. мырфаезмаен - звукоподражание заел - звук Восходит к zarya- от базы zar- «звучать», «петь». См. zaryn, zcelyn, azcelyn, zcervatykk (1989: 294). и. Wadyn3y raesugd zaeltae zaelync dardyl wyngaeg kasmtty. - Красивые звуки свирелей разносятся далеко в тесных ущельях (Там же), и. Qus3ynaen asxsaevy susaeg zaeltaem. -Я буду прислушиваться к затаенным звукам ночи (Там же). и. Faexaessync maen dae zaeltae dard baerzond. - Твои (фандыра) звуки уносят меня далеко ввысь (Там же). и. ...Faelmaen zardy daergvaetin zael. - ... Протяжный звук ласкающего слух {«мягкого») пения (Там же). д. Je vzag - faenduri zaelaw. - Его речь - как звук фандыра (1989: 294). и. заелын : заелд - звучать (отзвук) Из др. иран. zar-ya-. Формально zcelyn относится к zaryn «петь», как mailyn «умирать» к тагуп «убивать», т.е. как медиальный глагол к активному (1989: 295). и. Zael3aen jae kady zaraeg 3yllaejy zaerdaety. - Хвалебная песнь о нем будет звучать в сердцах народа (Там же). и. зараег заелы - Льется песня. азаелын : азаелд азаелун : - давать отзвук; звучать, оглашать (про эхо). азаелд Ср. по значению arawyn, zaigaindor «эхо». Та же основа, что в zaryn «петь», с наращением преверба а-\ форма без преверба (zcelyn) также употребляется, но редко (1958: 97). д. Dae qurmi zardsej caewguti zaerdae azaelun kaenis. - Своей скорбной песней ты заставляешь дрожать сердца путников (Там же). и. Zserdaexalaen c asxast azaelydi xasxtyl еетзз wajtagd faqus is. - Раздирающий сердце вопль огласил горы и сразу смолк (1958: 96). д. Nijj azaelun саз і xwaenxtae. - Горы оглашает эхо (Там же). д. Gaekkugi wasun, maelgadi zarun ird boni saewmi azaeluj. - Кукование кукушки, птичье пение оглашают утро ясного дня (Там же). зыланг, заелланг заелланг - звон, звонкий Созвучие с нем. Klang «звон», латинск. clangor, перс, jarang «звон», «бряцание» объясняется звукоподражательной природой этих слов (1989: 319). и. Уаед аем фаекаст ноджы рэесугъддаер, йае фаендыры заелтге та - ноджы зылангдаер («Фидиуагг 1976: 18). - Ей казалось, что звуки ее фандыра стали еще более прекрасными, еще более звонкими. и. Чырыны саер