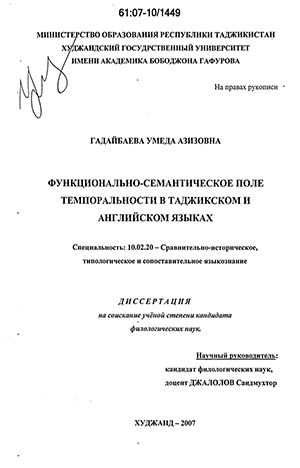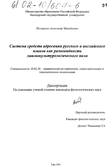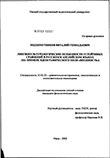Содержание к диссертации
Введение
Глава I. К проблематике исследования функционально семантического поля темпоральности в современном языкознании 13
1.1. О понятии времени в философии и физике 13
1.2. Концепция темпоральности в языкознании 16
1.2.1. Проблема теории поля в современной лингвистике 16
1.2.2. Исследование категории темпоральности в языкознании 26
1.2.3. Концепция темпоральности в классическом языкознании 28
1.2.4. Концепция темпоральности в современном языкознании 32
1.3. Структурно-иерархическая организация ФСП темпоральности в сопоставляемых языках 36
Глава II. Грамматическая категория времени глагола как компонент ФСП темпоральности в таджикском и английском языках 46
2.1. Общая функционально-семантическая характеристика категории темпоральности в системе глагола 46
2.2. Парадигмы глагольной темпоральности в сопоставляемых языках 54
2.3. Система выражения категории времени глагольными формами 65
2.4. Соотношение категориальных значений времени и вида в сопоставляемых языках 69
2.4.1. Из проблематики теории вида в зарубежной англистике 70
2.4.2. Из проблематики теории вида в русском и таджикском языкознании 79
2.5. Эквивалентные отношения между сопоставляемыми языками в сфере глагольной темпоральной семантики 96
Глава III. Лексические и синтаксические средства выражения темпоральных отношений в таджикском и английском языках 111
3.1. Лексические средства выражения темпоральных отношений в таджикском и английском языках 111
3.1.1. Имена существительные с темпоральным значением в таджикском и английском языках 111
3.1.2. Наречия с темпоральным значением в таджикском и английском языках 115
3.1.3. Структура значения темпоральных дейктических наречий now и then 118
3.1.4. Предлоги, выражающие темпоральные отношения в сопоставляемых языках 121
3.2. Синтаксические средства выражения темпоральных отношений в таджикском и английском языках 131
3.2.1. Семантические отношения в структуре темпоральных словосочетаний 136
3.2.2. Формирование временных значений, детерминирующихся беспредложными конструкциями в глагольных словосочетаниях 142
Заключение 145
Список использованной литературы и источников 148
- Проблема теории поля в современной лингвистике
- Парадигмы глагольной темпоральности в сопоставляемых языках
- Эквивалентные отношения между сопоставляемыми языками в сфере глагольной темпоральной семантики
- Формирование временных значений, детерминирующихся беспредложными конструкциями в глагольных словосочетаниях
Проблема теории поля в современной лингвистике
Прежде чем раскрыть в определении основные концепции, существующие в языкознании, необходимо останавливаться на освещении теории поля в языкознании, непосредственным проявлением и объектом исследования которого является функционально-семантическое поле темпоральности.
В последние годы в лингвистике теория поля рассматривается как перспективное направление. Об этом свидетельствует огромное количество исследований, посвященных как общим, так и частным аспектам данной теории. Всё это говорит о том, что она находится в русле современных течений лингвистической мысли, уделяющих особенное внимание семантической стороне языка. Именно возрождение на более высоком уровне интереса к семантике выводит теорию поля на передовые рубежи науки о языке.
Следует отметить, что сфера применения теории поля охватывает практически все разделы науки о языке, что, безусловно, показывает её преимущество перед другими теориями. Поэтому теория поля представляет собой перспективное научное направление, отвечающее всем требованиям, предъявляемым к научной теории, что соответствует современным тенденциям развития лингвистики.
Однако судьба этой теории весьма знаменательна, ибо с самого её возникновения вокруг неё не утихают дебаты. Это совершенно справедливо, ибо сама теория отличается от других широким охватом исследовательского материала. Более того, число конкретных исследований в данной области непрерывно растёт, появляются различные, порой противоречивые взгляды на этот счёт. Отсюда применение теории поля к конкретному языковому материалу требует предварительного обсуждения некоторых узловых аспектов данной теории и принятия предварительных умозаключений, без которых переход к анализу практического материала представляется преждевременным.
Прежде всего, историю развития теории поля можно условно разделить на два этапа. На первом этапе, главным образом в основополагающих рабо-тах Г. Ипсена, И. Трира, Л. Вайсгербера, В. Порцига, О. Духачека и других, поле рассматривалось как «совокупность содержательных единиц (понятий, слов), покрывающая определённую область человеческого опыта» [Ахмано-ва, 1966:334.].
Как видно из вышеизложенного, теорией поля начали заниматься немецкие лингвисты; анализ их работ позволяет сделать вывод, что каждый исследователь давал свою интерпретацию данной теории, и поэтому, разнобой в их мнениях является очевидным. Так, например, одна группа исследователей трактовала данный термин как совокупность понятий, другая группа -как совокупность слов. При этом Г. Ипсен отмечал, что это лексико-грамматическая группа слов [Ipsen, 1924], Й. Трир [Trier, 1931], О. Духачек [Duchachek, 1960] - лексико-семантическая группа слов, В. Порциг - лекси-ко-синтаксическая группа слов [Porzig, 1934, Bd.58].
Основная цель И. Трира - основоположника данной теории - при разработке собственной концепции заключалась в поисках критерия для вычленения лексических единиц из общего лексического фонда, которые впоследствии объединялись им в так называемое «словесное поле», заполнившие целиком диапазон «понятийного поля». Все это было разработано на примере анализа группы слов с общим значением «разум, являющийся компонентом понятийного поля «интеллект» [Trier 1931].
По мнению А.А. Уфимцевой, подобная попытка системного изучения лексики с определением смысловой структуры языка свелась к отказу от языка в пользу логики, ибо исходя из чисто логического осознания содержательной стороны языка невозможно создать метод языковых семантических полей. [Уфимцева, 1962:44].
Наиболее близкой к области языка считается методика, предложенная В. Порцигом, который выделял семантические поля на основе языковых связей между словами [Porzig 1934].
Следует указать, что указанные концепции поля противоположны по исходным посылкам и общей ориентации, ибо в одних анализируется понятийная сторона языка, в других - его словарный состав.
Обзор литературы показал, что наиболее полно теория поля разработана в трудах русских лингвистов: А.В. Бондарко, Е.В. Гулыги и Е.И. Шен-дельса, М.М. Гухман, Ю.Н. Караулова, Г.С. Щура и др. Все эти работы по праву принадлежат ко второму этапу развития истории теории поля. Эта теория находит свое применение во многих разделах науки о языке, а именно: в типологических исследованиях [Жеребков, 1977:42-53; Кошевая; Дубовский, 1980], ареальных [Тарасова, 1978:71-75], диахронических [Расторгуева, 1979: 65-73; 1980] и особенно стилистических исследованиях [Глушак, Семенова, 1980; Гречко, 1978; Раевская, 1973; Семенова, 1977].
Все это свидетельствует о перспективности полевых исследований. При исследовании языкого материала в рамках теории поля немаловажным моментом является проблема определения лингвистического статуса поля, ибо от ее решения зависят многие узловые проблемы теории поля, а именно:
- определение границ поля; номенклатура его конституентов; характер отношений между его конституентами;
- взаимоотношение теории поля и некоторых других лингвистических категорий и т.д. Единой точки зрения на лингвистический статус поля не существует, так как данная проблема в широком масштабе специально, насколько нам известно, не рассматривается в научной литературе. Чтобы установить лингвистический статус поля, необходимо разграничить поле и смежные явления, такие как функционально-семантическая категория и категория грамматическая. Наряду с этим, одним из главных вопросов, связанных с данной проблемой и от решения которой зависит наше дальнейшее исследование, является следующий вопрос: относится ли поле к языку или оно принадлежит к речи.
Рассмотрение статуса поля именно в таком аспекте опирается на замечание Э. Косериу о том, что «многие трудности и противоречия современной лингвистики во многом обусловлены именно тем, что не всегда показывается, к какому именно объекту относятся те или иные полученные лингвистами результаты, а именно: относятся ли они к языку как к системе, к текстам или же к речи» [Селиверстов, 1980: 278].
Настоящее заключение, сделанное Э. Косериу, вполне оправдано, так как теория поля, как и любая другая научная теория, динамична. Она находится в постоянном развитии и поэтому, несмотря на многочисленные полевые исследования, еще нуждается в дополнениях и уточнениях.
В частности, это касается и затронутой в настоящем разделе диссертации проблемы лингвистического статуса поля.
Если обратиться к первой проблеме, а именно к проблеме соотношения поля, функционально-семантической категории и грамматической категории, то вырисовывается следующая картина.
Поскольку в основе всех перечисленных категорий лежат грамматические или морфологические категории, то в лингвистической литературе существует тенденция трактовать их как своего рода расширенные грамматические категории. Отмечается, например, что функционально-семантическая категория позволяет пересмотреть «традиционную точку зрения на понятие грамматической категории» и расширить рамки его трактовки до функционально-семантической категории» [Рассказова, 1979: 48].
Другое мнение на этот счет состоит в том, чтобы трактовать подобные поля как восполнение соответствующей грамматической категории. [Медведева, 1978: 32].
Обзор теоретической литературы по данному вопросу позволяет сделать вывод о том, что при подобных трактовках понятия поля возникает опасность смешения вышеназванных категорий. Поэтому в настоящей работе необходимо высказать наше отношение к данному вопросу.
Как отмечалось выше, понятие функционально-семантической категории впервые было введено А.В. Бондарко, который использует также и термин «поле». Рассмотрим эти два термина более детально. Термин «поле» трактуется А.В. Бондарко как способ существования функционально-семантической категории [Бондарко, 1971]. Следовательно, эти два понятия у данного ученого отождествляются. В таком случае функционально-семантическую категорию можно интерпретировать как некую скрытую языковую систему, а поле - как её проявление на поверхности. Иногда А.В. Бондарко и другие лингвисты употребляют оба термина как абсолютные синонимы [Бондарко, 1969: 246-256; Mattusch, 1977: 132-140]. Если обратимся к другой паре терминов, а именно к функционально-семантическим категориям и грамматико-лексическим полям, то анализ работ наших предшественников убедительно показал, что эти явления используются ими как идентичные. Однако следует заметить, что термины, используемые для их обозначения, не отражают данной идентичности.
Парадигмы глагольной темпоральности в сопоставляемых языках
Как отмечалось выше, для Ф.Р. Палмера [Палмер,1965] временная форма глагола (Tense) есть одна из четырех категорий, которые он рассматривает как «первичные структурные компоненты» (-primary pattern) простого глагольного словосочетания, в состав которого могут входить полнозначный глагол и вспомогательные глаголы be, have, do. «Tense» может войти в комбинации с другими категориями, такими, как прогрессив /непрогрессив, аспект, перфект/неперфект и залог. В поздних работах Ф.Р. Палмер [Палмер, 1974] рассматривает прогрессив/непрогрессив как категорию «аспекта», а перфект/неперфект как категорию «фазы». Каждая из этих категорий включает бинарную оппозицию и имеет формальный признак; по этому признаку какой-либо формальный показатель выделяет маркированную глагольную форму. Если этот показатель отсутствует, глагольная форма является немаркированной в данной категории. Каждая первичная модель [Pattern] содержит один член и какую-либо из четырех категорий; т.е. обязательно представлены оппозиции или настоящего/прошедшего времени, или прогресси-ва/непрогрессива, или перфекта/неперфекта, или актива/пассива. Таким образом, складывается система из 16 форм; каждая из образующих эту систему форм может быть отнесена к одному из двух «наборов», которые состоят из 8 компонентов сами эти «наборы» могут выделяться четырьмя путями, в соответствии с указанными четырьмя категориальными оппозициями.
Разработав эту модель, Ф.Р. Палмер исследует употребление выделенных им четырех категорий. Как указано выше, категория времени сводится им к оппозиции настоящего/прошедшего является морфологически маркированной. Употребляется же данная категория, по Ф.Р. Палмеру, в трех функциях: 1) чисто временное отношение; 2) согласование времен, а также обо-значеие «неочевидного»; 3) нереальность в условиях придаточных предложений, а также желательность [Palmer,1974: 86-87].
По этой теории не остается пустых клеток для будущего времени. Аналитическая конструкция или, точнее, аналитическое слово, приводимые в традиционных грамматиках (shall/will + Infinitive), рассматриваются Ф.Р. Палмером как вторичная модель, которая возникает в результате взаимодействия первичной модели и вспомогательных глаголов модального значения.
Четыре указанных выше категории входят и во вторичные модели (patterns); при этом глагольная категория времени (tense) оказывается маркированной и в составе модального глагола - в рамках той же оппозиции настоящего/прошедшего, хотя конкретное временное значение может относиться и к будущему [Palmer, 1974: 78].
Джуз [1964] придерживается сходных взглядов, хотя выделяемые им категории отличны от установленных Ф.Р. Палмером. «Схема» Джуза для финитного глагола содержит шесть категорий: время (tense), утверждение (assertion), фаза (phase), вид (aspect), залог (voice) и функция (function). Каждая категория имеет маркированный и немаркированный член. В категории времени оппозиция складывается между «немаркированным» актуальным (actual) и маркированным отдаленным во времени (remote) (маркером является -d); в категории утверждения (assertion) имеется оппозиция между немаркированным фактическим (factual) и маркированным относительным, (relative) (маркером является shall/will, may, can, must и т.д.); в категории аспекта - оппозиция «родового» (generaticu) и «временного» (temporar) (маркером является be - N); в категории функции (function) оппозиция проходит «про предикатами» (propredicates) и собственно глаголами. Под «пропредикатами» Джуз понимает характерный для английского языка вспомогательный глагол - заместитель, употребленный вместо основного глагола.
При подобном строго структуральном подходе глагольная временная форма оказывается чисто морфологической категорией, которая в английском языке имеет только два члена оппозиции: настоящее и прошедшее. Различия между подходами отдельных исследователей состоят в основном в определении того, какой из этих двух противопоставленных членов является маркированным.
Для обоих членов оппозиции, формирующих глагольную категорию времени, устанавливается ряд функций и употреблений. Так, например, Квэрк, Гринбаум, Лич и Свартвик [1982, 85] приводят следующие употребления настоящего времени;
а) настоящее, без отношения к определенному времени;
б) мгновенное простое настоящее время;
в) простое настоящее время, относящееся к будущему времени;
г) простое настоящее время, относящееся к прошедшему времени.
Некоторые лингвисты обращают также внимание на важную роль временных определителей, которыми традиционные грамматисты пренебрегают.
Ота Акира [1963] исследовал взаимодействие временных форм и наречий времени. Кристал [1966] уделяет особое внимание тесной связи между временами и временными определителями; он, отмечает, что более чем в 75 % всех случаев временные определители являются обязательными для однозначного выражения временных значений в английском языке.
В таджикском языкознании названный подход не получил распространения. На исследователей таджикского глагола не оказали влияния опыты структурного анализа, нашедшие определенное распространение в русской грамматике [см. Грамматика современного русского литературного языка. М, 1970; Русская грамматик, 1982; Апресян, 1974.] Следует отметить, что с чисто структурной точки зрения, проиллюстрированной выше на материале английской грамматики, в таджикском языке тоже легко выделяется первичная оппозиция двух чисто временных простых (неаналитических) глагольных форм непрошедшего (настоящего будущего) и прошедшего; все остальные глагольные формы являются аналитическими, т.е. соответствуют английским «phrases». Такой подход не вносит, однако, ничего нового в описание системы таджикского глагола, будучи очевидным. В то же время объективно существующая в системе таджикского глагола оппозиция прошедшего/непрошедшего без первичной дифференциации настоящего и будущего показывает, что именно это противопоставление может рассматриваться как глоттогонически первичное. Следовательно, аргументация англистов, настаивающих на том, что в основе систем английского глагола лежит противопоставление двух кагориальных значений (прошедшего/непрошедшего), отнюдь не лишена основания. Таким образом, типология, данные о таджикском глаголе как бы являются доводом в пользу одной из теорий, предложенных для описания английского глагола.
Не существовало единого мнения по вопросу о природе категории времени также у сторонников так называемой «порождающей грамматики». Н. Хомский [1965, 42] рассматривал «время» как распространение «вспомогательное», он дал следующую формулу:
Modal
Aux Tense Perfect t
Progressive.
Предложения, согласно этой формуле, обязательно содержат временную форму и могут содержать модальные вспомогательные глаголы, «перфект» и «прогрессив». Эти элементы должны появляться в порядке, который указан в формуле. В ней нет будущего времени, a shall/will являются реализацией модального признака. И перфект, и «прогрессив» рассматриваются Хомским как вид (aspect).
Сторонниками порождающей грамматики выдвигались и другие теории времени. Среди них можно выделить теорию Кипарского [1968], который считает, что категория времени в самом деле является наречием времени на глубинном уровне и синонимична таким наречиям и обстоятельствам, как now (теперь), then (он вак,т), at some future time (в некотором будущем времени). Он считает это характерным признаком языков, в которых время (tense) было отдельной составляющей (constituent). Он отмечает, что такой анализ не подходит к современным индоевропейским языкам, поскольку категория времени как отдельная составляющая «придает этим языкам псевдоагглютинативный характер, не находящий подтверждения в их фонологии» [Там же, 1968: 44]. Отметим, что попытки разобраться в том, является ли время «составляющей» или ее признаком, носит несколько схоластический характер, так как разделение самих этих единиц далеко не бесспорно. О неточности предлагаемого Кипарским решения говорит то, что многие из современных индоевропейских языков содержат явные черты агглютинации.
Эквивалентные отношения между сопоставляемыми языками в сфере глагольной темпоральной семантики
Основным содержанием проведенного исследования является специализированное описание способов выражения частных аспектуальных и темпоральных значений, учитывающее достижения в изучении каждого из сопоставляемых языков. Такое детальное сопоставление, выполненное строго контрастивным методом, не только представляет с единой точки зрения обширный и нужный, лингвистический материал, но и открывает весьма широкую типологическую перспективу. Повторим, что адекватное сопоставительное описание материала, выполненное с учётом новейших достижений кон-трастивной лингвистики, мыслится как важнейший результат предпринятой работы.
Как указывает Б.А. Серебренников, «современный период развития мирового языкознания характеризуется повышенным интересом к проблеме универсалий» [Серебренников, 1983: 298]. Далее Б.А. Серебренников с полным основанием настаивает на необходимости различения универсальных явлений и лингвистических универсалий. Это положение весьма наглядно проявляется в видо-временной сфере. С одной стороны, мы имеем действие и состояние как универсальные явления, поддающиеся структурированию с точки зрения некоторой общей абстрактной «картины мира» [Сильницкий, 1983: 54-65]. С другой стороны, имеется множество различающихся между собой по своей организации видо-временных систем. Некоторые конкретные моменты могут здесь претендовать на статус лингвистической универсалии: так, во всех сопоставленных языках имеется более или менее специализированная глагольная форма для передачи значения длительности. На большую распространенность грамматикализованных передач значения длительности в свое время указывал В. Дресслер [Dressier, 1968: 75-76]. Универсальной, по-видимому, является и переплетенность видовых и временных значений в грамматических формах глагола. Конечно, контрастивное исследование по своей природе не направлено на выявление универсалии, так как оно охватывает небольшое число языков. Оно могло бы, впрочем, подтверждать всеобщность тех или иных ранее выдвинутых универсалий. Но и это не представляет большого интереса, так как сформулированные универсалии, касающиеся видовременной системы, до сих пор имели слишком общий характер. Наш материал подтверждает, следующую универсалию: если имеется некоторое видовременное противопоставление в формах изъявительного наклонения, то же противопоставление имеется и в формах изъявительного наклонения и т.п. [Успенский, 1970: 15]. Ясно, что подтверждение данного вполне очевидного тезиса не дает ничего нового для характеристики сопоставляемых языков. Поэтому более интересно обратиться к так называемым диахроническим универсалиям, к «типовым линиям... изменений» [Серебренников, 1983: 303]. Известная предыстория сопоставляемых нами видов-ременных систем позволяет сформулировать вывод о том, что в основе их развития лежит перемена того семантического признака, который выступает в роли доминанты грамматической оппозиции.
Особая и чрезвычайно актуальная проблема состоит в выяснении того, какие из исследуемых явлений связаны между собой. К данному вопросу следует подходить с максимальной осторожностью, это настойчиво подчеркивает Б.А. Серебренников [Серебренников, 1983: 273-313]. Вместе с тем он отмечает, что «было бы, конечно, неверно утверждать, что признаки, создающие тот или иной тип языка, никогда не бывают тесно между собой связанными» [Серебренников, 1983: 293]. В пределах видо-временных систем системность превалирует. Это проявляется в регулярности перекрещивания временных и видовых категориальных осей, в единстве функциональной направленности темпорально-аспектуальной сферы, в четкости оппозиций, характеризующих ее грамматическое ядро. Проявление системности состоит и в том, что определенный набор полностью и частично грамматикализуемых значений является в значительной степени обязательным; аспектуальную сферу с бинарной оппозицией видов и весьма значительным количеством способов действия и противостоящую систему с ее богатством видовых оппозиций и практическим отсутствием характеризованных способов действия (СД). Конечно, далеко не все в видовременной сфере системно. Так, для таджикского глагола вряд ли можно говорить о том, что сложные деепричастные глаголы в своей совокупности образуют систему с отчетливыми принципами организации; то же относится к приставочным СД, число которых различными исследователями определяется по-разному.
Проведенное обсуждение ряда узловых типологических проблем ведет к постановке вопроса о том, в чем же состоит существенное различие между тесно связанными друг с другом типологией и контрастйвистикой. Представляется, что это различие состоит в следующем. Типология сравнивает («сопоставляет») языки с целью установления общих закономерностей, тенденций, принципов. Контрастивистика призвана показать различия в конкретном проявлении этих общих закономерностей, тенденций и принципов.
Разумеется, изложение в согласованном плане столь гетерогенных данных ставит перед исследователем ряд теоретических проблем, побуждающих в порядке интерпретации материала дать ответ на ряд общетипологических и характерологических вопросов. Необходимо отметить, что некоторые теоретические моменты мы были вынуждены сформулировать в ходе самого исследования. Так, способы выражения, частных временных и видовых значений реально предстают в рамках некоторых обобщенных ситуаций. К этим ситуациям мы неоднократно обращаемся в ходе исследования, однако их инвентаризация - особая научная задача, требующая изучения некоторых других компонентов глагольного строя, в первую очередь - модальности.
Для окончательного установления соотношения видо-временных форм в каждом из исследуемых языков и их соотношения в сравнительно-сопоставительном апекте следует обратить особое внимание на решение следующих проблем.
Во-первых, вопрос о природе функций исследуемых категорий, особенно о том, как выполняются функции категорий одних языков в других языках, не располагающих подобными категориями.
Во-вторых, значительный интерес представляет обобщение типов взаимодействия видовых и временных форм и значений в сопоставляемых языках.
В-третьих, нельзя пройти мимо несколько более узкой проблемы - вопроса о составе категории вида в каждом из сопоставляемых языков, включающего также вопрос о видовых доминантах.
Функциональный аспект видо-временных образований.
Рассмотренный материал позволяет предложить ответ на вопрос о том, каковы функциональная нагрузка и значимость грамматических категорий времени и вида, способов действия, «глагольных характеров» и т.д. в сопоставляемых языках.
Прежде всего, речь должна пойти о том, какова грамматическая организующая роль данных категорий. Применительно к категории вида в данном вопросе нужно исходить из её согласовательной функции. В. Дресслер отчетливо показал, как именно, определенные аспектуальные формы глагола в целом ряде языков имплицитно подразумевают и эксплицитно требуют «согласования» с вполне определенными актантами и сирконстантами [Dressier, 1968: 56-95]. С этой позиции можно понять глубокие различия между флективными языками (типа английского) и аналитическими языками (типа таджикского).
При описании самых различных оттенков видовых значений и способов действия (СД) исследователи регулярно указывают на то, что глагол в конкретной форме обычно употребляется с теми или иными обстоятельствами, требует некоторых конкретных дополнений во множественном числе и т.п. Это и значит, что данная глагольная форма «живет» в условиях семантического согласования.
Формирование временных значений, детерминирующихся беспредложными конструкциями в глагольных словосочетаниях
В данном параграфе определяется роль беспредложных конструкций в структуре словосочетания в формировании темпоральности в таджикском и английском языках, рассматривается также зависимость формирования темпорального значения словосочетания от наличия или отсутствия определений.
Темпоральные значения формируются в простых и сложных конструкциях, объединяющих в себе субстантив /s/ или субстантивное единство /S+S/, атрибут /А/ и детерминированный глагол /V/. При соединении лексем в словосочетании учитывается их синтаксическая и семантическая дистрибуция. Основым фактом семантической сочетаемости выступают совместимость значений, сочетающихся словоформ, необходимых для реализации значения господствующего слова.
В глагольных словосочетаниях V+S формируются темпоральные значения разных оттенков. Беспредложные представлены значительной группой, сохранившейся как живое ядро в системе средств, передающих разные значения. Процесс развития предложных конструкций не вызывает полного исчезновения беспредложных. Беспредложные распространители занимают определенное место в формировании системы темпоральных отношений между предложными конструкциями. В словосочетаниях с актантом формируются текпоральные поля комплексивности итеративности, индетерминативности.
Конструкции со значением комплексивности по своей семантике достаточно однородны. Действие, процесс, состояние, выраженные в таких структурах глаголом, маркируются как заполняющие или незаполняющие отрезок времени, названный именной группой. Словосочетания, выражающие отношения комплексивности представляются следующимими типами V+Stmp,V+Stmp.. Детерминативными компонентами таких конструкций выступают глаголы разных семантических групп в зависимости от сочетаемости с детерминирующим компонентом соате, рузе, шабе интизор шудан.
В формировании отношений, складывающихся детерминированным и детерминирующим компонентами словосочетания, принимают участие как формы распространителей, грамматические свойства, подчиняющих лексем, так и лексическое наполнение обеих. При таком выражении возможно взаимовлияние компонентов аналитической структуры, которая создает сложную номинацию.
Анализ словосочетаний с детерминирующими формами показал, что выбор той или иной формы в большинстве случаев зависит от ее конкретного лексического наполнения, причем не только от существительного, но и от определения.
Значение приблизительного времени формируется беспредложными конструкциями в словосочетаниях типа: вакти (соат) худро интизор шудан, як соатидароз интизор шудан.
Каждая модель имеет варианты отличающиеся друг от друга одним из следующих признаков: принадлежностью зависимого слова к определённому подклассу слов, морфологическим оформлением зависимого олова, его позицией по отношению к главному слову, способом связи между компонентами. Так, модель «стержневое наречие + наречие», с точки зрения принадлежности зависимого слова к определённому подклассу слов имеет два варианта: стержневое наречие + количественное наречие и стержневое наречие + обстоятельственное наречие.
Адвербиальное словосочетание характеризуется особым расположением компонентов относительно друг друга. Изменение порядка слов может привести к разрушению этого словосочетания. В ряде случаев перераспределение компонентов служит целям более сильного выделения значения, выражаемого стержневым словом.