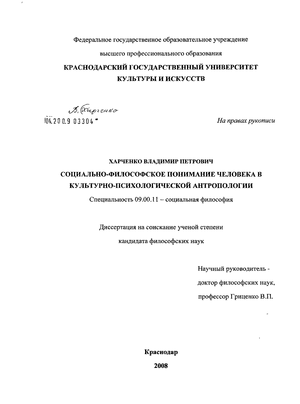Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Теоретико-методологические подходы к изучению человека в философской и социально-культурной антропологии 17
1.1. Природа человека в философско-методологическом измерении 17
1.2. Человек как субъект культуры в психологической антропологии XIX -XX вв 39
Глава 2. Диалектика персонального и социального 67
2.1. Бытие «Я» как социально-философская проблема 67
2.2. Диалогическая природа субъективной реальности: «Я» и «не-Я» ПО
2.3. «Я» и другой: природа социального 139
Заключение 177
Библиографический список 185
- Природа человека в философско-методологическом измерении
- Человек как субъект культуры в психологической антропологии XIX -XX вв
- Бытие «Я» как социально-философская проблема
- Диалогическая природа субъективной реальности: «Я» и «не-Я»
Введение к работе
Актуальность темы диссертационного исследования. Одной из главных задач философии является самопознание человека. Поэтому философское знание по своей сути антропологично, а проблема человека в ее различных аспектах составляет непременную часть социальной философии. Кроме того, сложился комплекс антропологического знания, который посвящен проблемам физической, психической, культурной антропологии. Автор придерживается позиции, что социальная антропология занимается изучением не только проблем архаического и традиционного социума, но и проблемами природы, бытия и существования современного человека. В этом смысле термины «социальная антропология», «социокультурная антропология», «культурная антропология» будем понимать как близкие по значению, хотя эти термины могут быть использованы и самостоятельно для указания на соответствующие аспекты рассмотрения, в зависимости от контекста. Термин «культурно-психологическая антропология» будем употреблять в более широком значении, чем собственно «психологическая антропология». В культурно-психологическую антропологию, кроме направления «Культура и личность», включаем все антропологические взгляды и теории XIX—XX вв., имеющие психологическое и психоаналитическое содержание и оказавшие влияние на формирование культурной антропологии как целостной системы взглядов.
Использование социально-философского анализа, с одной стороны, нацелено на обсуждение теоретико-методологических проблем, а с другой - на ассимиляцию того материала, который дает психологическая, культурная антропология и другие науки на современном этапе для построения целостной модели человека, его социального бытия.
Проблема человека в ее социально-философской формулировке актуальна для настоящего этапа исследования природы и сущности
человека . Философская рефлексия по поводу субстанциональных начал человеческого бытия и личности актуальна в силу особого состояния этой проблематики в науке в целом. Определение сущности человека в связи с новейшими данными в области биологических наук и технологическим вторжением в природу самого человека стало вновь актуальным. И если раньше, на предшествующем витке, обнаруживался социологизаторский крен, то на современном этапе вновь произошел возврат к биологизаторскому подходу . В то же время в современной социальной философии много положений, которые пришли из исторического материализма и, не утратив своего научного значения, требуют своей актуализации в соответствии с приростом знания.
Возрождению и новой интерпритации подверглись евгенические идеи о сохранении и улучшении «природы» человека, о совершенствовании и «переделке» традиционных параметрических, морфологических признаков человека3. По-новому встают вопросы об определении^ человека, о его универсальности и родовых признаках, о завершенности или незавершенности его природы.
Нового анализа требует социальность, взаимосвязь индивидуального и социального бытия человека, взаимосвязь микро- и макроструктур в
См.. Многомерный образ науки о человеке: на пути создания единой науки о человеке / под общ. ред. Б.Г. Юдина. М.: Прогресс-Традиция, 2007; Человек в современных философских концепциях: материалы Четвертой Междунар. конф. Волгоград, 28-31 мая2007 г.: в 4т. Т. 2/отв. ред. Н.В. Омельченко. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007; Корольков А.А. Духовная антропология. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005 и др.
2 См.: Фогель Ф., Мотульский А. Генетика человека. Т. 3. М., 1990; Струнников
В.А. Клонирование животных: теория и практика // Природа. 1998. № 7; Меркулов И.П.
Когнитивная эволюция. М., 1999; Лоренц К. Агрессия. М., 1994; Красиков В.И.
Антропологическая детерминация экстремизма // Философский пароход: материалы XXI
Всемирного философского конгресса «Философия лицом к мировым проблемам»:
доклады российских участников. Стамбул, 10-17 авг. 2003 г. М.; Краснодар, 2004. С. 152—
157.
3 См.: Гнатик Е.Н. Философские проблемы евгеники: история и современность //
Вопросы философии. 2005. № 6. С. 93-106; Лолер Дж. Коэффициент интеллекта,
наследственность и расизм. М.: Прогресс, 1982.
современном социуме, особенно в связи с новыми информационно-коммуникативными технологиями и тенденциями глобализации .
Глобализационные процессы вызывают кардинальные трансформации не только в образе жизни, поведении, мировоззрении людей, но и затрагивают через технологические процессы саму субстанциальную природу человека, личности. В современную эпоху «идентичность» человека осознается не как «метафизическая сущность», а как «открытый проект». Экзистенциальная тревога начала XXI в. породила ответную реакцию в виде своеобразного «антропологического протеста». Если долгое время шел спор об оправдании социальной антропологии в связи с политическими спекуляциями вождей Третьего рейха, то на рубеже XX-XXI вв. произошел «антропологический бум». Появилось множество книг с названиями «Социальная антропология», «Философская антропология», «Педагогическая антропология», «Духовная антропология», «Психологическая антропология», «Интегративная антропология», «Антропология визуальной культуры» и пр. Это можно рассматривать как своеобразный гуманитарный ответ на те кризисы и вызовы, которые бросает человеческой природе и идентичности эпоха глобализации. Естественно, что глобальные проблемы человеческой природы нуждаются, в первую очередь, в социально-философском ее осмыслении.
Социально-философской разработки ждут и современные методологические подходы, такие как междисциплинарность, различие и совместимость социального, естественно-научного и гуманитарного подходов, современный редукционизм и его специфика. Технократическое и сциентистское наступление на «природу» человека взывает к противоположной реакции - психологическому, экзистенциальному,
См.: Гипертекст // Глобалистика: Международный междисциплинарный энциклопедический словарь. М., 2006; Современная ноосферная среда и проблемы когнитивной активности в контексте информационной свободы // Информационная культура: процессы теоретического осмысления. Краснодар: КГУКИ, 2001. Вып. 11. С. 150-167.
феноменологическому подходам, хотя ответная реакция уже получила воплощение и на уровне учебной литературы 5.
Таким образом, актуальность темы состоит в том, что существует очевидная необходимость провести социально-философский анализ культурно-антропологического понимания человека, основных концепций в этой области, обновления принципов традиционной методологии. Теорией и* жизнью востребован такой подход к проблеме человека, который бы преодолевал сиюминутные крайности и предлагал эффективное общее направление исследования человека. Заявленная проблема имеет научно-теоретическое и социально-практическое значение, что и обусловило выбор темы исследования, его объекта и предмета.
Степень научной разработанности проблемы. Философско-методологические проблемы антропологии разрабатывались в отечественной философии XX в. такими авторами, как Г.С. Батищев, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, П.И. Зинченко, Э.В. Ильенков, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Н.Н. Трубников, И.Т. Фролов и др. Особую роль для антропологии сыграл деятельностный подход, обоснованный на традициях и принципах марксистской философии. Труды отечественных психологов во многом имели философско-методологический характер и оказали большое международное влияние.
Возникновение в 90-х гг. XX в. в отечественной науке такой отрасли гуманитарного знания и дисциплины, как социальная антропология, было неслучайным. Так преодолевалась политизация и идеологизация «проблемы человека» и компенсировался недостаток человекознания в самом гуманитарном знании. Важный вклад в становление этой дисциплины в современной России внесли B.C. Барулин, Ю.Г. Волков, Ф.И. Гиренок, А.А. Корольков, А.И. Кравченко, К.Н. Любутин, Б.В. Марков, Н.В. Омельченко, В.В. Шаронов и др.
5 См.: Пигров К.С. Социальная философия: учеб. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005.
Западная культурная антропология отличается тем, что там конституирование этой традиции произошло ранее и значительнее. Биологизаторский подход в этой традиции в качестве субъекта социального и культурного творчества рассматривает организм (А. Батиан, Л. Фробениус), расу и ее признаки (О. Аммон, Л. Вольтман, А. Гобино, Ж. Ляпуж, С. Сенгору, X. Чемберлен,); его этологический вариант базируется на признании у человека врожденных базисных поведенческих свойств (Н. Блуртон-Джонс, Дж. Боулби, М. фон Кранах, К. Лоренц У. Макгрю, Е.Р. Соренсен, У.В. Фризен, Р. Хайнд, И. Эйбл-Эйбесфельдт, П. Экман). Интеракционизм в качестве творца культурных форм и новаций признает личность, «Я» во множестве его интеракций (Дж. Болдуин, У. Джеймс, Ч.Х. ' Кули, Дж.Г. Мид).
В середине XIX в. возникла психология народов (В. Вундт, М. Лацарус, X. Штейнталь), в которой основным субъектом стал дух народа.
В психоаналитической концепции 3. Фрейда и его последователей (В. Райх, О. Ранк, Г. Рохейм) энергия творчества уходит своими корнями в биопсихическую природу индивида. Это нашло своеобразное переосмысление в психологической антропологии (Р. Бенедикт, Дж. Доллар да, М. Мид), в психоанализе К. Юнга, социальном психоанализе Э. Фромма.
Позитивность психологического направления (Р. Бенедикт, К. Дюбуа, А. Кардинер, К. Клакхон, Р. Линтон, М. Мид, М. Спиро, И. Халлоуэлл, Дж. Хонигман) связана с фундаментализацией роли личности, с анализом влияния воли, эмоций, чувств, познания, ментальности в культуре, исследованием языка, механизмов культурной трансляции и коммуникации. Кроме того, постепенно сложились обобщающие труды (С. Ньютон, Л. Спиер, И. Халлоуэлл, Дж. Хонигман и др.), в которых психологическая антропология предстала в виде полноценной теории.
Для всей традиции гуманитарных наук, бесспорно, фундаментальное значение имеют положения о природе человека, разработанные в
классической философии. Классика исходила из приоритета сущности
человека над существованием. В классической философии обозначились
линия индивидуалистического и линия социального понимания человека,
линия материализма и линия идеализма. В отечественной философии XX в.
доминировала марксистско-гегельянская парадигма понимания человека,
переосмысленная с позиции философской антропологии Л. Фейербаха. С
теоретической точки зрения общезначимостью обладали принципы
исторического материализма, деятельностного подхода и диалектики.
Важнейшими категориями, раскрывающими диалектику персонального и
родового бытия человека в этой традиции, являются «социальность», «труд»,
«общение». Для становления этих категорий важную роль сыграли воззрения
Г. Гегеля, Э. Дюркгейма, К. Маркса, Л. Фейербаха, Ф. Энгельса и др.
Постепенно в рамках отечественного марксизма были в какой-то мере
ассимилированы принципиальные новации психоанализа, экзистенциализма,
философской антропологии, аксиологии. Поэтому марксистская философия
человека 70-80-х гг. XX в. имела достаточно интегративный характер.
Однако использование в исследованиях исключительно
макросоциологического и макроэкономического анализа, идеологическая зашоренность и крен в сторону методологизма обусловливали ряд недостатков, которые сказались в последующие десятилетия. В связи с этим следует указать, что в современной философии ярче всего интерес к проблеме индивида, его прав и свобод, проявил экзистенциализм (А. Камю, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс), персонализм (М. Бубер, Д. Гильдебранд, Ж. Лакруа, Э. Левинас, Г. Марсель, Э. Мунье), постмодернизм (Ж. Делёз, Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар и др.). Наиболее известная критика омассовления и тоталитарных тенденций дана в работах X. Арендт, Р. Арона, Л. фон Мизеса, X. Ортеги-и-Гассета, Ф.А. Хайека.
Если в XIX в. стремление к объективности часто ассоциировалось с антипсихологизмом, то на современном этапе углубленному исследованию субъективной реальности, диалектике субъективного и объективного, на наш
взгляд, не достает некоего психологического, экзистенциального подтекста. Проблема неочевидной данности «не-Я» для «Я» наиболее радикально была сформулирована в философии Д. Юма и Дж. Беркли, а позже Ж.-П. Сартра. Принципиальное решение этой проблемы было намечено в феноменологии Г. Гегеля, Э. Гуссерля. В то же время общетеоретические вопросы структуры индивидуального сознания, и ценностно-смысловой структуры субъективной реальности составляли прерогативу психологии и философии М.М. Бахтина, М. Бубера, С.Л. Выготского, Ж.Ж. Лакана, И.П. Петровского, Л.С. Рубинштейна, П.В. Симонова, 3. Фрейда и др.
В течение последних десятилетий XX в. вопрос о природе человека представлялся метафизическим с точки зрения позитивистов и других сциентистски-ориентированных мыслителей, он считался лишенным какого бы то ни было научного смысла (С. Дж. Гоулд, С. Линкер и др.). Подобные точки зрения были характерны и для отечественной философии 50-90 гг. XX в.6, но в конце XX - начале XXI в. вновь обострился интерес к вопросу о природе и сущности человека. Радикальный сдвиг произошел в нескольких плоскостях: во-первых, развитие отечественной тендерной теории субъекта7; во-вторых, речь идет о тех новациях, которые внесла постнеклассическая методология: постмодернизм8, синергетика9; в-третьих, это глобалистика и
6 См.: Тарасова К.Е., Черненко Е.К. Социальная детерминированность биологии
человека. М., 1979; С чего начинается личность / под ред. Р.И. Косолапова. 2-е изд. М.:
Политиздат, 1984; Крапивенский С.Э. Социальная философия. Волгоград: Комитет по
печати, 1996; Барулин B.C. Российский человек в XX веке. Потери и обретения. СПб.:
Алетейя, 2000.
7 См. например: Жеребкина И. Субъективность и тендер: тендерная теория
субъекта в современной философской антропологии: учеб. пособие. СПб.: Алетейя, 2007;
Брандт Г. Философская антропология феминизма. Природа женщины. СПб.: Алетейя,
2006; Антропологические конфигурации современной философии: материалы науч. конф.,
3-4 дек. 2004 г. М.: Современные тетради, 2004.
8 См. например: Философия без границ: сб. ст.: в 2 ч. / под ред. В.В. Миронова /
сост. Ю.Д. Артамонова, А.В. Воробьев, А.А. Костикова. М.: Изд-ль Воробьев А.В., 2001; Томас
К. Одеы. После модернизма. Что впереди? Минск, 2003.; Ильин И. Постмодернизм: от
истоков до конца столетия. М., 1998.
9 См.: Общая теория неоднородности и синергетика об организации систем: по
материалам Международного семинара / под общ. ред. Н.М. Солодухо. Казань: Изд-во
Казан, гос. тех. ун-та, 2006; Синергетическая парадигма. Синергетика образования. М.:
Прогресс-Традиция, 2007; Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и
искусстве. М.: Прогресс-Традиция, 2002 и др.
связанная с ней проблематика ноосферы . Природа и сущность человека стали объектом изучения в ряде современных диссертационных исследований11, что подчеркивает актуальность избранной нами темы.
Однако, несмотря на пристальное внимание к названной проблематике, остается актуальной задача рефлексивного анализа понятия человека в современной философской антропологии в связи с пересмотром научных парадигм и аксиологической инверсией в этой области.
Объектом исследования являются социально-философские и культурно-антропологические концепции человека.
Предметом исследования выступает природа и сущность человека в социально-философских и культурно-психологических концепциях.
Цель диссертационного исследования - проанализировать с социально-философских позиций основные подходы к пониманию сущности и природы человека в философской и культурно-психологической антропологии и на этой основе определить векторы построения авторской модели человека.
В соответствии с объектом, предметом, целью исследования были поставлены следующие задачи:
конкретизировать основные методологические подходы к изучению человека в социальной философии;
проанализировать социально-философские интерпретации человека как субъекта культуры в психологической антропологии XIX-XX вв.;
охарактеризовать основные параметры персональной реальности с точки зрения социального бытия «Я»;
10 См.: The challenges of globalization: rethinking nature, culture, and freedom / editedby
Steven V. Hicks and Daniel E. Shannon. Blackell Publishing, 2007; Суминова Т.Н. Ноосфера:
поиски гармонии. М.: Академический проект, 2005; Исакова Н.В. Феномен глобальности в
философии русского космизма: автореф. дисс. ... канд. филос. наук. Краснодар, 2004 и др.
11 Мозговая Т.Н. Сущностная характеристика человека в онтологии культуры:
автореф. дисс. ... канд. филос. наук. Ростов н/Д, 2008; Никишина Т.Г. Проблема человека
в парадигме западного антропоцентризма: автореф. дисс. ... канд. филос. наук. Ростов
н/Д, 2008; Трофимова Л.И. Духовность в бытии человека: автореф. дисс. ... канд. филос.
наук. Иваново, 2008; Микеева О.А. Индивидуализм как парадигмальный принцип
социального познания: автореф. дисс. ... канд. филос. наук. Ставрополь, 2008 и др.
раскрыть содержание субъективной реальности и ее структуру в рамках образа персонального бытия «Я»;
выявить основные связи в диалектике персонального и социального бытия.
Теоретическую и методологическую базу исследования составили положения диалектического и исторического материализма в их современной, неклассической интерпретации. Принципы социальной философии и антропологии марксизма использовались автором с учетом достижений психоанализа, экзистенциализма и феноменологии для более глубокого и систематизированного анализа персонального и социального бытия человека, личности. Наибольшее влияние, с этой точки зрения, на автора оказал социальный психоанализ Э. Фромма ".
Методологическую основу диссертационного исследования составляет материалистическое понимание истории и материалистическая диалектика, основными принципами которой являются: принцип объективности, всесторонности, развития, взаимосвязи исторического и логического. Ведущая роль логического метода заключалась в том, что, сравнивая и анализируя различные философские и культурно-психологические концепции, автор в то же время стремился к созданию собственной теоретической модели человека, личности. При этом учитывался социокультурный подход, определяющий содержание и роль личности внутри общества.
Научная новизна диссертационного исследования:
конкретизированы традиции антропологического анализа в социальной философии, установки которых лежат в основе дифференциации знания на гуманитарное и социальное;
Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990; Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990; Фромм Э. Из плена иллюзий // Душа человека. М., 1992; Фромм Э. Человек для самого себя // Психоанализ и этика. М., 1993 и др.
обосновано, что психологизация науки, первоначально рассматриваемая некоторыми исследователями как помеха объективному анализу, впоследствии становится основой для развития антропологии в культурно-психологическом направлении XIX-XX вв., и эта закономерность имеет важное значение для современного этапа развития социально-философского знания о человеке;
определены основные атрибуты персональной реальности в личностном аспекте: самоидентификация, уникальность, универсальность, креативность, свобода, рефлексивность;
модальности «Я» и «не-Я» интерпретированы как внутренние, неустранимые, диалогические основания персонального бытия личности; обоснована трактовка «Я» и «не-Я» как формы полагания внешнего социального бытия в их взаимосвязи с внутренним бытием и самополаганием;
раскрыта диалектика персонального и социального бытия человека посредством категорий «социальность», «деятельность», «саморазвитие», «предметность» (предметная опосредованность), «коммуникативность» (знаково-символическая опосредованность); разработаны прикладные аспекты темы, которые могут послужить операционализации некоторых современных теоретических понятий и их использованию в конкретно-научных исследованиях.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Конкретизировав методологию антропологического анализа в рамках социальной философии, отмечаем две существенные традиции. Одна из них - это феноменолого-экзистенциалистская традиция, характеризующаяся следующими чертами: описанием жизненного мира на основе эмоционально-интуитивного вживания в него, целостного и непосредственного осмысления бытия через погружение в него. Другая традиция (марксистская, позитивистская, структуралистская и др.) реализуется в разных концептуальных построениях в форме деятельностного, системного,
бихевиористского и других подходов. В этом случае достигается эффект объяснения, основанный на противопоставлении субъект-объектных отношений и создании объективированных теорий, содержащих идеальные модели. Первый подход можно назвать гуманитарным, а второй — социальным. Различие познавательных установок и отношений становится основой для разделения наук на гуманитарные и социальные. Междисциплинарность возможна в рамках каждого из этих подходов, но не между ними.
В культурной антропологии выработаны определенные подходы к пониманию человека как субъекта и творца культуры. Биологические модели основаны на принятии в качестве доминирующих расовых, морфологических, наследственных, этнологических признаков человека. Заслуга культурно-психологического подхода состоит в том, что личность и культура были представлены не как набор готовых форм, а как результат творчества личности, что несовместимо с понятием культуры как традиции. Личность как субъект творчества стала пониматься в единстве сознательного, бессознательного и сверхсознательного, в единстве интимно-личностных ее проявлений и социального бытия.
Несмотря на то, что категориально философия сосредоточена на всеобщих атрибутах бытия, персональное бытие также является объектом философского теоретизирования. Метафизика, используя категориальный анализ, претендует на сущностное рассмотрение человека, однако доступность индивидуации всеобщим формам бытия и познания проблематична. Экзистенциально-феноменологический анализ социально-философских проблем представляет ракурс анализа, антитетичный метафизическому. Однако антиномия не может быть решена в пользу одной из сторон, а выход заключается в использовании самых разнообразных дискурсов описания и самоописания человека. Основными социально-философскими характеристиками персональной реальности в личностном плане являются: самоидентификация, уникальность, универсальность,
креативность, свобода, рефлексивность. Эти качества не могут рассматриваться в качестве завершенного множества, однако они являются сущностными с точки зрения социокультурной определенности индивида.
«Я» и «не-Я» как оппозиции внутреннего мира человека составляют антиномии его внутренней жизни и основу для смысловой организации. Целостность субъективной реальности выступает как ее персональность, т. е. интегрированность внутреннего многообразия субъективной реальности данным уникальным «Я». Отношение модальностей «Я» и «не-Я» проявляется в форме рефлексивного и арефлексивного, актуального и диспозиционального, нормы и патологии, рационального и аксиологического, познавательного и рефлексивного, являясь основой для коммуникации и автокоммуникации. Отношение «Я» и «не-Я», его осознание является условием отражения мира и воспроизведения своего места в нем.
Проблема соотношения «Я» и «другого» является существенной как для западной, так и для восточной традиции, как для рационализма, так и для иррационализма. Наивный реализм избегает такой постановки вопроса, который предстает как существенный для рефлексивного сознания. Семиотическое пространство и семиотические средства есть инструмент самополагания «Я» и «другого». Важнейшими категориями, раскрывающими диалектику персонального и родового бытия человека в нашей социально-философской концепции, являются «социальность», «деятельность», «предметность», «коммуникативность», «саморазвитие». Социальная жизнь в своей основе имеет две основные тенденции (центростремительную и центробежную), взаимодействие которых через обратные связи порождает переход от внешней организации системы к ее самоорганизации. Общественную жизнь можно представить как взаимодействие социума и индивидов, в котором социум организует свой контакт с индивидом, придавая интенциональность неинтенциональному, социализируя его, превращая в сознательного деятеля, разворачивая все это в пространстве
через предметные и символические формы обмена, обеспечивая интерактивность и интерсубъективность.
Теоретическая и практическая значимость исследования
заключается в том, что его результаты могут быть использованы для разработки методологии социальной философии, социальной и культурной антропологии, социологии, политологии, теории информации и коммуникации, социальной психологии и педагогики. Основные идеи данного диссертационного исследования могут служить уточнению понятий «личность», «субъективная реальность», «персональное» и «социальное бытие», «человек», «индивид». Теоретические обобщения и практические выводы исследования могут быть использованы философами, психологами, культурологами, антропологами, социологами в целях дальнейшей разработки и уточнения теоретических вопросов, связанных с понятиями «человек», «общество», «социальная реальность», «сознание». Отдельные положения и выводы работы могут применяться в учебном процессе при чтении курсов социальной философии, социальной антропологии, социологии, а также при подготовке вариативных и факультативных курсов по' проблемам социального и гуманитарного познания, в конкретно-психологических исследованиях. Автор разработал ряд положений и выводов, которые могут иметь прикладное значение для психологии и других наук социогуманитарного цикла.
Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена на заседании кафедры философии и политологии Краснодарского государственного университета культуры и искусств и была рекомендована к публичной защите по научной специальности 09.00.11 — социальная философия.
Положения и выводы диссертационного исследования представлялись на Всероссийской научно-практической- конференции «Проблемы становления гражданского общества на Юге России» (Армавир, 2006 г.); на Международном (СНГ) семинаре по общей теории неоднородности и
синергетике (Казань, 2006 г.); на Четвертой Международной конференции «Человек в современных философских концепциях» (Волгоград, 2007 г.); на 4-м Международном междисциплинарном симпозиуме памяти С.Н. Шпильрейн «Психология кризиса и кризисных состояний» (Ростов-на-Дону, 2007 г.); на Международной научно-практической конференции «Проблемы исследования синдрома выгорания и пути его коррекции у специалистов помогающих профессий (в медицинской, психологической и педагогической практике)» (Курск, 2007 г.); на Международной научной конференции «Природа человека и гуманизм: антропологическое измерение техногенной цивилизации» (Владимир, 2007 г.); на Второй Международной научной конференции «Психология власти — 2008» (Санкт-Петербург, 2008 г.); на Всероссийской научно-практической конференции «Свобода личности: правовые, исторические и философские аспекты» (Санкт-Петербург, 2008 г.); на Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки в контексте православных традиций» (Армавир, 2008 г.); на Восьмой Международной научной конференции преподавателей, студентов и аспирантов «Наука. Университет. 2008» (Новосибирск, 2008 г.); на IV Международной научной конференции «Философия ценностей: религия, право, мораль в современной России» (Курган, 2008 г.).
Основные положения и выводы диссертации изложены в 13 научных публикациях и в 2 учебно-методических пособиях общим объемом 10,6 п. л., в том числе в двух статьях, опубликованых в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения, библиографического списка, состоящего из 191 наименования.
Природа человека в философско-методологическом измерении
Философская антропология является само собой разумеющейся частью современной философии. Такое положение характерно и для современной отечественной философии. При этом, место ее в общей структуре философского знания может быть самым различным. Мы исходим из того, что философская и социальная антропология — это разделы философского знания, в которых философскому рассмотрению подвергается природа, сущность человека, его место, как в Космосе, так и в мире, социуме.
Философская антропология13 является наукой как о сущности и сущностной структуре человека, так и о силах и властях, которые движут им и которыми движет он. Поэтому антропология имеет право находиться в близкой интеграции с самыми различными естественными и гуманитарными науками: медицина, археология, этнология, история, психология, социология, лингвистика.
Антропология, как фундаментальная философская наука, обладает своим теоретическим и методологическим своеобразием. Философское познание человека есть по своей сути самосознание человеком самого себя. Каковы познавательные средства схватывания, постижения человека?
Неустранимая рефлексивность и индивидуализация стали основополагающими подходами в западной антропологии. Соревнуясь с литератором, антрополог стремится уловить живую целостность Я, а для этого недостаточно только генерализирующего подхода, но нужна и постоянная индивидуация. С другой стороны, как отмечает М. Бубер, типизация также неустранима в антропологии: «Вокруг всего того, что обнаружит в себе осознающий себя философ, должно строиться и кристаллизоваться, дабы стать подлинной антропологией, и все то, что он найдет у людей настоящего и прошлого - у мужчин и женщин, у индейцев и жителей Китая, у бродяг и императоров, у слабоумных и гениев»14.
В XIX в. в методологии научного и философского познания были выделены науки о духе и науки о природе15. Науки о духе (или о культуре) содержат в себе идеографический метод. Разработкой этого метода занимались и представители неокантианской баденской школы Виндельбанд и Риккерт. Этот метод позволяет выделять индивидуальные особенности, описывать отдельное, уникальное. Другой метод, номотетический, говорит об общих законах и принадлежит к сфере наук о природе. С помощью этого метода обобщают человека как объект эмпирический, обобщают многообразие его опыта. Если человеку не продемонстрирован способ разворачивания гуманитарных знаний именно так, чтобы выделить уникальное, чтоб соотнести свое уникальное человеческое с этим культурным знанием, то для него антропология есть то же, что и механика. Гуманитарные объекты не есть объекты сами по себе, а есть рефлексивные знания по поводу этих объектов. Центральный объект гуманитарных наук -человек. Гуманитарные науки родились в тот момент, когда в западной культуре появился человек как то, что следует помыслить, схватить. Гуманитарные дисциплины появляются там, где есть задача схватывания человека. Человек для гуманитарных наук - это.живой организм, который изнутри жизни строит представления и живет благодаря ним. Скорее всего, не сам человек, а именно эти представления, которые возникают у человека по поводу оснований его жизни, и есть тот самый объект гуманитарных дисциплин. Именно об этом писал М.К. Мамардашвили, когда пытался говорить о человеке как «объекте» и «предмете»16.
Философская антропология становится фундаментальной и центральной философской наукой тогда, когда человек становится проблемой, когда начинают задумываться над вопросами: что такое человек, откуда он пришел в этот мир и чем он отличается от других живых существ. М. Бубер различал эпохи обустроенности и бездомности. В эпоху обустроенности человек живет во Вселенной, как дома, в эпоху бездомности - как в диком поле, где и колышка для палатки не найти. В античности человек мыслился находящимся в мире, мир же в человеке не находится. Человек - просто часть мира, вещь, наряду с другими вещами, вид наряду с другими видами. Человек как микрокосм является частью макрокосма и должен стремиться к гармонии с ним. После крушения античности, пришествия варварства появившаяся молодая христианская религия как бы констатировала распадение бывшей цельности мира. Теперь он - борьба двух противоположных сил, двух царств - Бога и Дьявола. Человек больше не может быть вещью среди вещей, не может иметь твердого места во Вселенной. Составленный из души и тела, он принадлежит обоим царствам, будучи одновременно полем битвы и трофеем. Одним из философов, почувствовавшим бездомность и свое одиночество среди высших и низших сил, был Августин. С его точки зрения человек - это великая тайна. Он сам не знает, кто он, чего в нем больше -божественного или дьявольского. Сложность человеческой конструкции он видел в особой диалектике души и тела . Августин упрекал людей, которые восхищаются высокими горами, морскими волнами и свечением звезд, но не удивляются самим себе. Удивляться надо не тому, что человек - вещь среди других вещей, а тому, что он ни на одну вещь не похож вообще и не находится в ряду вещей. Когда же христианская религия окрепла и широко распространилась - в странах и душах людей, она построила новый дом, новый христианский космос. Этот мир был совершенно реальным для средневекового человека. Реальными были круги Ада, Чистилище, горний мир триединого Божества. Снова появились замкнутый в себе мир, дом, в котором может жить человек. Образ этого мира выражает крест, вертикальная перекладина которого есть конечное пространство от небес до преисподней, и проходит она посреди человеческого сердца. Поперечная перекладина являет собой вечное время от сотворения мира до последнего его дня. Человек в таком мире перестает быть проблемой, он занимает положенное ему место, он обустроен, ему спокойно и тепло.
Человек как субъект культуры в психологической антропологии XIX -XX вв
Культурно-антропологические теории получили свое критическое осмысление в трудах50 А.А. Велика, Дж. Берри, Р. Бока, Ю.А. Кимелева, Б.В.
Маркова, Н.В. Омельченко, И.И. Ремезовой, Т. Швартц и др. В параграфе анализируются психологические идеи, взгляды и теории, оказавшие в XIX-XX вв. влияние на формирование культурно-антропологической концепции человека в целом, а не только на психологическую антропологию в узком смысле этого слова. Такого рода интерпретации имели место и до нас, например, Р. Бок еще в 1988 г. заявлял, что «вся. антропология является психологической»51.
Социально-философское понимание человека, его природы и сущности значимо для самых различных наук. С другой стороны, оно само подпитывается конкретно-научными достижениями. В рассматриваемом нами аспекте привлекательным является тот образ человека, как субъекта культуры, который создан в культурной антропологии. Концептуальный опыт, накопленный в рамках этого направления, важен для создания гуманитарной, цельной модели человеческой природы. Особенно интересен для нас опыт психологической антропологии, на что мы также обратим свое внимание.
В начале XXI в. вновь обострился интерес к вопросу о природе человека. На Западе в течение последних десятилетий XX в. вопрос о природе человека представлялся метафизическим. С точки зрения позитивистов и сциентистски-ориентированных мыслителей, он считался лишенным какого бы то ни было научного смысла (С. Линкер, С.Дж. Гоулд и др.52). Подобные точки зрения были характерны и для отечественной философии 50-80 гг. XX в.53 В диалектическом и историческом материализме считался само собой разумеющимся тезис о том, что сущность человека социальна, а природа - биосоциальна. Считалось, что якобы в общей форме, принципиально этот вопрос решен и лишь требует своих уточнений. Но такой общепринятый тезис в самом себе содержал противоречие, правда, в несколько завуалированной форме. Ведь понятие «биосоциальной» природы человека есть некий дуализм, являющийся результатом еще классических представлений о сущности человека.
Дуализма лишены биологизаторские точки зрения. Биологизаторские подходы связаны с тем, что организм рассматривается как теоретическая модель культуры и человека как личности. Такого рода аналогии использовались Л. Фробениусом, А. Батианом. Существуют варианты такого редукционизма, на которые указывает А.А. Велик. Он пишет, что в истории науки существуют два варианта реализации этой идеи: первый сводит культурное разнообразие к биологическим (расовым) или даже антропологическим характеристикам индивидов, а второй выражается в лишении культуры ее исторической специфики как особой качественно отличной формы организации жизни человека и усмотрении в ней лишь количественных отличий от мира животных. Первый вариант, по его мнению, привел к появлению расизма, а второй способствовал возникновению социобиологического изучения культур54.
К расистским концепциям относятся теории А. Гобино, который в 1853 г. выпустил манифест данного направления «Опыт о неравенстве человеческих рас». Причина различия в исторических судьбах культур Гобино видел в расовых особенностях людей, составляющих те или иные определенные этнокультурные общности. Специфика организма выступает в этом случае источником качественного своеобразия высших и низших культур. Всякие субъективные особенности, душа, ментальность в этом случае сведены к нулю. Человеческие расы отличаются между собой, по мнению Гобино, по физическим признакам, по психологическим качествам и по различной способности создавать и усваивать культуру. Дикие в настоящее время народы останутся таковыми навсегда. Культура одной расы не может проникнуть в среду людей другой расы. Более того, расовые смешения вредны, так как наносят урон развитию белой расы и ведут к потере энергетических импульсов, побуждающих совершенствовать культуру, создавать ее новые формы. Таким образом, роль субъективного фактора, по существу, равна нулю, источником творчества является природный энергетический импульс55.
В концепциях Ж. Ляпужа (Франция) и О. Аммона (Германия) психические качества людей и производные от них культуры находятся в зависимости от величины головного показателя. Головным показателем в физической антропологии считается процентное отношение наибольшей ширины головы к ее наибольшей длине. Таким образом, чем длинноголовее человек, тем более он одарен, способен. Решающий аргумент состоит в том, что «длинноголовые» люди принадлежат к европейской расе, создательнице всех великих культур в истории человечества. В свою очередь, бедные классы и слои современных им европейских стран состоят из людей с неполноценными психическими свойствами, обусловленными их короткоголовостью (брахикефалы). К ним принадлежат потомки негерманского местного населения Европы. А европейскую элиту представляют высшие носители культуры - длинноголовые потомки германских завоевателей (доликефалы). Иными словами, развитие культуры определяется длинноголовостью черепа особой «европейской» (или арийской) расы.
Примитивность этой позиции заключается в том, что один внешний физический показатель объявляется решающим фактором культуры, истории и цивилизации в целом. За счет чего это достигается? Конечно же, за счет мифологии. Отдельные научные или опытные данные приобретают всеобщий характер с помощью идеологического, расового мифа, который переносится на всю историю и человечество. Более того, расистский миф явился обратной стороной рационалистически-просветительского понимания культуры как системы знаний, организованных в виде науки. Эволюционистские представления о прогрессе как линейной форме развития стали питательной почвой расистской идеологии о несовершенном типе мышления «дикарей» и необходимости их культурного развития.
В первой трети XX в. «расово-антропологическая» теория культур трансформировалась в концепцию генетического детерминизма. Ее основной смысл сводится к тому, что своеобразие культур и человека объявляется реализацией наследственной программы, существующей в генах тех или иных народов. Вариантом этой теории является концепция, согласно которой субъектом развития являются гены, а культуры представляют собой своеобразные формы дрейфа генов.
Бытие «Я» как социально-философская проблема
Анализ, проделанный нами в двух параграфах первой главы важен для рассмотрения «Я» как некоей проблемы. Кроме того, методологический анализ уже ориентирует нас на те определения, которые для нас будут приемлемы. Они уже задают те характеристики, к которым мы стремимся прийти в дальнейшем.
В то же время, предшествующий анализ поставляет для нас и важнейшие проблемы. Одной из главных озабоченностей антропологического знания остается вопрос: «Почему люди в разных культурах похожи»91. Для преодоления этой трудности недостаточно лишь интеграции антропологии с социологией или политикой, как считают авторы «Кросс-культурной психологии». Для этого необходимы общие, категориальные определения и обобщения социально-философского характера. Это касается рефлексивных размышлений и определений личности, социума. Дефиниций, подобных тем, которые использует Левин, определяя личность как «организацию в индивиде процессов, происходящих между условиями окружающей среды и поведенческой реакцией... Эти процессы включают восприятие, познание, память, научение и активацию эмоциональных реакций, организованных и регулируемых в организме человека»92, - явно недостаточно для этого. Для этого надо говорить о родовой сущности человека, универсальности его деятельности, способности к саморазвитию на основе творчества. Этих определений путем постепенных эмпирических определений не выработать. Для этого нужны не только интуитивные прозрения, но и обращение к трансцендентному, которое достигается с помощью философских категорий, рассуждений о «бытии вообще», о «человеческом существовании». Именно об этом М. Хайдеггер спорил с «метафизикой», с Декартом, который акцент переносил на «мыслю», а он подчеркивал фундаментальность «существую».
По И. Канту, основа мира - вещь в себе - предстает иррациональной. Гегель преодолевает Канта, доказывая, что само бытие есть, в сущности, инобытие рационального субъекта, Абсолютной идеи. На место кантовского конструирования Э. Гуссерль поставил интуитивное созерцание. И марксизм в этом отношении составляет оппозицию Канту: темное начало антагонистических общественных отношений снимается в рационально построенном коммунистическом обществе, где стихия рынка будет преодолена прозрачно-разумными отношениями людей. Хайдеггер, предпочитая метафорам зрения метафоры слуха, говорит о вслушивании в бытие. Хайдеггер следует в русле новейшей традиции философствования, идущей от Шопенгауэра и Ницше. Он преодолевает Канта не за счет рационализации объекта, а за счет иррационализации субъекта. Единство субъекта и объекта осуществляется как единство родственных друг другу иррациональных начал. Сущность человека не в cogito, а в sum .
Моя персональность дана мне непосредственно. На такой непосредственной данности строится Хайдеггерова концепция Dasein. Идея персональности предстает у него, по существу, как идея имманентности. Речь идет о нашем бытии как оно есть, как оно нам дано в непосредственном переживании. Мир дан индивиду через персонализацию. «Я» как персона дано как противостояние между бессмертием жизни вообще и смертью отдельной жизни и отдельного сознания. Человек персонализирует мир, его отдельные стороны он символизирует в форме персонификации . За идеей персональности вообще стоит экзистенциально переживаемая исследователем фигура философа95. Опыт личного существования и нахождения бытия должен тоже присутствовать, для того чтобы философ стал зрелым, «на себе» переживая идею персональности. И тогда персональность предстает как непосредственно данная переживанию идея «Я». Поэтому персональное «Я», хотя оно и коренится в телесности, принципиально не может быть схвачено естественнонаучными методами96. Там, где появляется индивидуальность, естественнонаучные законы превращаются по большей мере только в тенденции, номотетический метод пасует перед идиографическим.
Глубинный смысл экзистенциализма в том, чтобы выдвинуть на первый план абсолютную уникальность каждого человеческого бытия и, следовательно, подчеркнуть те онтологические основания, которые фундируют эту уникальность. Акцент на это сместил С. Кьеркегор, апеллируя в свою очередь к тем очевидностям, о которых говорил Б. Паскаль. Есть некоторые ситуации, в которых мы особенно остро чувствуем свойство своей персональности, прежде всего, это проблема смерти97.
Поскольку для характеристики персонального бытия «категории» экзистенциализма имеют особое значение, то обратимся к той работе, в которой это выражено «по-детски» ясно и как бы наивно. Ж.П. Сартр сформулировал98 такие основные категории атеистического экзистенциализма, как деление реальности на «бытие в себе» и «бытие для себя», приговор к свободе, который вызывает беспокойство и страх. Сартр полагал, что факторы, влияющие на поведение любого человека, можно анализировать с целью определения первоначального и окончательного проекта, фундаментального выбора, объектом которого являются не отдельные ценности, а сам способ бытия в мире.
Основной категориальный эскиз человеческого существования в экзистенциальной философии таков. Под экзистенцией они понимали экзистенцию человека. Согласно их рассуждениям, человеческое бытие - это наше собственно бытие, которое является для нас единственным совершенно конкретным бытием. Все остальное, по сравнению с ним, это абстракция. Существование они понимали как существование сознательных существ, имеющих к нему определенное отношение: Я создаю бытие, в основе своей отличающееся от бытия всех вещей, поскольку я могу сказать о себе: Я существую". Сам человек не может влиять на свое рождение и свою жизнь, он может лишь либо одобрить свое существование, либо осудить его. Человек вместе с остальными людьми живет в мире, который он все время познает. Вещи, окружающие человеческую экзистенцию, являются неосознаваемым нечеловеческим бытием, поскольку в каждом из нас содержится лишь бытие осознанное. Согласно экзистенциальной философии, существование человека находится под воздействием постоянных угроз. Хрупкость является характерной чертой человека, и поэтому его существование может быть легко уничтожено, а значит, каждый из нас должен заботиться о нем и противостоять угрозам. Забота о жизни является результатом постоянного беспокойства и опасений человека.
Диалогическая природа субъективной реальности: «Я» и «не-Я»
Мы уже рассматривали проблему двойственности человека в прошлом параграфе. В этом параграфе мы продолжим логику этого вопроса, остановившись на , двойственности внутренней природы человека, его субъективной реальности.
В индивиде как бы сосуществуют два человека: «человек вообще» и «человек отдельный». Факт двойственности человека порождает иллюзию двух способов познания последнего. Отсюда, к примеру, их «порождение» в противоречивости у А. Шопенгауэра. «У нас имеется два различных, даже противоречащих способа познания: один по principio individuations, который показывает нам все существа как совершенно чуждые нам, как решительное не-я; ... Другой способ познания, напротив, я предложил бы назвать познанием согласно принципу Tat twam - asi; оно показывает нам все существа как тождественные с нашим я; ... Первый способ разделяет индивидуумы непреодолимыми границами; второй уничтожает разграничение, и они сливаются вместе. Первый заставляет нас при виде всякого существа чувствовать: «это - я», другой: «это - не - я» .
Мы исходим из несколько другого допущения: не процесс познания человека разделяет или же объединяет индивидуумов. Двойственность человеческого существа коренится не в сознании индивидуума, познающего человеческий мир, а в собственной натуре индивида.
В свое время К.Д. Кавелин, российский историк и правовед, писал о двойственности человека: «Справедливо может быть одно из двух: или человек двойственен, в нем две природы, или природа у него одна»161.
Наше понимание проблемы двойственности человека позволяет признать справедливым одно утверждение: человек двойственен, но природа у него одна. Один фактор как бы «разделяет индивидуумы непреодолимыми границами, а другой фактор как бы «уничтожает разграничения». Первый фактор «заставляет нас при виде всякого существа чувствовать и понимать: «это - как бы я», а другой - «это - как бы не — я».
Данные факторы человека находятся в диалектике. В этом контексте человека надлежит рассматривать и как единораздельную целостность, и как средоточие встречно-разнонаправленных жизненных процессов, а именно тенденций - центробежной и центростремительной - суть человеческой жизни.
Кроме того, двойственность человеческого Я усложняется его разделением на внешнее и внутреннее. Внешнее Я - это совокупность знаний, правил действия, поведения, приемов мышления. Внутреннее Я - интимное, скрытое ядро личности, то, о чем нельзя рассказать другому, передать в виде слов или знаков. Человек часто сам не знает, что в нем заложено. Внутреннее Я и делает нас личностью. Однако человек не есть одномерное существо и внутренний мир человека также сложен и противоречив. Выяснение структуры субъективной реальности - весьма актуальный и вместе с тем чрезвычайно сложный вопрос.
Иногда распространенным является убеждение, будто данный вопрос является психологическим, а не философским. Несомненно, психологи имеют к нему прямое отношение - проводят соответствующие эмпирические исследования и пытаются осмыслить ряд его теоретических аспектов. Однако, как справедливо подчеркивал еще два десятка лет тому назад Д.И. Дубровский, общетеоретические вопросы структуры индивидуального сознания и ценностно-смысловой структуры субъективной реальности всегда составляли прерогативу философии162. Правда, анализом этой проблематики в основном занимались философы феноменологического, экзистенциалистского, структурно-психоаналитического направлений163. Проблема значимости «не-Я» (как другого сознания) для становления и развития «Я» (индивидуального сознания), поставленная Гегелем, вышла на первый план в философии и психологии с конца XIX в. и сохраняет актуальность по настоящее время. Эта проблема рассматривалась в работах М. Бубера, С.Л. Выготского, М.М. Бахтина и многих других.
Впервые развернуто проблема другого сознания как условия становления и существования индивидуального сознания рассмотрена в «Феноменологии духа» Гегеля. Согласно Гегелю, самосознание, понимаемое как ступень развития сознания и выражаемое формулой «Я» = «Я», означающей единство Я как абсолютного понятия и Я как эмпирического, «единичного» самосознания, не дано изначально в своей завершенной форме. Непосредственное единичное самосознание еще не имеет своим предметом «Я» = «Я», а только «Я». Оно еще не знает о своей свободе, хотя и содержит в себе ее основу. Первая ступень становления самосознания, указывает Гегель, «раскрывает перед нами непосредственное и в то же время - в противоречии с этим - отнесенное к внешнему объекту единичное самосознание. Будучи так определено, самосознание есть достоверное знание о себе самом как о сущем, в сопоставлении с которым предмет обладает определением чего-то мнимо самостоятельного, в действительности же ничтожного, оно суть вожделеющее самосознание .
В процессе становления самосознание индивида должно, согласно логике Гегеля, преодолеть замкнутость на самом себе, форму циничного самосознания, и получить признание другого, стать признающим самосознанием. Признающее самосознание - «это есть самосознание для самосознания, прежде всего, непосредственно, как для другого. Я созерцаю в нем самого себя как «Я»; но и в самом себе я опять-таки созерцаю непосредственно наличный, в качестве «Я» абсолютный по отношению ко мне самостоятельный, другой объект. Снятие единичности самосознания было первым снятием; этим самосознание определено только как особенное. Это противоречие порождает влечение показать себя в качестве свободной самости и для другого быть налицо как таковым, - процесс признания»165. Процесс признания протекает бурно и драматично, включая преодоление сущностных противоречий данной ступени.