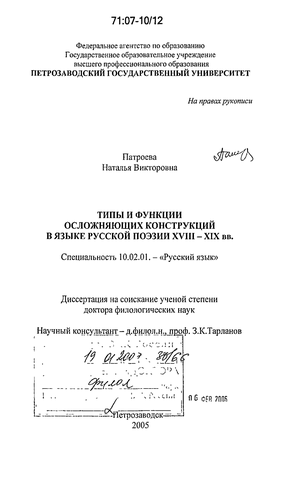Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Проблемы грамматической сущности, классификации и истории формирования осложняющих конструкций в русском литературном языке 13
1.1. Проблема грамматического статуса осложненного предложения и типологии осложняющих конструкций 13
1.2. Лингвистическая полемика XVIII — начала XIX в. и состояние синтаксической теории. Диахронический и жанрово-стилистический аспекты изучения осложняющих конструкций 21
1.3. Осложняющие конструкции в системе лирического текста 28
Глава 2 Обособленные конструкции в поэтическом тексте 35
2.1. Причастные обороты 35
2.1.1. Морфологическая характеристика причастий — стержневых слов обособленных оборотов 37
2.1.2. Грамматические значения причастных конструкций 41
2.1.3. Длина причастных конструкций. Место причастия в обороте 47
2.1.4. Структура предложений с причастным оборотом. Расположение причастной синтагмы по отношению к предикативному ядру
и определяемому слову 52
2.1.5. Экспрессивно-стилистические функции причастных конструкций. Роль партиципных синтагм в сюжетно-тематической и композиционной организации поэтического произведения 2.2. Деепричастные обороты 64
2.2.1. Морфологическая характеристика деепричастий 64
2.2.2. Грамматические значения деепричастных конструкций 67
2.2.3. Длина деепричастной синтагмы. Место деепричастия в обороте 74
2.2.4. Структура предложений с деепричастными оборотами.
Место деепричастной синтагмы по отношению к предикативному ядру 77
2.2.5. Экспрессивно-стилистический потенциал деепричастных конструкций, их роль в сюжетно-тематической и композиционной организации поэтического произведения 85
2.3. Адъективные обороты 92
2.3.1. Морфологическая характеристика прилагательных — стержневых слов обособленных оборотов 92
2.3.2. Грамматические значения адъективных конструкций 95
2.3.3. Длина и структура адъективной синтагмы. Место прилагательного в обороте 100
2.3.4. Дистрибуция адъективных конструкций по отношению к предикативному ядру и определяемому слову 102
2.3.5. Экспрессивно-стилистические функции адъективных конструкций. Роль обособленных синтагм с именем прилагательным в сюжетно-тематической и композиционной организации поэтического произведения.. 104
2.4. Субстантивные обороты 108
2.4.1. Морфологическая характеристика имен существительных — стержневых компонентов обособленных субстантивных синтагм 108
2.4.2. Грамматические функции субстантивных конструкций 112
2.4.3. Длина и структура субстантивной синтагмы 115
2.4.4. Место субстантивной конструкции по отношению к предикативной основе и определяемому слову. Некоторые особенности структуры предложения с обособленными приложениями 117
2.4.5. Экспрессивно-стилистические функции обособленных субстантивных оборотов 122
2.5. Наречные обороты 128
2.6. Компаративные и суперлативные обороты 135
2.7. Местоименные обороты 142
2.8. Инфинитивные обороты 145
Глава 3. Осложняющие конструкции, вводимые служебными словами, в стихотворном дискурсе 151
3.1. Сравнительные обороты 151
3.1.1. Структура сравнительных оборотов. Длина сравнительных синтагм и расположение их в предложении 151
3.1.2. Семантика сравнительных оборотов. Показатели сравнения 157
3.1.3. Поэтические функции сравнительных оборотов 167
3.2. Предложно-ладежные обороты 173
3.2.1. Структура и длина предложно-падежных оборотов 174
3.2.2. Семантика предложно-падежных оборотов, их позиция в структуре предложения 179
3.2.3. Поэтические функции и текстообразующая роль предложно-падежных оборотов 190
3.3. Пояснительные конструкции 202
3.4. Присоединительные синтагмы 207
3.4.1. Структура присоединительных конструкций, их локализация в предложении. Показатели присоединения 208
3.4.2. Семантика и функции присоединительных конструкций 211
Глава 4 Вводные конструкции в лирическом тексте 216
4.1. Морфолого-генетическая характеристика вводных слов и словосочетаний 217
4.2. Семантика вводных слов и сочетаний слов 224
4.3. Структурно-смысловая соотносительность вводных слов (сочетаний слов) и вводных предложений 227
4.4. Позиция вводных синтагм в предложении. Конструктивная и текстообразующая функции вводных компонентов 230
4.5. Соотношение модальной окраски вводной конструкции и содержащего ее предложения 240
4.6. Экспрессивно-стилистические функции вводных конструкций 241
Глава 5. Вставные конструкции в поэтической речи 251
5.1. Вопрос о специфике вставных конструкций (в сравнении с вводными, обособленными и присоединительными) 252
5.2. Пунктуационное оформление вставок 256
5.3. Структура парантез и их связь с основным составом высказывания. Текстообразующая роль вставок 259
5.4. Позиция вставной синтагмы в предложении. Соотношение коммуникативно-интонационных типов основного высказывания и парантетической конструкции 267
5.5. Функции парантез в поэтическом тексте 271
Глава 6. Обращение как одна из поэтических фигур 292
6.1. Лексико-морфологическая характеристика опорного слова в обращении. Распространение стержневого компонента обращения 292
6.2. Интонация и модальная окраска предложений с обращениями. Пунктуационное оформление обращений 305
6.3. Позиция обращения в предложении. Длина обращений и их композиционная роль в поэтическом тексте 307
6.4. Функции обращения в поэтической речи 312
Глава 7. Конструкции с сегментацией в стихотворных произведениях 327
7.1. Структура сегментированной конструкции. Сегментация и смежные с ней явления 328
7.2. Функции сегментации в поэтическом тексте 336
Заключение 345
Приложение 352
Список использованных сокращений 410
Список использованных источников и литературы 411
- Проблема грамматического статуса осложненного предложения и типологии осложняющих конструкций
- Морфологическая характеристика причастий — стержневых слов обособленных оборотов
- Структура сравнительных оборотов. Длина сравнительных синтагм и расположение их в предложении
Введение к работе
Как известно, поэтический синтаксис является одной из наиболее интересных, хотя и наименее разработанных отраслей филологии, несмотря на то, что именно в стихотворной речи, в силу ее специфики («высокая степень организованности» [278, 5]) , отбор, строение и расположение синтаксических конструкций приобретают особое значение. По мнению Р.Якобсона, именно от «грамматической ткани поэтического языка в большей мере зависит его действительная значимость» [576, 84]. Синтаксические формы здесь не только информативно, но и эстетически нагружены, выполняют самые разнообразные
функции (структурно-композиционную , ритмообразующую , интонационную,
экспрессивно-стилистическую ), причем без выяснения вопроса о роли и значении синтаксиса в формировании художественного стиля нельзя ни «установить конкретно-языковое — а следовательно, стилистическое — своеобразие отдельных писателей и целых литературных направлений, ни выяснить ту роль, которую соответствующие писатели и направления играли в общем процессе развития синтаксической системы данного языка» [459, 7]. Грамматика также отражает особенности художественного мышления, творческую психологию, индивидуальную «картину мира».
Здесь и далее по тексту первая цифра в скобках обозначает порядковый номер издания в списке использованной литературы, вторая цифра — страницу.
«Синтаксис в стихе, — отмечает Т. Сильмап, — опирается на ритмическое строение строф и стихотворных строк и тем самым приобретает особое структурное, архитектоническое значение» [458,49].
«Стихотворный синтаксис строится в неразрывной связи с ритмом <,..>, — пишет Б. Эйхенбаум.— Стихотворная фраза есть явление не синтаксическое вообще, а ритмико-
синтаксическое» [575,328]. 4 В художественном тексте, по словам 3. К, Тарланова, «абстрактные, казшгось бы, значения синтаксических моделей <...> подчиняются решению конкретных эстетических задач» [489,82].
То, что именно синтаксис таит в себе огромные выразительные ресурсы, обусловлено не только чрезвычайным разнообразием синтаксических конструкций и богатством грамматической синонимики, но и сложностью, многогранностью самого феномена предложения как основной коммуникативной единицы. Между тем исследователи языка художественной литературы уделяют первостепенное внимание, как правило, поэтической лексике и фразеологии, в то время как описание эволюции поэтического синтаксиса относится к числу наименее разработанных проблем лингвостилистики и истории русского литературного языка. Сам предмет исторического синтаксиса в научных трудах диахронического плана «остается весьма неясно очерченным» [487, 62]. По-прежнему актуальной является задача, выдвинутая еще в середине 1940-х гг. В. В. Виноградовым: «...сейчас крайне необходимы как синтаксические исследования по истории отдельных категорий и конструкций, так и полные всесторонние описания синтаксического строя отдельных произведений, отдельных литературных памятников» [144,173].
Лингвопоэтический анализ различных жанровых подсистем литературного языка, несомненно, расширяет возможности самих историко-синтаксических исследований, так как именно синтаксис — в плане стилистики «наиболее чуткая и отзывчивая сфера языкового организма. <...>.„ реализация многих синтаксических потенций языка и становление соответствующих конструкций — это результат не столько имманентного естественно-исторического развития языковой системы, как обычно полагают, сколько внеязыковых воздействий» (490, 413—414), в том числе особенностей эволюции национальной художественной литературы.
Изучая проблему исторического взаимодействия грамматики и поэтики, не следует, думается, слишком строго ограничивать задачи исторической синтаксической стилистики изучением грамматической синонимики. Не менее важны вопросы синтаксической семантики, порядок размещения компонентов, длина конструкций, участие в создании модально-предикативной перспективы высказывания, его актуальном членении, текстообразовании в целом, экспрессивный
8 потенциал и жанрово-стилистическая коннотация грамматических форм. Следует учитывать и степень употребительности, частотность той или иной конструкции в художественном тексте, хотя, конечно же, по верному замечанию А. В. Чичерина, «стилистические явления требуют весов более чувствительных, чем статистические подсчеты». (546, 297) И все же «преобладание ... какой-нибудь формы у данного писателя сравнительно с другими при прочих равных условиях ... способно подсказать важные и существенные выводы» (155, 47) в области изучения стиля литературного произведения отдельного автора и художественного направления в целом.
В этом смысле поэтический язык XVIII — первой половины XIX в., оказавший огромное влияние на развитие лексического состава, грамматических и стилистических норм русской литературной речи, ее изобразительно-выразительных возможностей, заслуживает особого внимания. В истории отечественной словесности эпоха Ломоносова, Карамзина и Пушкина стала временем «стилистического упорядочения и очищения, выработки гибкого и точного языка, способного выразить все усложняющийся мир нового человека» [181,23].
Именно в этот период проблемы «строительства» новых общелитературного языка и художественной речи во многом совпадали: процессы нормализации литературного языка в значительной степени протекали в сфере художественной литературы и обнаруживали прямую зависимость от развития и смены литературных направлений и жанров [см.: 275, 103—104], так что ни одна грамматика или словарь той эпохи «не дают столь исчерпывающих сведений о нормах как книжной, так и разговорной разновидностей литературного языка, какие возможно извлечь из текстов художественных произведений мастеров слова» [272, 11]. Кроме того, в индивидуальном литературном творчестве ярче и полнее раскрываются общие тенденции и потенциал языкового развития.
Обычно декларируется [см., напр.: 275, 222], что процессы образования синтаксических норм литературного языка протекали именно в области т. н. новой художественной прозы Карамзина и Пушкина, однако с 30-х гг. XVIII в. и целое столетие спустя в русской литературе преобладали именно стихотворные жанры,
9 между тем вопрос о том, «чем русская культура литературного слова обязана стиховой речи хотя бы в области фразеологии и синтаксиса» [149, 204], до сих пор изучен совершенно неудовлетворительно. Новая проза, на материале которой обычно исследуются процессы становления синтаксических и стилистических норм общелитературного языка эпохи Карамзина и его последователей, во многом питалась достижениями поэтического слога (и прежде всего лирики).
В рамках диссертационного сочинения, конечно, невозможно охватить скрупулезным анализом все основные синтаксические единицы и категории в их жанрово- и индивидуально-стилистически обусловленном употреблении. Прослеживая эволюцию и функционирование синтаксических явлений в поэтической речи, мы сосредоточим свое внимание на конструкциях, осложняющих элементарную модель предложения, тем более что в течение последних десятилетий, в связи с активным развитием таких отраслей лингвистики, как семантический и коммуникативный синтаксис, стилистика и грамматика текста, интерес исследователей к осложняющим конструкциям заметно возрос. Кроме того, свойства лирики как литературного рода («единство и теснота стихотворного ряда» [499, 66] на всех его уровнях, максимальная информативная насыщенность при экономии речевого пространства, «повышенные» субъективность, «предикативность» и «диалогичность» [278, 6—9]) позволяют высказать предположение о высокой степени активности осложняющих конструкций в поэтическом тексте, об особой и чрезвычайно важной их роли в организации стихотворного дискурса.
Перечисленными выше обстоятельствами обусловлена актуальность выбранной для диссертационного сочинения темы.
Целью настоящего исследования является анализ структуры, семантики и поэтических функций осложняющих синтагм в стихотворных текстах середины XVIII — первой половины XIX в.
В соответствии с целью исследования в работе решаются следующие задачи:
1) анализ структуры осложненных предложений, грамматических значений и экспрессивно-стилистических функций осложняющих конструкций: обособ-
10 ленных оборотов (причастных, деепричастных, адъективных, субстантивных, наречных, компаративных, суперлативных, местоименных, инфинитивных, предложно-падежных), союзных сравнительных, пояснительных и присоединительных конструкций, сегментированных синтагм, парентетических вводных единиц, обращений;
определение частотности осложняющих конструкций в выбранных для анализа стихотворных текстах с целью выявления периода, в течение которого завершается становление основных средств и способов осложнения предикативной структуры, что обусловливает формирование явления осложнения в синтаксическом строе русского литературного языка и поэтической речи как его подсистеме;
характеристика жанрово- и индивидуально-стилистических особенностей в употреблении различных типов осложнения, которые позволили бы, с одной стороны, уточнить роль того или иного мастера слова в процессе создания и закрепления новых синтаксических норм национального языка, а с другой стороны, определить, какие авторы и в силу каких причин оставались в стороне от некоторых магистральных тенденций в сфере общелитературной грамматики, стремясь, дольше и настойчивее своих современников, сохранять верность уходящим из языка явлениям и оказываясь поэтому (на протяжении всей творческой деятельности или на каком-то из ее этапов) в лагере «архаистов».
Источником языкового материала служат стихотворные тексты (поэзия малых форм) главных представителей четырех важнейших этапов в развитии русской литературы (классицизма, сентиментализма, романтизма и реализма), чья реформаторская деятельность сыграла важную роль в становлении строя, норм и стилистики современного русского языка: произведения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева, В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, А. С. Пушкина, П. А. Вяземского, Е. А. Баратынского, А. А. Дельвига, Н. М. Языкова и М. Ю. Лермонтова. Общий объем выборки — около 22000 осложняющих единиц. В сопоставительном плане привлекается материал, извлеченный из текстов других русских поэтов XVIII—XX вв.
11 (В. К. Тредиаковского, А.И.Сумарокова, И.А.Крылова, В.К.Кюхельбекера, К. Ф. Рылеева, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. Ф. Анненского, В. Брюсова, А. А. Блока, К. Д. Бальмонта, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Н. С. Гумилева, Б. Л. Пастернака и др.)
В ходе синтаксического исследования использовались следующие методы: структурно-семантический и функциональный анализ, метод актуального членения, лексико-семантического описания, вычленения позиционных звеньев и уровней синтаксической иерархии, лингвистического эксперимента, лингвос-тилистический анализ текста, количественный и др.
Настоящая диссертация представляет собой первый опыт специального, подробного и разностороннего лингвостилистического анализа системы осложняющих конструкций, истории ее функционирования в стихотворной речи середины XVIII — первой половины XIX в. — анализа, существенного в плане определения и детализации тенденций развития как поэтического синтаксиса, так и грамматического строя русского литературного языка вообще. Впервые комплексно рассматриваются структура, семантика и экспрессивно-стилистические функции различных типов осложняющих конструкций в контексте эволюции основных литературных методов от Ломоносова до Пушкина и Лермонтова. Перечисленными обстоятельствами определяется новизна и теоретическая значимость исследования.
Практическое значение диссертации состоит в том, что она восполняет комплексно и детально не изученное звено в истории поэтического и — шире — общелитературного синтаксиса, поэтому представленный в этой работе материал может использоваться при создании полной истории языка русской художественной литературы, истории русских поэтических стилей, исторической поэтики, чтении университетских курсов по истории русского литературного языка, синтаксической стилистике, при разработке соответствующих спецкурсов, подготовке учебных пособий по синтаксису и стилистике русского языка.
Теоретической основой и методологическим ориентиром диссертационного сочинения служат труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные
12
истории и теории осложненного предложения, проблемам семантического и
коммуникативного синтаксиса, лингвостилистики и теории текста
(В. В. Виноградова, Н. Н. Прокоповича, Г. А. Золотовой, А. Г. Руднева,
И. И. Ковтуновой, А. Ф. Прияткиной, Г. Н. Акимовой, А. И, Аникина,
& Э. И. Коротаевой, 3. К. Тарланова и др.).
Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения, списков использованных сокращений, источников и научной литературы, приложения.
Проблема грамматического статуса осложненного предложения и типологии осложняющих конструкций
Термин «осложненное предложение» вошел в лингвистический обиход в конце 1950-х гг., когда была опубликована известная монография А. Г. Руднева
«Синтаксис осложненного предложения» [437] Несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных проблеме этого типа грамматических конструкций, за истекшие четыре десятилетия «далеко не все способы осложнения элементарной структуры выявлены и описаны, не говоря уже о том, что определение взаимосвязи всех таких способов в структуре предложения остается проблемой» [411,37], не существует до сих пор точной дефиниции понятия «осложнение».
По традиции к конструкциям, осложняющим простое предложение, относят однородные члены, обособленные обороты, вводные и вставные компоненты, обращения, хотя авторы многих учебников и учебно-методических пособий для вузов отмечают при этом пестроту и разнообразие явлений, связанных с осложнением элементарной предикативной структуры, отсутствие единого критерия их выделения {см., напр.: [467]). В научной литературе, между тем, существуют и иные толкования границ осложняющих явлений.
Если одни исследователи (в частности, [585, 88—89]) считают осложняющими синтагмами только полупредикативные обособленные обороты, то другие расширяют круг традиционно выделяемых в этом разделе синтаксиса конструкций и причисляют к ним также событийные имена, присоединительные синтагмы, сравнительные обороты, сегментированные члены предложения [см., напр.: 257; 227, 219; 466,102, 108—109].
A. Ф. Прияткина предлагает различать осложнение «по субординации» (при частными, деепричастными, предложными и сравнительными оборотами) и ос ложнение «по координации» (однородными, поясняющими и уточняющими членами) [413, 17]. Вопрос о причастности вставных компонентов и обращений к явлению осложнения, по ее мнению, не решается столь однозначно и требует более четкого определения их грамматической природы, считать же «вводные слова одним из видов осложнения нет оснований» [413, 8].
B. Н. Перетрухин отмечает неправомерность включения в число способов осложнения простого предложения однородных членов, которые занимают лишь одну синтаксическую позицию и поэтому только количественно «расши ряют» [388,48] структурную схему.
Известность получила и точка зрения, согласно которой предложения с однородными сказуемыми следует считать не простыми, а сложными, с несколькими предикативными центрами (см. работы В. А. Белошапковой, академическую «Русскую грамматику») .
Морфологическая характеристика причастий — стержневых слов обособленных оборотов
В «Кратком руководстве к риторике» и «Российской грамматике» М. В. Ломоносов давал подробные рекомендации по образованию причастий разных разрядов от «славенских» и «российских» глаголов. Так, «страдательные причастия настоящие... происходят... только от глаголов Российских и Славян в употреблении бывших» [258, 547]. Еще более строги нормы производства действительных причастий настоящего времени — лишь «от глаголов t славенского происхождения» [258, 548], поскольку эти партиципные формы «весьма непристойны от простых российских, которые у славян неизвестны» [258]. Напротив, страдательные причастия прошедшего времени «весьма употребительны как от новых российских, так и от славенских глаголов произведенные» [258]. Здесь же Ломоносов уточняет и сферу функционирования причастий — произведения риторические и стихотворные.
А. А. Барсов, вслед за Ломоносовым, также считает, что «причастия по большей части производить должно от тех только Российских глаголов, которые от славенских разности не имеют, и употреблять их... в высоком слоге, а не в самых простых письмах и или разговорах; особливо же не производить их от глаголов, нечто подлое значащих» [95,223].
Нормы эти, как правило, поэтами не нарушались, в силу следования сугубо книжной традиции употребления славянских по происхождению форм вербоидов, так что причастия — «прозаизмы» (вроде «зевающий», «чуявший», «шуршащий» и т. п.) в стихотворных текстах встречаются довольно редко, в том числе в составе обособлений:
Всем Государственным Чинам,
Обабившимся в Кавалерстве... (В., 109).
Наблюдения над образованием, залоговой и временной отнесенностью при частных форм показали, что наиболее продуктивными оказываются в стихо творном тексте страдательные причастия совершенного вида прошедшего вре мени и действительные причастия настоящего времени (см. табл. 3,4). Именно эти разряды партиципных форм, легко приобретающие качественные оттенки (147, 231—232), особенно в условиях одиночного употребления, содействуют усилению признаковости поэтического текста, в той или иной степени адъективируясь: Уже я вижу, восхищенный
Его с надеждою в глазах... (Дм, 279)
Высокая активность страдательных причастий обусловлена и тем, что обособленная пассивная конструкция позволяет углубить и расширить субъектную структуру высказывания введением добавочной агентивной позиции: Когда могущественный ром С плодами сладостной Мессины, С немного сахара, с вином
Структура сравнительных оборотов. Длина сравнительных синтагм и расположение их в предложении
Самый распространенный структурный тип сравнительных оборотов представляют синтагмы с опорным компонентом в форме именительного падежа существительного — более 80 % репрезентаций (см. табл. 40). Такого типа конструкции обычно включают параллельные компоненты, двустороннюю синтаксическую связь и в полной мере отражают трехчастную структуру сравнения (предмет сравнения — основание сопоставления (признак, лежащий в его основе) — образ сравнения). При этом основание сравнения чаще всего выступает в функции предиката и его группы, определения или входит в состав другого обособленного оборота:
Там Лена чистой быстриной,
Как Нил, народы напоит... (Лом., 119) Конструкции без параллельных элементов составляют не более 20% репрезентаций (стиховой изоморфизм предопределяет тяготение к параллелизму синтаксических построений):
Валькирии прелестны,
На белых, как снега Биармии, конях,
С златыми копьями в руках,
В безмолвии спустились! (Бат., 225) Реализация конструкции с параллельными компонентами может быть неполной (с эллипсисом предмета сравнения — подлежащего):
Хвала бестрепетным вождям!
Днем мчатся строй на строй; в ночи
Страшат, как привиденья... (Ж., 156)
Неаполь!..
Сквозь занавес веков еще здесь помнят виллы
Приюты отдыхов и Мария и Силлы.
И кто, бесчувственный, среди твоих красот
Не жаждал в их раю обресть навес иль грот,
Где б скрылся, не на час, как эти полубоги.
Здесь Лету пившие, чтоб крепнуть для тревоги... (Б., 204) Менее распространенная разновидность сравнительных синтагм — обороты с косвенно-падежной формой стержневого компонента. В этом случае конструкция может строиться как по принципу параллелизма субъекта и объекта сравнения, так и без параллельных элементов:
Средь братии, как в горестном изгнанье,
Он с гимнами соединит стенанье... (Ж., 119)
А он надел, как на парад,
Мундир, два эполета... (Ж., 239)
Второй по степени распространенности в поэтических текстах (см. табл. 40)
тип сравнительных оборотов — синтагмы с местоимениями (чаще всего личными в номинативной форме):
И с ним певец досужий, Его покорный бес, Как он, на рифмы дюжий, Как он, головорез! (Бат., 143)
Замолк певец: он был, какмы, всего лишь странник мира! (Бат., 73)
И я, как вы, жила в Аркадии счастливой... (Бат., 112)
Еще менее активны сравнительные обороты с наречием (обычно со значени ем времени или качества):
И внимать, как прежде, станет
Нежности она моей. (Дер., 24)
И в мечте иль в восхищеньи
Ты бы видел, будто въяве... (Дер., 122)
Заботились, как днесь, цари;
Премудро все распоряжалось... (Дер., 270)
Спорадически используются сравнительные обороты иных структурных типов — с именем прилагательным (1), числительным (2), причастием (3) и дее причастием (4) в качестве стержневого слова. Такие обороты обычно (исключая нумеративные) не имеют формальных аналогов-предметов сравнения в основ ной части высказывания, а в семантике показателя сопоставления выступает на первый план иная — собственно модальная — функция: (1) ...И вмиг Борей
Всею силою своей, Как неистовый, пустился С путешественником в бой... (Ж., 373) ...Как немой,