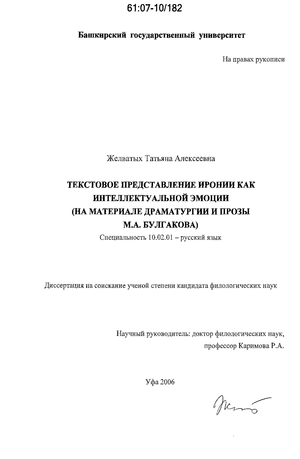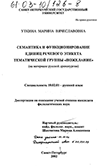Содержание к диссертации
Введение
Глава I Общая характеристика иронии как интеллектуальной эмоции
1. Феномен иронии в гуманитарных науках 10
2 Ирония как интеллектуальная эмоция 26
2. 1. Психофизиологические основы иронии как эмоции 35
2. 2. Ироничность как личностная черта 37
3. Ирония как объект исследования в лингвистике 42
4. Ирония в рамках междисциплинарного подхода 56
5. Текст как объект исследования в лингвистике 65
Выводы из главы 1 80
Глава 2 Речевая ситуация иронической направленности
1 Опыт комплексного описания иронии как эмоции 85
2. Эмоциональная речевая ситуация, стимулирующая иронию 109
3. Значимые факторы PC иронической направленности 119
3.1. Субъект иронии и тип речевой культуры 144
4. Ирония как элемент модели мира МЛ. Булгакова 148
5. Выражение иронии как эмоции в целом
устном / письменном тексте 156
Выводы из главы II 183
Заключение 191
Приложения 197
Литература 197
Словари 220
Источники языкового материала для исследования 222
Приложение № 2. 223
Приложение № 3 229
Приложение № 4 233
Приложение № 5 238
- Феномен иронии в гуманитарных науках
- Ирония как интеллектуальная эмоция
- Опыт комплексного описания иронии как эмоции
Введение к работе
Актуальность исследования. Ирония - феномен культуры, эстетическая, нравственная, художественная и риторическая значимость которого не подлежит сомнению, поскольку, базируясь на игре переоценки ценностей [Ан-кин 2003], ирония является «инструментом обновления ценностной картины мира», исчерпавшей «потенциал своего развития в рамках актуальной парадигмы» [Пивоев 2000: 7]. Специалисты в области гуманитарных наук (философии, психологии, теории литературы, лингвистики) пытаются выявить суть этого гетерогенного явления, в результате чего, по мнению некоторых исследователей, складывается особая отрасль науки, именуемая «иронология» [По-ходня 1989, Фомичева 1992, Ермакова 2002]. Общая теория иронии, в которой нуждается и лингвистика, только разрабатывается; являясь предметом изучения в целом ряде наук, ирония отличается сложностью и многогранностью, чем объясняется отсутствие единства в интерпретации, противоречивость оценок этого феномена. В философии и филологии преобладает взгляд на иронию как на форму мировосприятия, форму эмоционально-оценочного, критического постижения действительности, её определяют также как способ мышления и философствования, как умонастроение, как литературно-художественный, стилистический приём и как способ коммуникации.
Длительное время преобладавший в исследованиях иронии стилистический подход, намеченный ещё М.В. Ломоносовым и отличающий работы ИВ. Арнольд, И.Р. Гальперина, М.В. Давыдова, демонстрировал узкое представление об этом сложном явлении и в последние десятилетия сменился новым, основанным на различении иронии как средства, техники и иронии как результата - «иронического смысла» [Походня 1989]. Недостаточным мы считаем также подход, ограничивающий рассмотрение средств передачи иронии в письменном тексте лексическим уровнем и оставляющий без внимания важнейшую форму её реализации - звучащую речь. Современная лингвистическая литература предлагает описание наиболее типичных случаев выражения иронии как
5 эстетической категории на различных языковых уровнях, включая текстовый и интертекстуальный [Походня J 989, Сергиенко 1995, Фомичева 1992]. Учёными подчёркнуто отсутствие ограничений в средствах её презентации, так как для передачи иронического отношения субъект речи использует весь арсенал языка [Варзонин 1994: 11; Сергиенко 1995: 7]. Актуально лингвистическое исследование иронии как явления человеческой психики, относимого учёными к интеллектуальным эмоциям (наряду с удивлением, изумлением, любопытством, сомнением и чувством юмора). В числе других эмоций ирония уже рассматривалась лингвистами, изучающими способы выражения в речи эмоциональных состояний [Михайлов, Златоустова 1987; Златоустова 2001; Мягкова 1987; Нуши-кян 1986]. В результате исследования звучащей речи были выявлены просодические характеристики однофразовых эмоциональных (в том числе и иронических) высказываний. Однако обращение собственно к иронии как эмоции носит эпизодический характер: не проводились специальные исследования, направленные на выявление её роли в формировании смысла и структуры целого устного и письменного текста, не исследовались способы передачи эмоционального состояния ироника в целом устном / письменном тексте и специфика выражения иронии в текстах разных родов словесности. Этим определяется актуальность настоящего исследования, так как предлагаемая работа, выполненная в русле речеведения, представляет собой опыт исследования способов реализации в звучащих и письменных прозаических и драматургических текстах иронии как аффективно-когнитивной структуры, определяющей характер дискурса, влияющей на формирование смысла текста. Рассматривая иронизирование как творческий акт, мы обращаемся к оригинальным речевым произведениям иронической направленности, учитывая при этом существующие описания некоторых типовых способов презентации иронии,
Цель исследования - раскрыть роль иронии как эмоции в формировании смысла целого текста; путём комплексного лингвистического анализа звучащего и письменного текста выявить способы и средства её текстового представления в драме и прозе. Данная цель определена рабочей гипотезой, со-
гласно которой ирония, проявляющаяся как личностная черта, как способ мировосприятия, характеризует идиостиль писателя, определяя его текстовую стратегию и выступая существенным элементом смысла текста.
Задачи работы. Намеченная цель требует решения следующих задач:
предпослать лингвистическому исследованию рассмотрение эволюции научных взглядов на проблему иронии;
обобщить существующие представления об иронии как о философской категории, психологическом явлении и феномене языка с целью описать процесс формирования и выражения иронического отношения;
построить интегративную модель речевой ситуации иронической направленности с определением коммуникативно-функциональной нагрузки каждого из ее элементов, один из которых - собственно эмоцию - также представить в виде текстовых моделей, выработанных по языковым данным (драматургии и прозы М.А. Булгакова);
посредством комплексного лингвистического анализа звучащего и письменного художественного текста определить совокупность языковых средств, используемых для выражения иронии.
Объектом исследования в данной работе выступают конситуации иронической направленности, представленные в прозаических и драматургических звучащих и письменных текстах.
Предметом исследования является ирония как интеллектуальная эмоция, участвующая в формировании смысла текста, а также совокупность языковых средств её текстовой репрезентации.
Научная новизна исследования заключается в том, что в нём впервые
в свете речеведческого подхода рассмотрена ирония как интеллектуальная эмоция, определяющая позицию, особенности мировосприятия субъекта, стратегию и тактики его речевых произведений (текстов);
разработана интегративная модель речевой ситуации иронической направленности с последующим рассмотрением основных экстралингвистических
7 факторов, определяющих её особенности и коммуникативно-функциональной нагрузки каждого её элемента, один из которых - собственно эмоция -представлен в виде текстовых моделей, выявленных на основе языкового материала (драматургии и прозы М.А. Булгакова);
путём комплексного лингвистического анализа осуществлена проверка адекватности данных моделей;
впервые исследован звучащий текст, реализующий иронию, с использованием компьютерных программ, обеспечивающих объективность результатов.
На защиту выносятся следующие положения:
Комплексный лингвистический анализ художественного текста служит основанием для суждения об иронии как об особом типе аффективно-когнитивного взаимодействия - комбинации эмоций, проявляющихся в экспрессивном поведении, и ментальных процессов, определяющих характер этой комбинации; продуктом данного взаимодействия выступает оценочное высказывание, в скрытой форме выражающее критическое отношение субъекта к явлениям действительности.
Ирония, проявляющаяся как личностная черта, как способ мировосприятия, становится элементом идиостиля автора, предопределяет текстовую стратегию, что преломляется в коммуникативно-структурной организации текста: в его лексико-семантических, синтаксических и просодических особенностях.
Основные номинации модели мира ироника, отличающейся несоответствием его исходному идеалу (действительность может значительно уступать идеалу, а в некоторых случаях, вопреки ожиданиям, превосходить его), выражают ключевые понятия, обозначающие общенациональные базовые ценности. Однако семантика реализующих их языковых знаков преобразована иронией: в них содержится сема негативной оценки.
Основой для суждений об эмоциональном состоянии субъекта иронии является специфическая речевая ситуация, отражённая в тексте. Её многофакторная модель, предложенная нами, служит базой для моделирования иронических конситуаций, реализованных в художественном тексте.
Выбор объекта иронии, способов её выражения, речевой стратегии и тактики зависит от социальных и психологических характеристик иронически говорящего, от его уровня владения языком, что позволяет отнести ироника к определённому типу речевой (и общей) культуры.
Ирония реализуется в оценочном высказывании, где соотношение эмоционального и рационального компонентов зависит от эмоциональной напряжённости субъекта; усиление эмоциональной напряжённости ведёт к выражению иронии стереотипными высказываниями (ироническими клише), причём ироническому осмыслению чаще подвергаются номинации - лексемы, эксплицирующие положительную оценку.
Степень просодической выделенное иронических высказываний маркируется в зависимости от открытости или прикрытости иронии, которая в свою очередь определяется стратегией речевого субъекта.
Материалом для анализа послужили данные художественных текстов М.А. Булгакова, а именно: романов «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», повести «Собачье сердце», пьесы «Дни Турбиных», а также репрезентативные фрагменты романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Объем выборки составляет 450 представленных в этих текстах микро- и макроситуаций. В работе использованы данные толковых, специальных философских и психологических словарей; привлечены результаты проведенного нами психолингвистического пилотажного эксперимента.
Методологической основой исследования послужили общефилософский, когнитивный, антропоцентрический подходы. Ведущим явился общенаучный метод - моделирование; применялся метод комплексного (просодического, коммуникативно-структурного) анализа текста, психолингвистический эксперимент; метод анализа лексической сочетаемости и словарных дефиниций. При разработке модели речевой ситуации иронической направленности, текстовой репрезентации иронии мы обратились к компонентному, дистрибутивному анализу. Звучащий текст исследован путём аудитивного и акустического анализа, последний осуществлён с использованием программ для цифро-
9 вой обработки звука, определяющих объективность результатов.
Теоретическую значимость работы можно определить как вклад
в понимание сущности иронии как эмоции;
в определение роли иронии как фактора, участвующего в формировании смысла текста;
в разработку для этого адекватного способа анализа - интегративной модели;
в демонстрацию её применимости к конкретному материалу (текстам М.А. Булгакова разных родов словесности).
Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты применимы для курсов «Лингвистический анализ текста», «Стилистика». Данная работа может послужить основой для разработки программ спецкурсов по теории и практике речевой коммуникации, курсовых и дипломных сочинений студентов; она применима также в курсе «Компьютерные технологии в лингвистике».
Апробация работы. Диссертация обсуждена на заседании кафедры современного русского языкознания БашГУ. Основные положения и результаты исследования отражены в 8 публикациях. По теме диссертации представлены доклады на межвузовских научных конференциях в г. Уфе (БашГУ 2005, УГА-ТУ 2005), на Всероссийской конференции в Казани (КГУ 2005), на международных конференциях в Санкт-Петербурге (в Невском институте языка и культуры 2004, 2006 гг.), на семинарах аспирантов и соискателей филологического факультета БашГУ (2004).
Объём и структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, включающего более 250 наименований, и приложений, содержащих таблицы, тонограммы и образец анкеты, разработанной для психолингвистического эксперимента.
Феномен иронии в гуманитарных науках
Ирония была свойственна людям со времен античности на протяжении всей истории культуры, являясь показателем определенного уровня зрелости последней, и активно использовалась «в межличностном общении в различных сферах жизни общества: бытовой, педагогической, общественно-политической (в виде риторической иронии)» [Пивоев 2000; 5]. Однако учёные чаще обращаются к проявлениям иронии не в обыденном общении, а в художественной практике того или иного автора с целью выявления её роли в художественном методе писателя, прослеживают развитие иронии со времени возникновения и до наших дней в произведениях искусства, дабы определить её значение для исторических типов культуры, различая при этом, как указывает В.А. Серкова, античную, романтическую и постромантическую иронию [Серкова 1989: 4]. В настоящее время исследования иронии в области культурологии были направлены на выявление её ценностного характера как эстетического, риторического и общекультурного явления, результаты этих изысканий представлены в монографии В.М. Пивоева, которым также предприняты опыты описания особенностей переживания и выражения иронии [Пивоев 2000]. Однако, на наш взгляд, последние два аспекта иронии требуют более детального рассмотрения также в плане лингвистики и психологии, поскольку реализованный в речи эмоциональный компонент иронии не подвергался прежде детальному анализу.
«Один из самых "ангажированных" мыслителей XX века» [Большаков, Скуратов 2004: 322 - 323] французский философ, психолог и культуролог В. Янкелевич характеризует всего два этапа в истории становления и развития этого явления. Содержание первого определяет ирония Сократа, которая «оспаривала только пользу и достоверность науки о природе», второго - романтическая ирония начала XIX в., которая «оспаривала само существование природы» [Янкелевич 2004: 11]. По И. Пасси, история изучения иронии делится на три периода, в первом из которых вслед за Сократом она понималась как средство познания и морального совершенствования, затем Ф. Шлегель определил её как творческую субъективность художника, наконец, Зольгер и Гегель предложили считать ее духовно-историческим процессом [Пивоев 2000: 4].
Многие исследователи [Лосев, Шестаков 1965; Лосев 1969; Шестаков 1978; Болдина 1982; Пигулевский 1992; Пивоев 1981, 2000 и др,] освещают историю возникновения и эволюции иронии как последовательно проводимого принципа философствования в разные периоды развития общества. При этом авторы опираются на более подробную историческую типологию, которую можно представить следующим образом: античная ирония; ирония культуры средневековья, эпохи Возрождения, эпохи барокко и просвещения; романтическая ирония; ирония XIX века, проявившаяся в творческом мышлении Золь-гера, Кьеркегора, Ницше; «ирония истории» марксизма; ирония модернизма и постмодернизма. Л.И. Болдина, В.М. Пивоев отмечают, что ирония не могла быть свойственна человеку первобытно-общинного строя, отличавшемуся конкретностью мышления, неумением абстрагировать общее от частного, различать знания и ценности, преображение и отражение действительности [Болдина 1982: 7; Пивоев 1981: 14]. Как явление культуры она возникает в античную эпоху в процессе разложения синкретизма мифологического сознания, при формировании противоречивых ценностных отношений. В этот период Сократ впервые противопоставил сознательную нравственность, иронико-ценностную рефлексию «иронии судьбы» как форме критической оценки самоуверенности людей, которые подвластны воле богов и вопреки своим стремлениям не могут повлиять на ход событий [Пивоев 1981: 14]. Будучи по своей сути своеобразно проявляющимся отношением личности к миру, сократовская ирония называется «нравственной», так как она бимодальна, носит экстравертно-интровертный характер [Пивоев 2000; 9], господствует в сфере сознания [Болдина 1982] и направлена на пробуждение в людях чувства неудовлетворённости жизнью, стремления к постижению высших духовных ценностей [Лосев 1969]. Ирония Сократа «в её платоновско-аристотелевском освещении соединяет в себе иронию как философско-эстетическую установку, давшую впоследствии иронию как эстетическую позицию, как риторическую фигуру (прием) и как момент самого человеческого бытия» [Михайлов 2001; 152]. В. Янкелевич считает Сократа, как и всех софистов, антигероем, а его «вопрошающую» иронию отрочеством иронии, пришедшим на смену детскому нетерпению и увлеченности [Янкелевич 2004: 7]. После сократовской иронии, по замечанию ученого, «следует бесстыдство цинизма киников», которое «часто оказывается изнанкой разочарованного морализма и крайней иронией», отличающейся грубым излишеством, кривляньем, неотесанностью, агрессивностью, скаредностью [там же: 11].
А.Ф. Лосев и В.П. Шестаков, характеризуя представление об иронии античных мыслителей, делают выводы о том, что в античном понимании ирония представляет собой сознание, выражающееся через особые приемы, противоположные идее, которую они репрезентируют. Указанная противоположность имеет своей целью выразить или породить ту или иную общественно значимую идею, поэтому античная ирония «имеет высокоидейную направленность». Положительная целевая установка иронии не мешает ей выступать в общественном сознании чем-то игривым, «близким к самодовлению и к некоторого рода эстетическому самодовлению для иронистов». Античность чаще понимала иронию как сократовскую иронию, но иногда она «мыслилась как нечто безнравственное, низкое или неполноценное» [Лосев, Шестаков 1965: 338].
Ирония как интеллектуальная эмоция
В настоящее время у учёных, работающих в области психологии эмоций, нет единого подхода к дифференциации эмоциональных явлений, к трактовке самого термина "эмоция", не существует также «надёжного и строго описанного инвентаря эмоциональных состояний» [Котов, Кравченко 2006: 546], что создаёт проблемы для идентификации иронии как эмоции. По результатам исследований нейрофизиологических основ эмоциональных состояний человека В.П. Симонов определил сущность любой эмоции в русле своей информационной теории как «отражение мозгом высших живых существ величины (силы) какой-либо из присущих им потребностей и вероятности удовлетворения этой потребности в данный момент» [Симонов 1970: 127]. В трудах по психологии авторы именуют иронию эмоцией либо чувством, по-разному характеризуя этот феномен. Терминологические расхождения иногда приводят к аномальному объединению в одном ряду с иронией таких разноплановых явлений, как чувство боли, чувство юмора, чувство красоты, страха, уверенности. Важно учесть, что эмоциями в психологии называют «класс психологических явлений, представляющих собой внутренние, субъективно переживаемые состояния человека, сопровождаемые приятными или неприятными ощущениями», а чувствами - высшие эмоции, связанные «с отношением к людям, предметам, явлениям, событиям и многому другому, что окружает человека», [Немов 2003: 308, 317] и являющиеся продуктом общественного воздействия. По отношению к иронии мы также не разграничиваем эти понятия и, опираясь своей работе на данные лингвистических словарей и словаря-справочника по психологии [Александрова 1975: 590; Ожегов 1989: 742; Немов 2003: 317], употребляем лексемы эмоция и чувство как синонимы.
В сравнении с такими эмоциями, как интерес, страх или гнев, ирония почти не затрагивается психологами, её природа и особенности изучены слабо. Причина этого, как нам кажется, кроется в том, что ирония - слишком сложный и многогранный феномен, эмоция, в содержании которой высока степень интеллектуального. По мысли С.Л. Рубинштейна, ирония - одно из проявлений высших человеческих чувств, представляющих собой целостный акт отражения объекта субъектом, в котором объединяются такие разные компоненты, как знание и отношение, интеллектуальное и аффективное [Рубинштейн 1989]. В основе одной из многочисленных классификаций эмоций лежит этический аспект, по которому иронию как проявление остроумия исследователи противопоставляют моральным и эстетическим и относят к интеллектуальным (гностическим) эмоциям, возникающим при познании объективной действительности и проявляющимся в процессе межличностных отношений [Богословский и др. 1981]. Термин «интеллектуальная эмоция» (интеллектуальное чувство) тоже не имеет строго определённого значения. По замечанию В.К. Вилюнаса, его содержание не исчерпывается только такими традиционно объединяемыми под этим названием явлениями, как удивление, изумление, любопытство, сомнение и некое общее чувство, возникающее от движения нашей мысли, от её успешности или бесплодности. Понятие «интеллектуальная эмоция» включает в себя и все переходные элементы мышления, которые репрезентируют предметное содержание: сходство, импликацию, совпадение, уверенность, возможность и прочие отношения, выраженные в языке [Вилюнас 2004]. По мнению С.Л. Рубинштейна, иронию следует причислять к наиболее обобщённым мировоззренческим чувствам, существенным компонентом которых признана интеллектуальная составляющая. В ряду других эмоций мировоззренческим чувствам отводится высшая ступень, так как они аналогичны по уровню обобщённости отвлечённому мышлению и по большей части выражают общие более или менее устойчивые мировоззренческие установки личности [Рубинштейн 1989]. Однако, поскольку ирония нередко выступает как частное состояние, приуроченное к определённому случаю, поскольку интеллектуальный компонент является для неё определяющим, мы квалифицируем эту эмоцию как интеллектуальную [Желватых 2004 а], опираясь при этом на положения В.В. Богословского, В.К. Вилюнаса. При описании текстовой модели иронии мы исходим из созданной на основе нейрофизиологических исследований информационной теории эмоций П. В. Симонова, в которой подчеркивается ситуационный характер эмоций [Симонов 1970], а также из теории дифференциальных эмоций К.Е. Изарда [Изард 2000]. П.В.Симонов указывает на зависимость эмоций от величины потребности, нарастания или падения вероятности ее удовлетворения по сравнению с ранее имевшимся прогнозом и характером действия, в процессе которого возникает данное состояние [Симонов 1970, 1975]. Термин «духовные потребности», важный, на первый взгляд, для описания мотивов иронии, автор предлагает заменить более точным и правильным - «информационные потребности», поскольку «потребность в информации является не менее острой и жизненной, чем потребность в пище, воде и сне» [Симонов 1975: 147]. Мотивы субъекта иронии вытекают из его стремления изменить явления, не соответствующие общезначимым, с его точки зрения, идеалам, они, как и другие мотивы высшего социального типа (стремление к познанию, забота о других членах сообщества и т.д.), «невыводимы из утилитарных потребностей» [Симонов 1970: 127]. Переживание и выражение иронического отношения - творческий процесс, а любое творчество, по П.В.Симонову, есть создание нового путем рекомбинации ранее полученных впечатлений [Симонов J 975: 147], «взаимодействие рекомбинационной активности неудовлетворённой потребности с отбором, осуществляемым действительностью» [Симонов 1993: 77]. Психика человека -это сложная структура, состоящая из трёх уровней: 1) сознание - уровень, в котором хранится знание, готовое к передаче другому; 2) подсознание - уровень, в котором хранится всё, что было осознаваемым или может стать осознаваемым в определённых условиях; 3) сверхсознание - творческая интуиция, обнаруживающаяся в виде первоначальных этапов творчества [Симонов 1994].
Опыт комплексного описания иронии как эмоции
По замечанию Г.М. Андреевой, «человек организует своё поведение, опираясь не только на использование когнитивных схем, но в значительной мере на эмоциональное восприятие действительности» [Андреева 2005: 8]. С другой стороны, любая человеческая эмоция предполагает единство аффективного и когнитивного, ключом к его пониманию Л. С. Выготский считал изучение смысла высказывания [Выготский 1996], но до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, как при специальном рассмотрении разграничить эмоциональную и интеллектуальную составляющие эмоции. А. Ортони, Дж. Клоур, А. Коллинз вслед за психологом Мандлером предлагают считать «горячей» стороной ту часть эмоции, которая связана с возбуждением, а «холодной» стороной - «когнитивную интерпретацию», «смысловой анализ» [Ортони, Клоур, Коллинз 1996]. Для определения сущности иронии важен, на наш взгляд, термин «чувственная ткань сознания», используемый В.Ф. Петренко, подразумевающим под ним «ту чувственную данность мира (в форме представлений, наглядных образов, впечатлений), которая, порождаясь в практической деятельности, выступает звеном, непосредственно связующим субъект с внешним миром» [Петренко 2005: 44]. По мнению О.Я. Палкевича, эмоциональный компонент - непременный атрибут иронии, элемент любого иронически окрашенного высказывания, который определяется чувством неодобрения к свойствам или поступкам объекта иронии и психологической установкой ироника на выражение своего интеллектуального превосходства [Палкевич 2003]. Поскольку «роль чувства в мыслительном процессе бывает различной» [Румянцева 2004: 228], важно установить соотношение между чувством и мыслью в процессе формирования иронического отношения. Психологи отмечают, что для иронии, как и для любой формы остроумия, «эмоциональный компонент - это лишь фон или побуждающий мотив; само же "психологическое действие" происходит в интеллектуальной сфере» [Лук 1967: 77]. Психологическое действие следует рассматривать как творческий акт, продуктом которого выступает оценочное высказывание, выражающее в скрытой форме критическое отношение к миру. Проведённый нами комплексный анализ художественных текстов даёт основание полагать, что ирония как интеллектуальная эмоция представляет собой особый тип аффективно-когнитивного взаимодействия, модель которого включает комбинацию эмоций, сопровождающихся экспрессивным поведением (скрытой или явной насмешкой), а также особое представление об объекте, формируемое в процессе его оценки, познания, понимания, интерпретации. Под аффективно-когнитивным взаимодействием (аффективно-когнитивной структурой) мы, опираясь на определение К.Э. Изарда, понимаем такое явление, в котором «в качестве аффективного компонента выступает либо отдельная эмоция, либо комбинация эмоций, либо эмоциональный паттерн, а когнитивный компонент складывается из сети образов, представлений и символов, связанных с этой эмоцией» [Изард 2000: 70].
При изучении такого сложного и многогранного явления, как ирония, целесообразно, по нашему мнению, обратиться к моделированию - центральному исследовательскому методу в науке, предназначенному для обобщения эмпирических данных и служащему связующим звеном между эмпирическими и теоретическими законами. К.И. Белоусов отмечает, что, хотя первые попытки построения моделей речевой деятельности были предприняты ещё И.И. Ревзиным [Ревзин 1962: 8], развившим дедуктивно-эмпирический метод Л. Ельмслева, исследование объектов познания на их моделях «до сих пор остаётся одним из наиболее "нечастотных" методов в филологии» [Белоусов 2005; 127]. Содержание термина "модель" в лингвистике в значительной степени охватывалось ранее термином "теория", поскольку модель, как и теория, создаётся для описания определённой предметной научной области, а также, по замечанию В.А. Штофа, отражает «действительность (объект)... в упрощенной, абстрагированной форме» [Штоф 1966: 15]. Вслед за В.П. Симоновым мы опираемся на определение, предложенное В.А. Штофом, понимающим модель как некую представляемую или материально реализованную систему, отображающую или воспроизводящую объект, способную замещать его и давать информацию, которую невозможно получить путём непосредственного восприятия самого явления [Штоф 1966: 19]. По замечанию В.П. Симонова, художественный текст, как любое произведение искусства, сам по себе уже является специфической моделью, путём воспроизведения натуралистически точно отражающей реальную действительность: объекты и ситуации, отдельные качества, свойства и признаки, присущие явлениям, эмоционально окрашенные события [Симонов 1970, 1975]. Моделируя какую-либо ситуацию, художник анализирует логику действий и сложную систему межличностных отношений персонажей, в поступках которых проступают объективные закономерности поведения. Имеющиеся в художественном тексте искусственно созданные модели естественных эмоциональных реакций, по наблюдениям В.П. Симонова, воспроизводят существенные признаки и свойства моделируемых явлений, способствуют их анализу и познанию [Симонов 1970,1975].