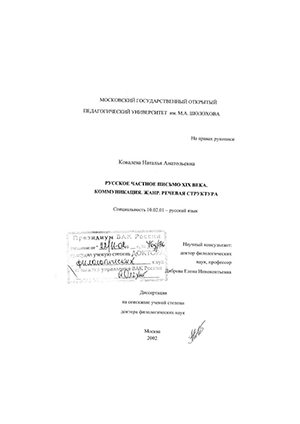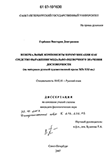Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Литературное наследие и частное письмо 20
1. Эпистолярная литература и ее состав 20
2. Частное письмо как фрагмент литературного наследия 27
3. Лингвосоциокультурные традиции частного письма 48
4. Систематика частного письма XIX в
4.1. Дружеское письмо 76
4.2. Салонное письмо 95
4.3. Семейное письмо 108
4.4. Частно-деловое письмо 121
ГЛАВА II. Языковая концептуализация мира и коммуникативная стратегия эпистолярного текста 133
1. Концептуальная картина мира и понятие концептосферы 133
2. Структура и функции концептосферы 141
3. Коммуникативная стратегия эпистолярия 151
4. Общая и частная коммуникативная стратегия в истории русского литературного языка 160
5. Эпистолярные рекомендации 175
ГЛАВА III. Коммуникативная природа письма 187
1. Аспекты анализа частного письма 187
1.1. Историография письмаXIX в 187
1.2. Частное письмо как речепроизведенческая структура 205
2. Параметризация коммуникативного общения 213
2.1. Интеграция эпистолярной коммуникации 213
2.2. Дифференциации эпистолярной коммуникации 217
3. Личностный фактор в структуре письма 229
3.1. Категория «образа автора» 230
3.2. Языковая личность в структуре письма 243
3.3. Эпистолярное Я 2 4. Иллокутивные классы сообщений 259
5. Прагматика как выражение авторского начала 279
ГЛАВА IV. Письмо в аспекте жанроведения 304
1. Речевая деятельность и функциональный аспект
эпистолярного жанра 304
2. Жанр в филологической историографии 311
2.1. Теория жанра в литературоведении 311
2.2. Теория жанра в лингвистике
3 3. Понятие речевого жанра в теории М.М. Бахтина 322
4. Эпистолярный жанр как вторичная речевая форма
3 4.1. Синкретизм вторичного жанра 336
4.2. Параметризация эпистолярного жанра 345
5. Жанровые конвенции письма начала XIX в 353
г 4 Эпистолярный жанр в современной парадигматике 3 69
ГЛАВА V. Речевая структура частного письма 386
1. Письмо как речеактовая и речежанровая конструкция 386
2. Письмо как эпистолярное повествование
3 2.1. К истории вопроса 393
2.2. Коммуниканты в речевой организации письма
4 3. Речевые стереотипы эпистолярного текста 410
4. Эпистолярный текст: структура и семантика 424
4.1. Ролевые структуры письма 424
4.2 Письмо как вид композита 442
5. Текст частного письма и синкретизм жанра 464
6. Семиология и прагматика речевой структуры письма 480
Заключение 499
Источники 508
Библиография
- Частное письмо как фрагмент литературного наследия
- Структура и функции концептосферы
- Частное письмо как речепроизведенческая структура
- Теория жанра в лингвистике
Частное письмо как фрагмент литературного наследия
Речеактовое и речежанровое конструирование письма отражает его коммуникативно-когнитивную ориентацию, что определяется эксплицитно-стью адресантных целеустановок, полииллокутивностью, политематично-стью и др. с целью получить от адресата оптимальную реакцию. Национальная языковая стратегия почтовой прозы была сформулирована А.С. Пушкиным: письмо должно писаться «простым русским языком» и отвечать принципу «благородной простоты». Коммуникативно-когнитивный эпистолярный принцип получил дальнейшее развитие в письмах русских писателей XIX в., которые пополнялись разговорным и просторечным речевым материалом, стилистическим разнообразием языковой игры и т.д. Установление прямой референциальности частного письма позволило определить жанр эпистолярного текста как синкретичное вторичное образование. Эпистолярий включает в свою структуру как первичные, так и вторичные жанры, что обусловлено моно- и полииллокутивностью содержания. Вторичность жанра эпистолярного текста связана с политематическим познанием реального мира и отражением его через внутренний мир сознания. Эпистолярный жанр достовернее других литературных источников отражает самопознание художника слова, эпоху, динамику и стереотипы, представляющие речевой режим письма. Эпистолярий - завершенный по структуре и смыслу композит, самостоятельная текстовая организация, обладающая связностью и цельностью и характеризующаяся конструктивной рамочностью - пространственно-временной ориентацией; обращением к адресату и подписью адресанта; преамбульно-резюмирующей структурой содержания. Эпистолярный текст представляет собой устойчивую организацию канонизированного типа и является коммуникацией малой литературной формы. Этикет эпистолярного текста в XIX в. определил его языковую организацию, обладающую национально-концептуальным характером, но сохраняющую творческие потенции языка.
Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее результаты могут найти применение при чтении курсов по лингвистическому анализу текста, исследованию языка художественных произведений, стилистике русского языка, изучению индивидуального стиля художника слова, а также комплексному филологическому анализу текста в вузе и школе. Результаты диссертационного исследования могут явиться базой для создания спецкурсов и семинаров, посвященных изучению творческой лаборатории писателя и практическим комментариям прозаических текстов.
Источники исследования. Языковым материалом послужили тексты писем А.С. Пушкина (Поли. собр. соч.: В 16 т. Переписка в 4 т. М; Л., 1937 -1949; Письма: В 3 т. М.; Л.: Academia, 1926 - 1935), И.С. Тургенева (Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма в 13 т. М. - Л., 1961-1968), Л.Н. Толстого (Полн. собр. соч.: В 90 т. Юбилейное издание. М., 1928-1958. Т. 59-90. Письма) и А.П. Чехова (Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма в 12 т. М., 1983) и т.д. Фонд анализируемого материала составил 16311 иллюстраций. На защиту выносятся следующие положения:
Коммуникативная природа письма определяется интенциями и иллокуциями эпистолярного Я, прагматической направленностью как выражением авторского начала и находит свое выражение в речепроизведенческой структуре эпистолярия, обусловленной текстом жанра, лингвосоциальными и культурными традициями и особенностями индивидуального стиля автора письма. Параметризация эпистолярной коммуникации характеризуется интегральными и дифференциальными спецификациями. Интеграция устанавливает аналогии эпистолярного текста в сфере литературных, публицистических, научных и деловых текстов. Дифференциации обусловлены принципом речеповеденческого сотрудничества, включающего: а) ролевые позиции коммуникантов; б) локально-темпоральную расчлененность письма как монолого-диалогического общения; в) назначение базовых функций (фатиче-ской, конативной, когнитивной и этикетной); г) роль адресанта - реального субъекта речи и автора эпистолярного текста; д) авторские интенции, предназначение сообщения известному адресату.
Структура и функции концептосферы
Эпистолярное наследие XIX в. огромно. Значительное место в нем занимают письма художников слова А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и других русских писателей. Частное письмо, являясь формой общения между литераторами, родственниками литераторов, близкими по духу людьми, раскрывает в свободной и непринужденной форме личность писателя: непосредственность реакции на окружающую действительность, размышления о путях развития общества, литературы, отношениях с современниками, - и предстает в своей искренности и доверительности. Письмо - всегда и непременно диалог, позволяющий выявить голоса собеседников, характер их взаимоотношений, их мировосприятие и вместе с тем определить индивидуальность каждого из собеседников. В интимных диалогах-эпистоляриях писатель предстает как реальная личность с ее проблемами и противоречиями, сомнениями и исканиями, страданиями и радостями.
Включая исследование эпистоляриев великих русских художников слова в общий историко-литературный процесс, современный ученый рассматривает историю литературы не только в ее великих свершениях, но и в ее формировании художниками слова, в ее личностном и человеческом аспекте. Антропоцентрический подход к русскому эпистолярию XIX в. позволяет выявить не только духовные искания А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других писателей, но и раскрыть параллельный процесс созидания «почтовой прозы» (А.С. Пушкин), которая также отражала формирование русского литературного языка. Письма великих писателей - это часть литературного наследия, это своеобразные произведения искусства, где образная передача событий максимально приближает их к художественному творчеству. «Письма писателей, - утверждает известный исследователь эпистолярного творчества И.С. Тургенева М.П. Алексеев, - важный источник, представляющий большое и разностороннее значение для изучения личности и творчества их авторов, времени, в которое они жили, людей, которые их окружали и входили с ними в непосредственное общение. Но писательское письмо - не только историческое свидетельство; оно имеет свои отличия от любого другого бытового письменного памятника, архивной записи или даже прочих эпистолярных документов; письмо находится в непосредственной близости к художественной литературе...» (Алексеев 1961, 15). Русская словесность отражает в жанре писем А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова кредо писателей, именно в письмах с наибольшей откровенностью и полнотой раскрывается субъектная сторона и специфика творчества, о чем авторы писем открыто, живо и эмоционально сообщают своим адресатам.
В частных письмах, которые являются фрагментом литературного наследия, рассматриваются проблемы философского, эстетического, культурного, профессионального и лингвистического характера. В них наиболее очевидно эксплицируется интимность общения, контактность коммуникации, эмоциональная атмосфера дружеских связей, живая сенсорность выражаемой мысли и пародийно-юмористическая окрашенность.
Эпистолярии XIX в., золотого века русской литературы, являются свидетельством становления современного русского литературного языка в его нормативности и стилистическом расслоении, расширительности приемов и способов употребления единиц языка. «В середине XIX века укрепляются и утверждаются глубокие национально-демократические основы развития литературного языка. Общенациональная норма охватывает все сферы литературной речи. Разговорная речь становится важнейшей функционально-стилевой частью литературного языка» (Белъчиков 1974, 6). Эпистолярное наследие великих художников слова - это та творческая лаборатория, где сплав разговорной, простонародной и диалектной речи сформировал современные функциональные стили и определил развитие ху зо дожественной речи. Эволюция жанра русского письма в XIX в. отразила не только поиски и открытия в организации речевой структуры художественных текстов, но и повлияла на установление теоретических постулатов в русской филологии. Именно в форме частного письма, в форме интимной, философской и иной прозы раскрывается поэтическое кредо писателя.
«Частные письма, имея разное назначение, несут всевозможную информацию: содержат размышления, наблюдения, исповедь, выражают эмоции, чувства, дают бытовые и автобиографические сведения. В письмах проявляется непосредственность мироощущения, ставящего читателя лицом к лицу с мыслью, чувствами, настроениями пишущего. Письма позволяют шаг за шагом пройти с автором жизненный путь, воссоздают черты характера, широкий круг интересов, его личные отношения к событиям. Они отражают изменения в судьбе, взглядах, душевной настроенности автора. В письме пишущая личность выдвигается на первый план, объективное представление уступает место субъективному» (Кохтее 1997, 640).
Частное письмо как речепроизведенческая структура
И ср. письмо Н.М. Карамзина к поэту Дмитриеву от 22 июня 1793 г., где писатель излагает основной принцип отбора национальных слов, который определяется эмоциональным тоном лексики, что называлось им элегантностью:
«Жаворонок очень хорош. Я хотел бы, чтобы стих и о любви не помышляла (жирный курсив здесь и далее наш. - Н.К.) был глаже, и чтобы вместо встрепенись поставил ты другое слово: надобно сказать встрепенувшись. Пичужечка не переменяй, ради бога, не переменяй! Твои советники могут быть хорошими в другом случае; а в этом они не правы. Имя пичужечки для меня отменно приятно, верно потому, что я слыхал его в чистом поле от поселян. Она возбуждает в душе нашей две любезныя идеи: о свободе и о сельской простоте. К тону твоей басни нельзя прибрать лучшего слова... - То, что не сообщает нам дурной идеи, не есть низко. Один мужик говорит пичужечка и парень: первое приятно, второе -отвратительно. При первом слове воображаю красный летний день, зеленое дерево на цветущем лугу, птичье гнездо, порхающую малиновку или пеночку и покойного селянина, который с тихим удовольствием смотрит на природу и говорит: вот гнездо\ вот пичужечка\ При втором слове является моим мыслям дебелый мужик, который чешется неблагопристойным образом, или утирает рукавом мокрые усы свои, говоря: ай, парень, что за квасі Надобно признаться, что тут нет ничего интересного для души нашей. И так, любезный мой нельзя ли вместо парня употребить другое слово» .
«В тебе то и беда, что ты поэзию свою разносишь повсюду с собою. Жасмин жасмином остается и в конюшне, но какая от него прибыль? Подумай, что ты сделал для славы своей и отечества в течение этих пяти или шести лет? Накидал несколько цветов на истуканов; рано или поздно они должны поблекнуть: им тут не место. Не забудь при том, что ты в самой поре мужества: теперь время резать для потомства. А скажи по совести, в состоянии ли ты заняться трудом важным посреди стихии, в коей трепещешься! Миневра выскочила не из напудренной головы. Пудра сушит мозг, поверь мне». Жанр литературно-дружеской переписки конца XVIII и начала XIX в. отражает эволюцию жанра - стиля арзамасцев и карамзинистов. Если первые представляли эпистолярий в сфере «письма от писателей» - беллетризиро-ванными фрагментами повествования, включением стихотворных компонентов в текст, травестийного обыгрывания и буффонадную форму, то вторые (карамзинисты) полагали, что письма «нужно писать, как говорят, а говорить так, как пишут». Высокая лексика и архаика форм использовалась арзамас-цами в пародийном ключе в отличие от карамзинистов, чей стиль приобретал при употреблении конструкций романтически-сентиментальное, салонное звучание.
Язык эпистоляриев А.С. Пушкина вырос на основе его предшественников, среди которых важнейшее влияние на него оказали Н.М. Карамзин и В.А. Жуковский. Н.М. Карамзин в письме к Боннету отмечал: «Язык наш хотя и богат, однако не так обработан, как другие, и по сие время еще весьма не многие философские и физические книги переведены на Русский. Надобно будет составлять или выдумывать новые слова, подобно как составляли и выдумывали их немцы, начав писать на собственном языке своем» {Карамзин 1926. T.I, IV). В.А. Жуковского относят к учителям А.С. Пушкина. В письме к К.Ф. Рылееву от 25 января 1852 г. Пушкин пишет: «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей; потому что зубки прорезались? Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводный слог его останется всегда образцовым. Ох! уж эта мне республика словесности». Г.О. Винокур отмечает, что «Пушкин работал над своими письмами, как над художественной вещью. Письма для него были равносильны литературному факту» {Винокур 1925, 13). Переписка Пушкина обнаруживает черновую работу писателя над своим языком. Письма А.С. Пушкина несут в себе «отпечаток мгновенного настроения, первого подвернувшегося слова. ... язык их то отрывистый, сильный, сжатый, выражающий бурное течение мысли, то плавный и вдумчивый, когда мысль уступает тихому элегическому чувству воспоминаний, то кипучий и плавный, как сама страсть, которая управляла в иные минуты пером поэта»3. В своей прозаической и поэтической деятельности, в языке и стилистике писем А.С. Пушкин освоил и ассимилировал три главнейших элемента русской речи: церковнославянскую основу высокого стиля речи, европей 3Цит. по: Малаховский 1937, 520. скую (в основном французскую) и живую разговорную, и даже крестьянскую («селянинскую») речь. Живой язык понимался писателем и как бытовая речь дворянства, и как живая народная речь московских просвирен, которую Пушкин противопоставлял «языку дурных обществ» (языку полуобразованного мещанства и мелкой буржуазии). Европейски образованный человек, обладавший гениальным чувством меры, Пушкин впервые в истории русской литературы поднял русский национальный язык до высоты «европейского литературного языка» (В.В. Виноградов).
Язык пушкинской переписки приобретает огромное значение в раскрытии картины эволюции не только пушкинского языка и стиля, но и создания основ современного русского литературного языка. «Письма Пушкина -книга, без которой нельзя знать Пушкина, нельзя проникнуть в его эпоху» (Лернер 1923, 24). По словам Н.О. Лернера, в письмах Пушкина «слово почти не чувствуется», — «из тяжелой грубой ткани, которой мы одеваем нашу мысль и чувство, чтобы передать их другому», Пушкин превращает его в «воздушную, прозрачную оболочку, которая ничего не ослабляет и не скрывает, а лишь молниеносно освещает предметы» (там же, 28).
Теория жанра в лингвистике
Письмо к О.Л. Книппер представляет собой эпистолярный текст, обладающий как межжанровой, так и внутрижанровой вариативностью сообщения. Межжанровая вариативность характерна для первого абзаца письма, где обыденная разговорность: «Дуся», «просто сказать или написать почтальону мой адрес» и т.д. - противопоставлена официозной книжности: «оную повестку получи при сем», «прикажи опустить» и др. Рамку первого абзаца составляют интимно-бытовое обращение «Дуся» и резюме «Поняла?». Семантический контраст создается стилизованным противопоставлением «Дуся», «просто написать и сказать», «Поняла?» и архаической лексикой «оный», «при сем». Контраст разрушает законы стилистических норм, свойственных эпистоляриям XIX в. Экспрессивно-эмотивная ласкательность, доброжелательность в зачине и резюме абзаца рассогласовываются с иронически-насмешливой торжественностью, официозно-деловой аксиологией: «Оную повестку получи при сем...». Стилистика антитетики актуализирует ценностную характеристику сообщаемого, которая включает, казалось бы, несовместимые друг с другом определения одного и того же события. Возникающая стилистическая амбивалентность ( двойственность чувственного пережива 120 ния ) регистрирует шутливую пародийность чеховской манеры изложения события. Внутриэпистолярная амбивалентность представлена также семантико-стилистическим контрастом синонимических именований - обращений в начале и конце письма: «Дуся» - «Бабуля». Общая разговорная принадлежность указанных слов, а также ласкательность обращений - интегральные признаки, которые в тексте письма расходятся в семантическо-аксиологических интерпретациях. «Дуся» - слово разговорно-бытовое, «бабуля» - также разговорно-бытовое, но слово «бабуля» обладает негативно-ласкательной аппресиативностью - легкой уничижительностью при указании возраста адресата.
Антитетичность нарушает этикетную квалификацию тех лет: О.Л. Книппер в то время было 35 лет (О.Л. Книппер-Чехова - 09.09.1868 г. рождения); в соответствии с прямой референцией конца XIX в. возраст О.Л. Книппер относился к «глубокой зрелости».
В письмах последних лет стиль становится более сдержанным и унылым, из них уходят былая яркость и образность изложения. «Большинство писем по форме напоминает обычное бытовое и деловое письмо. Самый тон поздних писем сильно меняется, в них часто встречаются жалобы на плохое самочувствие, болезнь и проскальзывает сознание безнадежности своего состояния. Юмор Чехова становится тоньше и печальнее» {Малахова 1974, 328). 121 О.Л. Книппер-Чеховой от 27 февраля 1904 г.: «Супруга моя хорошая, ... За время, пока я живу в Ялте, т.е. с 17 февраля, ни разу не выглянуло солнце. Сырость страшная, небо серое, сижу в комнате. Вещи мои пришли, но какой-то унылый у них вид. Во-первых, их меньше на самом деле, чем я предполагал; во-вторых, оба сундучка древних в дороге потрескались. Живется мне скучновато, неинтересно; публика кругом досадно неинтересна, ничем не интересуется, равнодушна ко всему. ... Ты пишешь, что не получала от меня писем, между тем я пишу тебе каждый день, только вчера не писал. Не о чем писать, а все-таки пишу. ... Ну, господь с тобой, радость моя, собачка добрая, приятная. Я по тебе скучаю и уже не могу не скучать, так как привык к тебе. Целую мою жену, обнимаю. Твой А.» Письма А.П. Чехова - художественные произведения искусства, в них гносеологические и эстетические свойства не отделимы друг от друга. Образная передача повествуемого похожа на его прозу. Семейные письма - это средство общения с близкими ему людьми: «Да, откровенно говоря, не понимаю я того писания к дорогим и близким людям, которое пишется по обязанности, а не в минуты хорошего настроения, когда не боишься ни за свою искренность, ни за размер письма» (Ал. П. Чехову, 1903 г.).
Частное-деловое письмо11 представляет собой послание к официальному лицу или в общественное учреждение. В нем помещены разнообразные Частно-деловое письмо не имеет самостоятельного рассмотрения в литературе вопроса. просьбы о нуждающихся, представлены прошения, разного рода свидетельства, расписки, уведомления, доверенности и т.д. Дифференциальными признаками этого подтипа являются книжная лексика, речевые клише и фразео-логизированные конструкции. Текст стилистически однороден, строится по определенному трафарету, не допускается образность языка, широко распространены канцеляризмы. Частно-деловое письмо обладает строго регламентированной системой социальных ролей, которым соответствуют стандарты речевого поведения. Эффект официальности достигается за счет активного употребления собственно-книжных фразеологических единиц клишированного типа: «возлагать надежды», «иметь смелость», «сделать усилие», «принять во внимание», «ронять в глазах», «снимать ответственность», «ставить в положение», «идти в первых рядах», «оказать влияние» и др. Эти фразеологизмы выполняют особые стилистические задачи, они являются информативно усиливающим средством оперативности общения, они несут в себе элемент дополнения, усиливающий основную информацию.
Великие писатели земли русской, являясь представителями своей эпохи и будучи зависимыми в своей жизни от вышестоящих лиц, были вынуждены обращаться с деловыми «просительными» посланиями. В письме к А.Х. Бенкендорфу от 11 -23 октября 1835 г. А.С. Пушкин употребляет официозную лексику и фразеологию, которые по канонам клишированности должны были представлять указанный вид письма: «Обращаюсь к Вашему сиятельству с жалобой и покорнейшею просьбою.
По случаю затруднения цензуры в пропуске издания одного из моих стихотворений принужден я был во время Вашего отсутствия обратиться в Цензурный комитет с просьбой о разрешении встретившегося недоразумения. Но Комитет не удостоил просьбу мою ответом. Не знаю, чем мог я заслужить такое небрежение - но ни один из русских писателей не притеснен более моего. Сочинения мои, одобренные государем, остановлены при их появлении - печатаются с своевольными поправками цензора, жалобы мои оставлены без внимания. Я не смею печатать мои сочинения - ибо не смею...»
Добиваясь публикации своих произведений, великий поэт был вынужден обращаться с унизительными просьбами к руководителям цензурного комитета, о чем свидетельствует его письмо к М.А. Дондукову-Корсакову от 6 апреля 1836 г.: «Милостивый государь князь Михаил Александрович, Осмеливаюсь обратиться к Вашему сиятельству с покорнейшею просьбою. Конечно, я не имею права жаловаться на строгость цензуры: все статьи, поступившие в мой журнал, были пропущены. Но разрешением оных я обязан единственно благосклонному снисхождению Вашего сиятельства, ибо цензор, г. Крылов, сам от себя не мог решиться их пропустить. Чувствуя в полной мере цену покровительства, Вами мне оказанного, осмеливаюсь, однако ж, заметить, во-первых, что мне совестно и неприлично поминутно беспокоить Ваше сиятельство ничтожными запросами, между тем как я желал бы пользоваться правом, Вами мне данным. ...