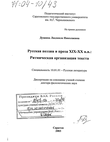Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Теоретические основания исследования. Прагматическая ситуация текстопорождения литературно-критического эссе. Коммуникативная деятельность эссеиста 21
1.1. Литературно-критическое эссе и критическая статья. Эссеистическая интерпретация первичного текста 21
1.2. Коммуникативная природа текста как отправная точка исследования 29
1.3. Обобщенный портрет эссеиста. К постановке проблемы 35
1.4. Адресат реальный и адресат концепированный 54
1.5. Текст литературно-критического эссе в системе типологических соотношений. Фактор адресата и интертекстуальность жанра 59
1.6. Коммуникативная цель эссеиста и способы ее реализации. Путь от авторского замысла к порождению текста 64
Глава 2. Русское литературно-критическое эссе начала XX века: автор-творец и читатель «своего круга» 68
Вводные замечания 68
2.1. И. Анненский. «Книги отражений». Статьи и речи 1890-1909 годов 73
2.2. Ю. Айхенвальд. «Силуэты русских писателей» 103
2.3. М. Волошин. «Лики творчества» 121
Резюме 149
Глава 3. Эссе русского зарубежья: В. Набоков и его «восхитительный» читатель 151
Глава 4. Русское литературно-критическое эссе конца XX века: автор-творец и разнообразие читательского опыта 181
Вводные замечания 181
4.1. А. Терц (А. Синявский). «Прогулки с Пушкиным» 187
4.2. В. Ерофеев. «В лабиринте проклятых вопросов» 218
4.3. Л. Аннинский. «Серебро и чернь» 250
Резюме 280
Глава 5. Точка зрения и способы ее трансляции (коммуни кативная стратегия и тактики эссеиста) 283
5. 1. Точказрения 283
Вводные замечания 283
5. 1.1. Предметно-смысловые основания манифестации точки зрения . 287
5. 1.2. Текстовые отправители точки зрения 299
5. 2. Диалогическая стратегия как фон для трансляции точки зрения... 305
Вводные замечания 305
5.2.1. Речевые средства контакта между автором и читателем . 314
5.2.2. Речевые средства создания широкого диалогического фона при опосредованном общении 331
5.3. Коммуникативные тактики и речевые средства их реализации 339
Вводные замечания 339
5.3.1. Повтор как основное средство реализации манипулятивных и эмоционально настраивающих тактик 345
5.3.2. Приемы направления читательского восприятия как основа программирующих и дискредитирующих тактик 363
5.3.3. Рассуждение-доказательство как основа аргументатив-ных тактик. Особенности рассуждения в литературно-критическом эссе. Комплексное использование речевых тактик 402
Резюме 435
Заключение 438
Источники 454
Библиографические ссылки 454
Словари 471
- Текст литературно-критического эссе в системе типологических соотношений. Фактор адресата и интертекстуальность жанра
- И. Анненский. «Книги отражений». Статьи и речи 1890-1909 годов
- Предметно-смысловые основания манифестации точки зрения
- Приемы направления читательского восприятия как основа программирующих и дискредитирующих тактик
Текст литературно-критического эссе в системе типологических соотношений. Фактор адресата и интертекстуальность жанра
Коммуникативную направленность, риторический пафос статей В.Г. Белинского, близость их к разговорным формам устной речи отмечает подавляющее большинство исследователей трудов критика. Детальному изучению разговорной, в том числе ораторской направленности статей Белинского положило начало тонкое наблюдение Л. Г. Гроссмана: «Основная и любимая форма статей Белинского - это прямая речь, критика-доклад, критика-беседа. Вслушиваясь в главную интонацию его писаний, мы вернее всего представляем его себе стоящим на трибуне перед большой аудиторией, которую он учит, воспитывает, убеждает и увлекает своим словом. Это критик-оратор» (Гроссман, 1954: 121).
Личность автора как центральной фигуры критических и публицистических произведений XIX века выявляется большинством исследователей через соотношение «автор произведения читатель». «Функциональная природа критического монолога находит выражение в форме молчаливого слушателя и в специфической природе личности критика, организующего идейное и эмоциональное напряжение критического высказывания. Поэтому так естественно в строгую, деловую прозу критического жанра входит, а лучше и точнее - врывается новый элемент: личность критика со всей резкостью его взгляда на мир, его философии, его вкусов и во всей полноте его жизненных сил» (Поляков, 1968: 27). В зависимости от метода и жанра критических работ М. Поляков дает следующую типологию личности автора-критика 1 половины XIX века: «Уже романтики пытались разрушить холодную непроницаемость критического суда и ввести образ критика. Но он является образом условным, почти символическим, лишенным жизненной полноты... Личность критика почти исчезает в романтических обозрениях Бестужева, если же она и присутствует в его статье, то приобретает приподнятый характер, выступая в роли романтического героя с его условным "специально-поэтическим языком"» (Поляков, 1968: 30-31).
Личность Белинского-критика, по М. Полякову, проявляется различным образом. Так, в статье «Александрийский театр», представляющей собой «органический сплав публицистических и беллетристических элементов», ведущей становится двуединая фигура критика и повествователя, которая «имеет своей функцией посредничество между литературными фактами, проблемами и читателем». В интерпретационном типе статьи «роль личности критика... сводится к группированию документации для обоснования поставленных и формулированных или общественно важных проблем». Центральной фигурой некоторых статей-обзоров Белинского является «образ автора-повествователя, сознание которого формируется под давлением использованных и изображенных фактов», а в определенной части рецензий, опирающихся на описательную стилистику, «главную роль играет образ автора с его отношением к тому или другому герою». Функция автора памфлета «не только установление контакта с читателем, а и глубокое раскрытие внутреннего состояния памфлетиста» (там же: 48-61).
Разным типам личности автора критической статьи соответствуют и разные образы читателей. Это восторженный поклонник искусства, собеседник, обширная аудитория. Б. Егоров отмечает как беседную, так и ораторскую направленность статей Белинского, подчеркивая, что лишь в самом начале деятельности критика «интимная беседа будет перемежаться в статье с ораторской речью. Чем дальше, тем меньше будет в статьях Белинского таких лирических отступлений: "Литературные мечтания" пересыпаны ими, вторая крупная статья "О русской повести" содержит всего два или три таких места, а потом будут целые статьи создаваться без всякой "интимности", целые месяцы и годы Белинский будет "объективным"» (Егоров, 1980: 82). По мнению Б. Егорова, ораторские и беседные признаки статей Белинского сходятся в выделении личностного начала, которое постепенно усиливается во всем - в социально-политической сфере, в философии и эстетике. Исследователь выделяет в творчестве Белинского две основные формы проявления такого начала: особую семантику местоимений я и мы и диалогизацию монолога. Личность автора, получившая обозначение через местоимения я и мы, приобретает, по мнению Б. Егорова, двоякое значение: «... "я" и стоящее за ним "мы" расширяется до очень крупной общественной единицы, которую можно приблизительно охарактеризовать как "все мыслящие, все благородные люди России". Очень редко "мы" Белинского расширяется еще до более грандиозных размеров, например, когда он говорит: "мы, русские..." в отличие от других народов. А в подавляющем большинстве случаев "мы" - это редакция журнала, группа единомышленников» (там же: 268).
С точки зрения Б. Егорова, с самого начала «Литературных мечтаний» у Белинского «зарождается прообраз диалога, и подобные вкрапления диалога в монологический текст будут возникать в первые годы деятельности критика непрерывно» (Егоров: 84). В. Г. Березина, исследуя проблему читателя и зрителя в критике В. Белинского, показала, что его статьи в «Телескопе» или «Молве» воспринимались именно как диалог-беседа (Березина, 1977: 46). В.Г. Березина и Е.П. Прохоров, разделяя мнение о том, что творчество Белинского имеет «ярко выраженную личностную окраску», указывают на принципиально новый аспект - «наличие "лирического героя", совпадающего с образом самого автора» (там же: 44), а также отмечают «организующую роль лирического героя в публицистике» критика (Прохоров, 1978: 39).
Личность автора проявляется и в импровизационной манере творчества Белинского, свободе изложения, поправках «на глазах читателя», постоянной смене интонаций, отступлениях. «Белинский в крупных своих произведениях никогда не высказывает свою мысль в "готовом" виде - он рассуждает, демонстрирует, полемизирует, обличает, требует выбора, облегчает поиски правильного решения, иронизирует» (Прохоров, 1978: 34).
И. Анненский. «Книги отражений». Статьи и речи 1890-1909 годов
Не имея соответствующего информационного запаса, читатель не поймет и те фрагменты эссе, в которых есть аллюзии (имена, цитаты) из области античной и европейской философии (Платон, Аристотель, Сократ, Кант, Шопенгауэр, Ницше, Киркегор), и те фрагменты, которые содержат аллюзии, восходящие к несловесным видам искусства, как, например, отсылки к тематике левитанов-ских пейзажей ("все эти золотые плесы, незаметные церковки, тихие обители"), которые являются фоном для айхенвальдовской характеристики чеховских героев - «для сиротливой чайки, для усталого дяди Вани, для лишних чеховских людей с одухотворенными лицами и больными сердцами».
Без известного фонда знаний затруднительно восприятие и тех фрагментов эссе, в которых содержатся исторические аллюзии (имена Колумб, Иван Грозный, Екатерина II, мадам Дюбарри и др., названия исторических событий).
Для читателя «Силуэтов» очень важна способность ориентироваться в русской и мировой литературе. Так, для понимания фрагментов из эссе «Тургенев» ему необходимо мысленно сопоставить образ тургеневского Инсарова с теми персонажами, которых традиционно называют "лишними людьми", невыделенную цитату «о розах, которые были так хороши и свежи», со знаменитым мятлевским стихотворением и т.д.
Читателю «Силуэтов» "приписывается" знание языков и знание значений заимствованных слов. Так, адресат должен понимать без перевода названия тютчевских стихотворений («Malaria», «Stilleben», «Silentium»), уметь переводить слова, выражения и цитаты с латинского, греческого, французского, немецкого языков (лишь 5 иноязычных слов в совокупности исследованных нами текстов даны с объяснением значений), адекватно понимать иноязычные заимствования типа имматериализм, квинтэссенция, солипсизм, аберрация, имманентный, теодицея, инфернальный, панпсихизм, пантеизм, иррациональный, антропоморфизация, партеноцентризм и т.д.
В периферию поля входит знание литературоведческой терминологии и способность правильно ее интерпретировать, знание биографии автора текста-источника и способность распознать биографический факт по намеку. Так, трудно понять высказывание: «Не тупой тоскою тосковал он [Тютчев] по ушедшей женщине, и небо услышало его молитву, дало ему "жгучего страданья", дало ему "живую муку" - "по ней, по ней, свой подвиг совершившей"», без знания такого факта биографии Тютчева, как поздняя, драматическая любовь к Е.А. Денисьевой. Невозможно понять смысл высказывания: «Дорога [Лермонтова] пресеклась у подножья Машука», не зная обстоятельств гибели поэта. Адресат, не осведомленный о том, что воспитателем И. А. Гончарова являлся его дядя - отставной моряк Якубов, не сможет понять мысль о том, что замысел «Фрегата Паллады» относится к юным годам писателя. Читатель, не знающий биографии Достоевского, не сумеет сопоставить его творческий облик с фактом гражданской казни писателя: «Уже одно то, что Достоевский, пловец страшных человеческих глубин, провидец тьмы, рудокоп души, пережил психологию смертной казни, невероятный ужас ее ожидания, - одно это делает его существом инфернальным, как бы вышедшим из могилы и в саване блуждающим среди людей живых».
В целом информационная плотность текста «Силуэтов» очень велика, а факторы, облегчающие восприятие текста (разговорные слова и выражения, простые синтаксические конструкции, абзацное членение текста, графические выделения, пояснения, толкования, перевод), Ю. Айхенвальдом почти не используются.
Очень сложный для восприятия текст позволяет тем не менее выделить основную конституирующую черту адресата «Силуэтов» - потенциального читателя-критика. Эту черту можно охарактеризовать как детальное знание текстов-источников, способность свободно ориентироваться в них. Приведем еще один отрывок из эссе о Л.Н. Толстом, предполагающий способность адресата воспринимать айхенвальдовский текст вне указания на какие-либо хронологические, тематические или жанровые рамки источников, понимать имена, ситуации, сопоставления, коллизии, нашедшие художественное воплощение в произведениях Л.Н. Толстого:
«Не литератор вообще, он [Толстой] не имеет и литературной специальности. Без усилий приближается он ко всему: изумляет бесконечный диаметр его созидательств. От Наполеона и до Холстомера, от огромных полчищ, многоверстных живых "холстов", моря войск и до лиловой собачки Платона Каратаева, которая завыла, когда больного пристрелили его французы; от мистерий рождения и смерти, войны и страсти, от убийства и милосердия, от Верещагина, разрываемого толпой, и до Агафьи Михайловны, огорченной, что у женившегося Левина стали варить варенье по новому методу, - все это неизмеримое расстояние Толстой проходит с одинаковой силой, и вниманием, и интересом, без устали, без напряжения, без искусственности. Грезы засыпающего ребенка и последние видения умирающего; бред безумия и жара, и первый бал влюбленной девочки или эта новая Бедная Лиза из "Двух гусар", выросшая с любовью к другим и от других...боязнь юноши, что вот начнется, что "уже начинается там, где меня нет"; ощущения воина, у ног которого, на поле битвы, вертится дымящийся волчок гранаты...»
Этот фрагмент требует от адресата, по крайней мере, 1) знания таких произведений, как «Война и мир», «Холстомер», «Анна Каренина», «Детство. Отрочество. Юность», «Два гусара»; 2) умения соотнести высказывание не только с названными (Наполеон, Холстомер, Платон Каратаев, Левин и др.), но и неназванными героями ("грезы засыпающего ребенка" - Николенька; "последние видения умирающего " - князь Андрей; "первый бал влюбленной девочки" - Наташа Ростова; "боязнь юноши" - Николай Ростов; "ощущения воина" - князь Андрей и др.); 3) способности восстановить в памяти сцены из текста-источника ("мистерии рождения и смерти " - смерть графа Безухова, рождение сыновей Левина и князя Андрея; "море войск" - батальные сцены из «Войны и мира».
Восприятие «Силуэтов » без ориентации читателя в мировой культуре, литературе, истории, без знания терминологии и языков будет, несомненно, упрощенным, обедненным, но без знания всей системы текстов того или иного автора понять эссе принципиально невозможно.
Попытаемся представить себе облик автора «Силуэтов » по типовому набору параметров. Репрезентация субъектных опосредовании автора сводится, с нашей точки зрения, к следующей типологии.
СКД-1, наиболее близкий к биографическому автору, встречается в тексте эссе сравнительно редко. В отдельных случаях СКД-1 обозначается местоимением мы в значении "я" для передачи оттенков "авторская скромность", "авторское достоинство" (Майданова, 1993: 186): «Мы хотим сказать главным образом то, что его [Лермонтова] поэзия - отрывок по существу; она не завершила своего цикла» («Лермонтов»).
Предметно-смысловые основания манифестации точки зрения
Помощник в решении трудной задачи - осознания автором текста-источника своей творческой индивидуальности. Ю. Айхенвальд считал, что писатель не может быть лучшим читателем своих сочинений и что он не всегда способен перевести себя с языка поэзии на язык прозы. Отсюда в работах критика появляется субъект коммуникативного действия как помощник писателя или поэта, достаточно характерный прежде всего для тех эссе, которые посвящены творчеству начинающих авторов. Например, Мариэтте Шагинян, Ю. Айхенвальд так помогает понять себя и найти свою творческую дорогу: «Есть сомнения и трудности в том, какой сделать выбор в жизни: идти ли по ее общей, по ее большой дороге или блюсти свою отдельную линию, свою частную тропинку. Иными словами, к чему склониться - к сходствам или к различиям? Пантеизм или индивидуализм?.. Если же все-таки в пафосе религиозного чувства или в проникновенном служении красоте возможно найти ту целостность духа, где примиренно соединяются общее и частное, угождение единому и угождение многообразному, где одинаковые приносятся жертвы Богу сходств и Богу различий, то в эту сферу высоких примирений открыта дорога и для Мариэтты Шагинян, потому что она обладает творческой душою, а где творчество - там гармония» («Мариэтта Шагинян»).
Своеобразный пророк, выполняющий профетическую функцию, предсказывающий творческую судьбу, например судьбу Анны Ахматовой: «Все психологические детали этого романа [Ахматовой и Гумилева] явлены в чарующих стихах "Вечера", "Четок", "Белой стаи" и "Подорожника"... Отметим лишь ту из его важных и своеобразных особенностей, что герой его - поэт, а героиня - поэтесса. Похититель сердца, других "прекрасных рук счастливый пленник", оказывается, "знаменитый современник", и его любовную тяжбу с героиней рассудят когда-нибудь потомки, и когда-нибудь дети прочтут в учебниках имя отвергнутой им женщины, - она войдет в его биографию; он не дал ей, сероглазый жених, любви и покоя, зато подарит ее горькою славой. Но биография пересечется здесь с биографией, его стихи встретят ее, потому что и она их пишет, и из стихов в стихи переливается дыхание обоих: "голос твой поет в моих стихах, в твоих стихах мое дыханье веет"» («Анна Ахматова»).
Важнейшим видом коммуникативной деятельности в «Силуэтах» является, без сомнения, деятельность критика, интерпретатора текстов. Сам Ю. Ай-хенвальд определил свой метод исследования произведения как интуитивный, импрессионистский, имманентный: «Обычный историко-лите-ратурный метод не приближает к цели, т.е. самому произведению, а уводит от него в совершенно постороннюю даль. Гораздо естественнее - метод имманентный, т.е. когда исследователь художественному творению органически сопричащается и всегда держится внутри, а не вне его... Этот метод берет у писателя то, что писатель дает, и судит его, как хотел Пушкин, по его собственным законам, остается в его собственной державе» (Айхенвальд, 1994: 24). Интуитивность восприятия и импрессионистичность трактовок отмечены исследователями его творчества: «Он позволяет себе роскошь непосредственного восприятия, чувства, интуиции» (Крейд, 1994: 7); «Метод его литературной критики был методом чистого импрессионизма. Он вслушивался в ритмы художественных произведений, вникал в их образы и души и из внушенных ему искусством переживаний создавал свои статьи, своеобразные перифразы разбираемых произведений» (Степун, 1994:15).
Ю. Айхенвальд не приемлет социологизированных трактовок произведения в связи с эпохой, когда оно создавалось, считая, что «наиболее обычное следствие подобных историко-литературных изучений таково, что их авторы, поставив себе две цели, не достигают ни одной. Они искажают облик и писателя, и его эпохи: не оказывается ни человека, ни века» (Айхенвальд, 1994: 18). Литература, по мнению Ю. Айхенвальда, сверхвременна и сверхпространственна, поэтому естественно рассматривать художественные произведения вне времени, вне пространства, вне биографии. Не избегая намеков на биографию там, где она помогает понять смысл произведения, он тем не менее считает, что «биография приемлема только там, где она с творчеством сливается, и что если между ними разлад, то критик должен считаться не с биографией, а с творчеством» (там же: 24).
Во главу исследования Ю. Айхенвальд ставит творческую индивидуальность личности, для него существенно «Кто испытывает воздействия среды, а не то, какие это воздействия» (там же: 21), что напрямую связано с мировоззренческой концепцией автора «Силуэтов»: «Нет общества: есть личности. Это значит: все общее и общественное в конечном счете определяется личностями. А в основе каждой из них лежит та душевная субстанция, которая все объясняет... В сфере искусства к этой субстанции, к личности художника, и сходятся все нити изучения» (там же). Отсюда писатель понимается Айхенвальдом как явление идеальное: «Пушкин - это не Александр Сергеевич и не ряд белых страниц с черными строками: писатель - дух, его бытие идеально и неосязаемо; писатель - явление спиритуалистического порядка, целый мир своих и наших ощущений, мыслей, образов, картин и звуков; писатель - вечная динамика, начало движущееся и движущее» (там же: 26). Миссия критика, по Айхенвальду, воспринимать художественное произведение, «созерцать, вести все дальше и дальше духовную нить впечатлений», объяснить писателя не только другим, но и ему самому. Для этого критик должен как можно полнее слиться с художественным произведением, «должен изнутри сродниться с художником, перелить его душу в свою и свою душу в его» (там же: 28).
Реализацией теоретической концепции Ю. Айхенвальда стало предъявление читателю квинтэссенции впечатлений о том или ином писателе или поэте. Как правило, это одно центральное впечатление, формулируемое как суждение, и ряд впечатлений частных, подтверждающих первоначальное. Так, эссе о А.С. Грибоедове представляет собой совокупность впечатлений о трагедийном начале знаменитой комедии: «Пьеса Грибоедова на свое название комедии имеет, конечно, только историко-литературные права; по существу же она - глубокая трагедия, и роковая невзгода, постигшая Чацкого, представляет собою лишь частичный отзвук мировой судьбы идеализма» («Грибоедов»), Чацкий, русский Гамлет и Дон Кихот, трагичен: «Чацкий страдает и как гражданин, и как любовник, он оскорблен и в своих общественных идеалах, и в своем чувстве. И самая отчужденность его от Софьи служит лишь роковым проявлением его общего одиночества и сиротства в Москве, в России» (там же). И Софья, отвергнувшая Чацкого, вызывает у Айхенвальда лишь печаль и сожаление по поводу ее одиночества и заброшенности: «Чацкий мчится теперь по снеговой пустыне, Софья живет в нравственно-пустынном доме отца или в глуши, у тетки, - но оба они одиноки, оба тоскуют, и невольно вызывает жалость ее обманувшееся и обманутое сердце» (там же).
Приемы направления читательского восприятия как основа программирующих и дискредитирующих тактик
Выше мы отмечали очень высокую смысловую, в частности аллюзийную, плотность книги. Возникает вопрос: «Почему же сложный для восприятия филологический текст все же ориентирован автором на учащихся старших классов?» Думается, это обусловлено манерой интерпретации текста-источника, выбранной Л. Аннинским, и В. Ерофеевым. Аннинский осмысливает творчество двенадцати великих поэтов с опорой на субъективно понятые концепты их творчества. В связи с этим хотелось бы немного остановиться на понятии "концепт".
Вопрос о природе концептов, или универсалий, издавна был предметом внимания философов. В отечественной традиции работы в области концептуализма связываются прежде всего с именами С. А. Аскольдова (Алексеева), ЮС. Степанова, Д.С. Лихачева. С.А. Аскольдов одним из первых дал определение концепта как «мысленного образования, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода» как «акта, намечающего вполне определенную мыслительную отработку (анализ и синтез) конкретностей определенного рода... как проективного наброска однообразного способа действий над конкретностями» (Аскольдов, 1997: 269, 272-273). С.А. Аскольдову принадлежит и заслуга разграничения концептов познания и художественных концептов, понимаемых им как сочетание рационального и иррационального - «понятий, представлений, чувств, эмоций, иногда даже волевых проявлений», связь между которыми «зиждется на совершенно чуждой логике и реальной прагматике художественной ассоциативности» (там же: 274, 275).
Д.С. Лихачев, отталкиваясь от высказываний С.А. Аскольдова, уточняет природу концептов, связывая их богатство и разнообразие с культурным опытом нации и отдельного человека: «Чем меньше культурный опыт человека, тем беднее не только его язык, но и "концептосфера" его словарного запаса, как активного, так и пассивного. Имеет значение не только широкая осведомленность и богатство эмоционального опыта, но и способность быстро извлекать ассоциации из запаса этого опыта и осведомленности. Концепты возникают в сознании человека... и как отклики на предшествующий языковой опыт человека в целом - поэтический, прозаический, научный, социальный, исторический и т.п. Концепт... в известной мере и расширяет значение, оставляя возможность для сотворчества, домысливания, эмоциональной ауры слова» (Лихачев, 1997: 282). Тем самым Д.С. Лихачев разделяет мнение Ю.С. Степанова о том, что «русская культура существует в той мере, в какой существуют значения русских (и древнерусских) слов, выражающих культурные концепты» (Степанов, 1997: 289). Д.С. Лихачев определяет концептосферы через категорию вероятности, как «потенции, открывающиеся в словарном запасе отдельного человека, как и всего языка в целом», и считает, что концептосфера является «неким концентратом культуры, культуры нации» (Лихачев, 1997: 282, 287).
Интерпретации творчества великих русских поэтов, предложенные Л. Аннинским, в значительно большей степени, чем интерпретации В. Ерофеева, восходят к концептуалистике. Именно о «концептуальном самовыражении» Л. Аннинского пишет М. Эпштейн, характеризуя статьи критика. Ряд теоретических положений концептуалистов, и прежде всего положение о деиндивидуали-зации автора, который «говорит опосредованно, использует замену своего голоса чужими голосами, цитатами, мнениями других людей» (Васильев, 1999: 237), реализуются в текстовой ткани книги, например во фрагменте об А. Ахматовой: «Келья над могилой, дом над бездной - в стихах 1911 года задана мелодия, которая будет звучать до последних мгновений: полвека спустя Ахматова ответит сама себе гениальными строками - все о том же... О, как чуяли ее близкие, ее чуткие читатели этот запредельный зов. Мандельштам говорил: "Кассандра!" Цветаева окликала: "Чернокосынька моя, чернокнижница!" Николай Гумилев догадывался: "Из логова Змиева, из города Киева я взял не жену, а колдунью". Эпоху спустя боевые пролетарские критики интеллигентского происхождения печатно спрашивали Ахматову, отчего она не умерла до 1917 года, и удивлялись, что она еще жива» (Аннинский, 1997). Такая перекличка голосов полностью соответствует представлениям концептуалистов о тексте и художественном тексте, см. мнение И. Васильева: «Концептуализм относился к голосам жизни как к текстам, из которых предстояло извлечь идею ("концепт") и сделать ее очевидной, наглядной, художественно опредмеченной» (Васильев, 1999: 238).
Сама идея книги «Серебро и чернь» - осмыслить драму двенадцати русских поэтов в категориях нашего времени, опирается, с нашей точки зрения, на высказывания С.А. Аскольдова и ряда других ученых о том, что постижение художественных произведений «никогда не дается сразу, а требует повторных подходов, причем каждый новый подход несколько продвигает содержание восприятия в новые области» (Аскольдов, 1997: 274). Выбор интерпретационной манеры с опорой на концептуализированный языковой знак, который обладает широким ассоциативным потенциалом, обусловлен, по нашему мнению, как идиостилевыми пристрастиями автора, так и фактором адресата. Во-первых, книга формально адресована учащимся старших классов, то есть людям, культурный опыт которых явно недостаточен для восприятия сложного филологического текста. Вероятно, поэтому Л. Аннинский воздействует на читателя путем активизации его эмоций и чувств, и опора на концепты является тем путем, который позволяет автору апеллировать прежде всего к эмоциональному опыту адресата, ср. высказывания С.А. Аскольдова и Д.С. Лихачева об эмоционально воздействующем потенциале концептов: «Неопределенное нечто, обещаемое в первичном значении, то нечто, которое мы даже бессильны вполне раскрыть в направлении обещанного, отличается иногда чрезвычайной остротой художественного воздействия. Таковы, например, концепты ужаса и любовного очарования. Здесь неизвестное и как бы бездонное нечто в этом роде волнует нас гораздо глубже, чем раскрытое или легко раскрываемое» (Аскольдов, 1997: 276); «Русский язык действительно "жгуче зноен" по возбуждаемым им концептам. "Жгучего зноя" не может возбудить язык, склонный к обнаженно понятийным и однозначным определениям, к терминологичности, удобный для науки, техники и для компьютеров, лишенный богатого человеческого, национального, исторического опыта» (Лихачев, 1997: 284).