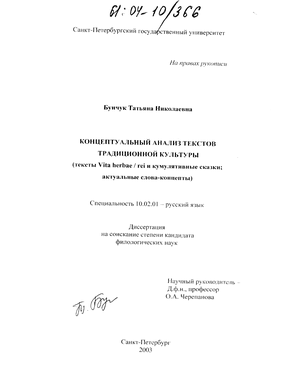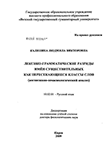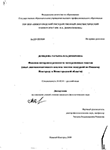Содержание к диссертации
Введение
Глава I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА (тексты Vita hcrbae et vita rei и кумулятивные сказки в традиционной культуре)
1. Концептуальный анализ текста. Фольклорный текст 20
2. Тексты Vita herbae et vita rei 33
3. Кумулятивные сказки («Репка», «Колобок») 60
Глава 11. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ТЕКСТА (Опыт реконсірукции концептов, репа (редька, горох), собака, кошка в языке и традиционной культуре)
1 Понятие «концепт» и «концептуальный анализ слова» 106
2. Концепт «Репа (редька, горох)» 108
3. Концепт «Собака» 144
4. Концепт «Кошка» 164
Заключение 1 07
Источники 206
Библиография 210
- Концептуальный анализ текста. Фольклорный текст
- Тексты Vita herbae et vita rei
- Понятие «концепт» и «концептуальный анализ слова»
Введение к работе
С древнейших времен язык представляется человеку не только как-утилитарное средство передачи актуальной информации, но и как специфический культурный код, орудие познания и даже преобразования мира: «В начале было слово» (Евангелие от Иоанна, Гл. 1:1). Человек осваивал окружающую его действительность «от себя», и потому результат культурного освоения мира запечатлевался в знаках вместе с образом человека, осваивающего этот мир: «если Бог запечатлел свой образ в человеке, то человек запечатлел свой образ в языке».1 Еще Пифагор полагал, что «для познания нравов какого ни есть народа»2 нужно прежде всего познать его язык. Тем самым, постулат об антропоцентризме языка представляется безусловным и на сегодняшний день общепризнанным: в современной науке о языке антропологическая лингвистика является одним из динамично развивающихся направлений. Более того, положение об антропоцентризме языка легло в основу новой научной парадигмы, ело жившейся на рубеже XX и XXI веков.
Смена исследовательских парадигм в научном познании предстает как результат поиска адекватного, наиболее объективного взгляда на действительность. В лингвистике можно выделить три основные научные парадигмы («образы языка»), в разное время доминировавшие в исследованиях: сравнительно-историческая, системно-структурная и антрополо-
1 Арутюнова И.Д. Введение//Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. М.. 19. С. 3."
: Цит. по: Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической' парадигмы в языкознании // Филологические науки. 2001. №1. С.64. О понимании единства (изоморфизма) мира и языка раннегреческими философами см.: Гринцер 11.11. Лингвистические основы раннегреческой философии // Язык о языке: Сб. статей / Под ред. Н.Д.Арутюновой. М.. 2000. С.45-
62.
' Новизна этой парадигмы, правда, весьма относительна, так как идеи антропоцентризма языка имею г очень давнюю историю. Однако в качестве парадигмы модели постановки проблем и совокупности приемов их решений —антропоцентризм «провозглашен» впервые.
.і
гическая. Специфика отношений между этими научными парадигмами заключается в том, что они не сменяют друг друга, а «накладываются одна на другую и сосуществуют в одно и то же время»/ Антропологическая парадигма определяет особенности лингвистических исследований -только выявление и структурализация языковых явлений без выхода на выводы мировоззренческого характера не могут считаться достаточными целями лингвистического анализа.
Интерес к антропологической проблематике в науке о языке возник еще в K.XVIII-H.XIX веков и с тех пор не угасал, несмотря на то, что антропологическая лингвистика была оттеснена на периферию научного пространства достижениями структурной лингвистики. Еще в конце XVIII века И. Гердер называл в качестве важнейших феноменов человека язык, культуру, общество и национальный дух.' В начале XIX века В. фон Гумбольдт задумался над проектом науки о языке на антропоцентрических началах. Много способствовали развитию этого направления в языке труды братьев Гримм, Ф. Боаса, Э. Сепира, Б. Уорфа, Э. Бенвени-ста. В России разработка антропологической проблематики в языке была начата Ф.И.Буслаевым, А.Н.Афанасьевым и А.А.Потебней. Важное значение для развития антропологической лингвистики имели работы А.И. Соболевского, А.А. Шахматова, Е.Ф. Карского, Д.К. Зеленина, Г.О. Винокура, Б.А. Ларина.
В науке последних десятилетий позиции антропологической лингвистики являются достаточно прочными. С этой областью научного по-
4 См. подробнее об этом, напр.: Степанов К).С. Изменчивый «образ языка» в пауке XX пека .'/ Язык и navk-a конца XX века. М., 1995: Маслова В.А. Лингвокультурология. М, 2001: Постовалова В.И. Лип-гвокультурология в свете антропологической парадигмы // Фразеология в контексте культуры ' О і в. ред. В.П.Телия. М., 1999 и др. В.И.Постовалова несколько иначе обозначает наличие и последовательность научных парадигм: имманентно-семиолої ическая. антропологическая и теоантроиокосмическая (транспедентальная), «при которой язык рассматривается в максимально широком экзистенциальном и понятийном контексте Бог, человек, мир - в аспекте «мистической прагматики» (С.28). " См.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. " См.: Гердер И.Г. Идеи и философия истории человечества. М., 1977. См.: 1 Чмбольдт фон В. Язык и философия культуры. М., 1985.
иска в той или иной степени связывается деятельность таких исследователей, как Н.Д. Арутюнова, Ю.Д. Апресян, Е.Л. Березовим, Е.М. Верещагин, Л.Н. Виноградова, А.С. Герд, А.В. Гура, А.Ф. Журавлев, Вяч. Вс. Иванов, В.В. Колесов, В.Г. Костомаров, Н.Б. Мечковская, В.М. Мокиеп-ко, СВ. Никитина, Ю.С. Степанов, З.К. Тарланов, В.Н. Телия, Н.И. и СМ. Толстые, В.Н. Топоров, Б.А. Успенский, А.Т. Хроленко, Т.В. Цивь-ян, О.А. Черепанова, А.Д. Шмелев и др. Среди зарубежных исследователей нужно назвать А. Вежбицку, Е. Бартьминского, Я. Анушкевича и др.8
В целом антропологическая лингвистика выявляет две тенденции: стремление к описанию «макромира» - язык как важная составляющая человеческой культуры и бытия (с этим связано появление интегратив-ных дисциплин: психолингвистики, когнитивной лингвистики, социолингвистики, лингвофольклористики и т.д.) и стремление к описанию «микромира» словоцентризм, внимание к отдельным лексемам как средоточиям и выразителям культурного осмысления явлений действительности (культурная герменевтика слова). Тесным образом с антропологическим направлением в языке связаны проблемы изучения языковой картины мира (в том числе и «жанровой картины мира»: картина мира в преломлении жанра того или иного художественного или фольклорного текста), проблемы интертекстуальности, культурной коннотации слова (национально-культурного компонента в структуре лексического значения слова), традиций и особенностей речевого поведения (языковой личносіи / идиолекта), семантико-семиологических и ономасиологических особенностей фразеологизмов и др.
Антропологическая лингвистика - это, безусловно, интегративная дисциплина, в ее компетенции находятся такие глобальные понятия, как
Подробнее см. обзоры в работах: Цивьян Т.В. Лингвистические основы балканской модели мира. М.. 1990, ГІостовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке; Язык и картина мира. М., 1988; Хроленко А.Т. Лиигвокультуроведсиие. Курск, 2000; Маслина
язык, ментальность, культура, этнос, общество, то есть все, что объединяет в себе человек и человеческое. Вследствие этого содержание термина антропологическая лингвистика очень объемно, термин, скорее, является названием направления, научной парадигмы. Одновременный учет всех важнейших для антропологического языкознания феноменов в современной науке пока невозможен, отсюда формирование нескольких научных дисциплин, пытающихся сконцентрировать исследовательские усилия на чем-то одном - этнолингвистика, лингвокультурология, социолингвистика, этносоциолингвистика, этносемантика и т.п. Тем не менее, несмотря на терминологическое разнообразие и попытки обособиться, границы разделов антропологической лингвистики, разрабатывающих культуроведческие вопросы, оказываются размытыми, а цели очень близкими. На практике оказывается невозможным оставаться в рамках только, например, лингвокультурологии или социолингвистики.
Пока господствовала структурно-имманентная парадигма в научном описании языка и антропологические исследования считались факультативными, не имеющими глобализма в описании языковых явлений, такое направление именовалось как этнолингвистика. Сейчас, когда произошло смещение акцента в сторону антропоцентрического взгляда на язык, когда функциональный и когнитивный аспекты языка представляются не менее важными, чем коммуникативный, и делаются попытки интерпретировать языковые явления различных уровней с точки зрения структуры знания, в них отраженной, содержание термина этнолингвистика расширилось. Под ним стала пониматься наука, призванная изучать «явления и процессы в области языка, в определенной степени связанные с проявлением самосознания какого-либо этноса или со взаимо-
В.А. Лингвокультурология. М., 2001; Березовим П.Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Екатеринбург, 2000.
9 В статье Этнолингвистики в ЛЭС 1990 указано, что в работах американских ученых термин зтінкшн-гчистиксі часто заменяется терминами антропо.-шнгвистика и этносемантика (Кузнецов A.M. Этнолингвистика//Лингвистический энциклопедический словарь/ Гл. ред. В.II. Ярцева. М., 1990).
(>
отношением этносов между собой» . Это привело к тому, что в компетенции этнолингвистики оказались вопросы социолингвистики, диалектологии, ономастики, лексикологии, то есть, по сути, этнолингвистика стала «выражением» едва ли не всей антропологической парадигмы в языкознании. Неудовлетворенность столь широкой трактовкой дисциплины привела к необходимости «сузить» предмет и направление анализа. В результате возникли синхроническая и диахроническая этнолингвистика, лингвокультурология (лингвокультуроведение), этносоциолингви-стыка, причем исследователи по-разному определяют предмет и границы этих дисциплин, их соотношение. Н.И. Толстой, определяя место этнолингвистики в кругу гуманитарных дисциплин, пишет: «В известном смысле этнолингвистика и социолингвистика могут расцениваться как два основных компонента (раздела) одной более обширной дисциплины, с той лишь разницей, что первая учитывает прежде всего специфические - национальные, народные, племенные - особенности этноса, в го время как вторая - особенности социальной структуры конкретного этноса (социума) и этноса (социума) вообще, как правило, на поздней стадии сто развития применительно к языковым процессам, явлениям и структурам».1 Это мнение поддерживает А.С. Герд: «Во многих отношениях социолингвистика и этнолингвистика - это две части единой дисциплины -этносоциолингвистики». " Однако позже он отказывается от термина эт-носогшолингвистика, считая его «тяжелым»: «Как показывает практика, тот гермин лучше, который проще и за которым уже стоит традиция его употребления. Таковым и остается этнолингвистика». Проблему соотношения этнолингвистики и социолингвистики А.С. Герд решает хронологическим разделением предметов исследования (отказавшись и от тер-
'" Лрутюнов С.А. Этнолингвистика //Этнополитический вестник. 1995. №5. С. 145.
1' Толстой І ТИ. Этнолингвитика в кругу гуманитарных дисциплин // Толстой Н.И. Яшк и народная
культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995. С.27-28.
'' Герд А.С. Введение в этнолингвистику. СПб., 1995. С.5.
'' Герд А.С. Ведение в этнолингвистику: Курс лекций и хрестоматия. СПб.. 2001. С.7.
мина социолингвистика) - синхроническая и диахроническая этнолин-
гвистика.
В 90-е годы появился еще один термин -лингвокультурология. В.В. Воробьев, определяя место лингвокультурологии в кругу смежных наук -социолингвистики, этнолингвистики, психолингвистики и лингвострано-ведения, - называет ее самой обобщающей, имеющей интегративный характер. Такой же точки зрения придерживается В.А. Маслова: «Если этнолингвистика оперирует преимущественно исторически значимыми данными и стремится в современном материале обнаружить исторические факты того или иного этноса, а социолингвистика рассматривает исключительно материал сегодняшнего дня, то лингвокультурологии исследует и исторические, и современные языковые факты сквозь призму духовной культуры». ' В результате В.А. Маслова дает очень широкое определение лингвокультурологии, весьма напоминающее широкое определение этнолингвистики: «Лингвокультурология - это отрасль лингвистики, возникшая на стыке лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке».17 В.Н. Телия разводит этнолингвистику и лингвокульгуроло-гию, опираясь на хронологическую ориентацию исследований: «В центре интересов лингвокультурологии - исследование и описание взаимодействия языка и культуры в диапазоне современного культурно-национального самосознания и его знаковой презентации. Эта синхронная ориентация существенно отличает ее от этнолингвистики...основные задачи [которой] сводятся к реконструкции...в диахроническом движе-
14 «Диахроническая этнолингвистика использует язык и лингвистические методы как средство познания дслекого прошлого, этнической истории народа, истории его материальной и духовной культуры. Синхроническая этнолингвистика рассматривает язык и методы языкознания как орудие и среде і во проникновения в актуальные, национальные и социальные проблемы современности» (Гам же). и См.: Воробьев В.В. Лингвокультурология: (теория и методы). М., 1997. '" Маслова В.А. Лингвокультурология. М., 2001. СМ. Гам же. С-9.
1 &
ний». Тем не менее, определяя особенности соотношения этнолингвистики и лингвокультурологии, В.Н. Телия указывает, что «при различиях целей и задач этнолингвистики и лингвокультурологии первая выступает как фундамент для второй». А.Т. Хроленко предлагает принципиально иной подход к разграничению этнолингвистики и лингвокультурологии. По его мнению, лингвокультурология отличается от этнолингвитики тем, что в рамках этой дисциплины должно отсутствовать этническое ограничение рамок языка и культуры; лингвокультурология рассматривает проблему языка и культуры в принципе, не ограничиваясь конкретным языком и конкретной культурой, и значит, ее целью есть выявление универсальных механизмов взаимодействия языковых и культурных факторов вообще, для любого сообщества." В этом случае этнолингвистика и лингвокультурология различаются не как синхроническое и диахроническое, а как национальное и универсальное.
Таким образом, можно отметить, что в понимании задач лингвокультурологии, ее соотношения с этнолингвистикой у исследователей нет единства; более того, анализ конкретного лингвистического материала в антропоцентрическом аспекте заставляет «забыть» о разграничении синхронии и диахронии в языке. Невозможно понять современные механизмы взаимодействия языка и культуры без исторических данных, в свою очередь, нельзя и адекватно реконструировать архаический языковой или культурный факт без проекции на его современное состояние. Куль-
ls Телия В.Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры //Фразеология в контексте культуры. М., 1999. С. 16. '" Там же. Сходной точки зрения придерживается С.Г. Воркачев: «Лингвокультурология на сею-дняшний день, пожалуй, самое молодое ответвление этнолингвистики или же, если воспользоваться «химической» метафорой, это новейшее молекулярное соединение в границах последней, отличное о і всех прочих своим «атомарным составом» и валентностными связями: соотношением «долей» лингвистики и культурологии и их иерархией. В задачи этой научной дисциплины входит изучение и описание взаимоотношений языка и культуры, языка и этноса, языка и народного менталитета» (Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. 2001. №1. С.64-65). Однако можно заметить, что. определяя задачи лингвокультурологии таким образом, автор статьи в результате формулирует определение, очень похожее на определение, данное ранее Н.И. Толстым этнолингвистике. " См.: Хроленко А.Т. Лингвокулыуроведение. Курск, 2000.
тура, и язык как ее одновременно составная и определяющая часть, изменчива, но ее развитие эволюционно, но не революционно, развиваются старые формы, новые не возникают из ниоткуда."1 При попытке описать концепты - лингвоментальные конструкты - границы между диахронией и синхронией языка и культуры становятся весьма условными. Таким образом, вопрос о границах дисциплин и терминологии остается открытым.
Однако чтобы четко определить позицию научного описания, тем самым сфокусировав внимание на объекте и ракурсе данной работы, необходимо обозначить место предпринятого исследования среди направлений антропологической лингвистики. В связи с тем, что основным объектом изучения является традиционная русская культура, выражающая себя в языке, предметом исследования в диссертации стали тексты этой архаической культуры, а изучение древностей народной культуры и языка уже традиционно относится к этнолингвистике, обозначим свое исследование как этнолингвистическое.
В рамках этнолингвистического направления можно выделить две самостоятельные ветви, которые обозначились вокруї двух важнейших проблем: 1.) реконструкция этнического пространства по данным языка. Это направление связывается по преимуществу с постановкой и решением задач реконструкции, воссоздания древнейшей системы онтологических, космологических, социальных представлений, отражаемых «культурной» лексикой, с этимологизацией слов мифологического характера и т.п. и 2.) реконструкция материальной и духовной культуры этноса на основе языкового материала. Это направление в качестве первоочередного выдвигает требование максимальной дескрипции, выявления насколько возможно полного инвентаря форм традиционной культуры, ритуалов,
"' Значительных успехов в области этнокультурной первичной мотивации слова достигли отечественные этимологи и историки языка: «Сравнительно-историческое языкознание, этимология, построенная на них реконструкция в общем давно работаю! с концепцией антропоцентричности древней (в часі носім) славянской культуры и языковой картины мира» (Трубачев О.П. Славянская филология и сравпи-тельность: От съезда к съезду // Вопросы языкознания. 1998. №3. С.20).
обрядовой лексики с преимущественным вниманием к ареальным проблемам, к диалектологии культурных феноменов, к географическому аспекту их изучения. Первая представлена прежде всего именами Вяч. Вс. Иванова, В.Н. Топорова, Т.В. Гамкрелидзе, вторая - Н.И. Толстого и его школы. А.Ф. Журавлев уточняет специфику этих направлений так: «С известной долей условности эти направления могут быть определены как «этимологическое» и «диалектологическое» соответственно»." Тем не менее и то и другое направление задают основную координату этнолингвистических исследований - этнический язык и традиционная духовная культура народа.
В соответствии с этим Е.Л. Березович предлагает выделить два аспекта этнолингвистических штудий: «С одной стороны, четко вырисовывается своеобразная «лингвистика этнической культуры», которая предполагает изучение народной культуры с помощью аппарата лингвистики, основанное на постулате об изоморфизме культуры и языка...Можно сказать, что такая этнолингвистика является этносемиотикой...С другой стороны, развитие и углубление этнолингвистической проблематики ставит вопрос о необходимости тщательно прорисовать особенности взаимоотношений между субъектами того «федеративного государства», с которыми работает этнолингвистика (естественным языком, фольклором, обрядом etc.) и выявить закономерности кодирования информации средствами каждого из них. Магистральная задача при этом - определить специфику основного, наиболее социально значимого канала трансляции этнокультурной информации - естественного языка...Таким образом, этнолингвистические разыскания в любом случае являются комплексными. Они могут быть нацеленными либо на описание того или иного фрагмента традиционной картины мира по данным разных культурных
" Журавлев Л.Ф. Vir doctus, vir docens: К 70-летию акал. Н.И. Толстого '<' Вопросы ячыкочиания. 1()()3. №З.С. III.
кодов, либо на выявление специфики отражения духовной культуры
-)}
в языке (на фоне других культурных кодов)»." Таким образом, в первом случае в качестве предмета исследования выступает фрагмент традиционной культуры - концепт, - выраженный средствами разных кодов, в том числе и вербальным. Вследствие этого в поле зрения исследователя, кроме собственно лингвистических данных, должны попасть по возможности все случаи знакового использования денотата (прежде всего в обряде). В центре внимания лингвиста при таком анализе обычно является лексика, эксплицирующая концепт, слово как экспонент концепта культуры в совокупности его связей со знаками других кодов. В первую очередь это так называемая «культурная» лексика - терминология обрядов и верований во всей совокупности семантических связей. Однако, помимо обрядовой терминологии, этнолингвистика занимается «культурной интерпретацией» обыденной лексики, выявляя концептуальную логику первичной номинации, развития значений слов и образования дериватов, а также выявляя особенности и закономерности вербальной кодировки определенного явления действительности (денотата). Такое исследование имеет целью реконструировать объем концепта," стоящего за тем или иным денотатом, концептуальность которого определяется тем, что он в традиционной культуре может выступать в качестве обрядового знака или символа. В этом ключе выполнено исследование, представленное во второй главе настоящей диссертации.
В другом случае - выявление специфики отражения духовной культуры в языке - актуализируется вторая часть термина этнолингвистика. Тогда языковой факт рассматривается не как метазнак для обозначения знаков других кодов, а как знак вербального кода культуры, изоморфный им. Предметом изучения тогда является языковая единица
2' Береювич Е.Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Екатеринбург. 2000. С 6-8. ~м Подробнее о понятии «концепт» как лингвоментальной сущности в Гл.2.
любой сложности - от звука до текста. Задачей анализа становится определение концепта, формирующего языковую единицу, а также выявление ее «встроенное» в систему национальной духовной культуры, соотношения с единицами других культурных кодов. Такой анализ направлен на обнаружение прагматико-смыслового ядра языковой единицы, организующего ее как знака культуры. В подобном ключе выполнено исследование, представленное в первой главе данной работы. Концептуальная сфера культуры, реконструируемая в рамках первого типа этнолингвистического анализа, является базовой для исследований второго типа: концепт отдельной языковой единицы (прежде всего текста") обусловлен всей системой мировидения (этнической ментальности) - концептосфе-рой.
Предметом изучения в диссертации стали тексты с мотивом Vita herbae et Vita rei («жития» растений и предметов) в традиционной культуре, а также кумулятивные сказки (в частности, «Репка» и «Колобок»). Данные тексты уже попадали в область внимания исследователей: и фольклористов, и этнолингвистов. К изучению текстов с мотивом Vita обращались этнолингвисты: Н.И. Толстой, СМ. Толстая, F..E. Левкиеп-ская, Т.В. Цивьян. Тексты кумулятивных сказок становились объектом исследования преимущественно фольклористов: В.Я. Проппа, II.В. Лозовской, Т.Б. Диановой, И.Ф. Амроян. Сказка «Колобок» привлекла внимание Н.И. Толстого, Ю.Г. Фефеловой. Отмечая безусловные достоинства проведенных ранее исследований и в определенных случаях опираясь на их результаты, сделаем попытку концептуального анализа этих текстов, что позволит приблизиться к представлению неких «прототекстов», лежащих в основе этих фольклорных «жанров», выявить концепт текста, определивший его структурно-семантическую организацию. Основным постулатом, задавшим направление и ракурс анализа, является следую-
" ] Іодробнее о понятии «концепт текста» в Гл. I.
ідеє. Фольклорный текст не является самодостаточным, он есть разновидность «текстов» культуры,"' что и обусловливает его специфику. Структурно-семантическая организация фольклорного текста представляет собой сложное единство единиц различных языковых уровней для выражения единого коммуникативного задания. Сакральная прагматика определяет строение этой многоуровневой языковой единицы. Фольклорный текст — это не конечная цель языкового «творчества», он есть средство для достижения важных космогонических целей: обрядовое преобразование действительности для обеспечения миропорядка. Вследствие этого каждый из уровней обладает «повышенной семиотично-стью». Слово имеет особый статус, так как является относительно независимым языковым знаком, способным самостоятельно эксплицировать фрагмент действительности, вернее феноменологическое преломление действительности в сознании и языке человека. Оно может быть экспонентом концепта национальной ментальности." Это делает необходимым обращение к концептуальному анализу ключевых слов определенного фольклорного текста. Обращение к ключевым словам кумулятивного текста «Репка» как экспонентам концептов национальной культуры привело к относительно самостоятельному исследованию концептов собака, кошка, репа и сделало их отдельным предметом анализа.
Цели диссертационного исследования; - выявить особенности содержания и формы архаического фольклорного текста, обусловленные его функцией и местом в традиционной
~" Ср. такое понимание культуры, как «иерархически организованной систем ы р а з н ы х к о л о в. т.е. вторичных знаковых систем, использующих разные формальные и материальные средства для кодирования одного и того же содержания, сводимого в целом к «картине мира», к мировоззрению данного социума» (Толстой Н.И., Толстая СМ. О словаре «Славянские древности» // Славянские древности: л'нолиш вистический словарь: в 5 т.т. / Под ред. II.И. Толстого. Т. I: А-Г. М.. 1995. С.7). "' Изучение словарного состава языка как выразителя метальных особенностей тгноса имеет давнюю историю. Среди исследователей, занимавшихся и занимающихся проблемой концептуалыюсти в языке можно назвать А.А. Потебню. Ф.И. Буслаева, Г.О. Винокура, В.В. Виноградова, Ь.А. Ларина, В.В. Колесова. Н.Д. Арутюнову, Ю.Д. Апресяна и др. Подробнее об этом в Гл.2.
культуре: определить концепт текста, рассматриваемый как производный концептосферы национальной культуры;
- определить объем и содержание концептов репа, собака, кошка в кон-
цептосфере русского языка и русской культуры, эксплицируемых
ключевыми словами фольклорного текста.
Достижению данных целей способствовало выполнение следующих задач:
выявить функции текстов - вербально и невербально выраженных - с мотивом Vita herbae / rei и кумулятивных сказок в русской традиционной культуре;
определить роль структурно-семантических элементов текстов (фоне-гико-интонационных, морфологических, синтаксических, лексических) с мотивом Vita herbae / rei и кумулятивных сказок в выражении прагматико-смысловых установок традиционной культуры;
выявить особенности прагматической организации текстов; установить связь вербальных апотропеических приемов, представленных в анализируемых текстах, с невербальными (очерчивание / окружение, собирание / перечисление) в обрядовом контексте;
установить генетико-прагматическую и семантическую связь текстов Vita herbae / rei и кумулятивных текстов и определить их различие; выявить репрезентацию концептов репа, собака, кошка в русском национальном языке: в литературной, диалектной, просторечной, жаргонной сферах;
- выявить репрезентацию данных концептов в невербальной сфере в
русской традиционной культуре; определить соотношение между вер
бальными и невербальными средствами экспликации концептов;
определить место концепта репа, как доминирующего ключевого слова в тексте, среди единиц вегетативного кода традиционной культуры (преимущественно Русского Севера);
установить и описать составляющие («семантические доли») концептов репа, собака, кошка; выявить общие («пересекающиеся») и специфические концептуальные элементы;
определить роль данных концептов в качестве ключевых слов в тексте кумулятивной сказки «Репка».
Материалом исследования стали фольклорные тексты разной жанровой принадлежности с мотивом Vita herbae / rei: былички, сказки, загадки, заговоры, и текстовые варианты кумулятивных сказок с сюжетами «Репка» и «Колобок», а также «тексты» культуры с этими мотивами. Кроме того, материал исследования составляют различные средства репрезентации концептов репа (редька, горох), собака, кошка: 1. лексические и фразеологические единицы; 2. текстуальные единицы (фольклорные тексты различных жанров); 3. единицы других знаковых систем (обрядовые «тексты»). Источниками послужили материалы Фольклорного архива Сыктывкарского госуниверситета, Картотеки словаря русских говоров Республики Коми и сопредельных областей кафедры русского и общего языкознания Сыктывкарского университета, Картотеки СРПГ Института лингвистических исследований (ИЛИ) (Санкт-Петербург), Словарного кабинета СпбГУ: Картотеки Псковского областного словаря; данные словарей различного типа (диалектных, исторических, этимологических, фразеологических и т.д.); опубликованные фольклорные тексты различных жанров, этнографические материалы (преимущественно по Русскому Северу), литературно-художественные тексты."
Методологическая база исследования была сформирована с опорой на типы и методы анализа, предложенные в работах отечественных этнолингвистов (исследователей школы Н.И. Толстого) и «концептуалистов» (исследователей школ Н.Д. Арутюновой и Ю.Д. Апресяна), в частности в работах, посвященных семантической и этимолого-
ономасиологической реконструкции (с опорой на рассмотрение первичной мотивации, на идеографический анализ, на выявление структуры семантических полей, компонентный анализ лексического значения и т.п.) и применяющих интегрально-контрастивный метод, который предполагает поиск языковых, фольклорных и этнографических схождений и расхождений. Использование структурно-семиотического меіода с его приемом оппозитивных противопоставлений обусловлено ориентацией на работы Ю.М. Лотмана и тартуской школы по семиотике и типологии культуры.
Научная новизна работы состоит в том, что впервые подвергнуты концептуальному анализу фольклорные тексты Vita herbae I rei и кумулятивные сказки: осуществлена попытка выявить концепт данных текстов, обусловивший их структурно-семантическую и семиотическую организацию. В диссертации впервые предпринята попытка описать объем и содержание концептов репа, собака, кошка в русском этноментальном / этноязыковом пространстве, выявив их концептуальные составляющие." Концептуальный анализ слов репа, собака, кошка обусловлен необходимостью определить роль данных лексем в прагматико-смысловой организации текста кумулятивной сказки «Репка».
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть полезны для дальнейшего углубления теории концепта и разработки методики концептуального анализа фольклорных текстов. Конкретные наблюдения над семантикой и функционированием языковых единиц - слов репа, собака, кошка, их дериватов, а также фразеологизмов с этими словами в качестве структурных компонентов - могут быть значимы для разработок мотивационного
х Подробнее см. раздел «Источники».
4 Уже существуют работы, в которых представлены мифологические представления восточных еланям, связанные с собакой и кошкой (см. обзор в Главе 2). Однако описания лингвоментальных концепти сооика. кошка с выявлением составляющих концепт семантических элементов почти не было предпринято.
характера в этимологии и фразеологии, для изучения принципов семантического развития слов и семантических полей в исторической лексикологии. Результаты исследования могут быть использованы в курсах по лексикологии, фразеологии, диалектологии, страноведению, спецкурсах по проблемам представления языковой картины мира, лингвистического анализа фольклорного текста.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования были представлены на научно-методических семинарах кафедры русского и общего языкознания Сыктывкарского госуниверситета (1993, 1998, 2000 гг.), научных семинарах кафедры фольклора и истории книги Сыктывкарского госуниверситета (1995, 1999), совместном заседании научного семинара кафедры фольклора и истории книги и сектора фольклора ИЯЛИ КНЦ УрОРАН (февраль 2002), Ежегодных Февральских Чтениях Сыктывкарского университета (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 гг.), Всероссийской научной конференции «Сольвычегодск в истории русской культуры» (Сольвычегодск, сентябрь 1991), Международной научной конференции «Христианизация Коми края и ее роль в развитии государственности и культуры» (Сыктывкар, май 1996), XXVII межвузовской конференции преподавателей и аспирантов СПбГУ (С.-Петербург, март 1998), Всероссийской научной конференции «Духовная культура Севера» (Сыктывкар, ноябрь 1998), Международной научной конференции «Коренные этносы Севера европейской части России на пороге нового тысячелетия: история, современность, перспективы» (Сыктывкар, июнь 2000), III международной научно-практической конференции по региональной культуре «Межэтническая коммуникация в современном социокультурном пространстве» (Н.-Новгород, май 2001), Международной научной конференции «Фольклор и художественная культура. Современные методологические и технологические проблемы изуче-
ния и сохранения традиционной культуры» (Москва, Центр русского фольклора, ноябрь 2002) и отражены в четырнадцати публикациях.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав («Концептуальный анализ текста (тексты Vita herbae et vita rei и кумулятивные сказки в традиционной культуре)»; «Концептуальный анализ ключевых слов текста (опыт реконструкции концептов собака, кошка, репа (редька, горох) в языке и традиционной культуре)»; заключения, списка источников и библиографии.
Концептуальный анализ текста. Фольклорный текст
Изучение языкового сознания, народной (национальной) языковой картины мира, попытки взглянуть на дискурс с точки зрения когнитивных структур, лежащих в основе современной компетенции и в основе архаического сознания, дает возможность нового осмысления лингвистических феноменов, иное понимание человеческой коммуникации. Такой подход к изучению лингвистических фактов опирается прежде всего на принципы комплексного рассмотрения объекта анализа. Текст как единица языка изучается сейчас такими «гибридными» разделами лингвистики, как психолингвистика, социолингвистика, этнолингвистика и т.д. В результате этого текст предстает явлением настолько многосторонним и разноплановым, что не позволяет сформулировать достаточно коротко единое его понимание, «запечатленное» в дефиниции: он исследуется в рамках таких направлений, как лингвистика текста, теория речевых актов, теория массовой коммуникации, прагматика и т.д.
Тем не менее общим положением в определении текста является то, что он представляет собой основную единицу коммуникации, обладающую цельностью и структурированностью; к примеру, такая дефиниция текста - «определенным образом организованная и структурированная совокупность предложений с единым коммуникативным заданием - выражение коммуникативных потребностей человека»". Общепризнанным является и то, что текст - одна из основных коммуникативных единиц, участвующая в коммуникации как средство отражения и преобразования внелингвистической действительности: «Наша речь, - по вы-ражению Г.Вайнриха, - покоится на ситуации»". Текст, таким образом, можно рассматривать как вербальную и знаково зафиксированную «реакцию» на ситуацию. Текст ею провоцируется и ее отражает. Кроме того, организация текста зависит от адресата (реципиента). При создании текста сознательно производится селекция знаковых форм для адекватного выражения мотива и интенции коммуникации, с одной стороны, а с другой - для соответствия типу адресата (индивидуальному или массовому), что позволяет адресату адекватно воспринимать и понимать текст. Адресант (продуциент) не только создает текст, но и прогнозирует его восприятие адресатом (реципиентом). Текст есть элемент знаковой системы, входящей в общий для говорящего и слушающего смысловой код. Все это формирует важнейшее свойство текста как лингвистической единицы - неразрывное, взаимосвязанное единство функции (прагматики), формы и смысла. В связи с тем, что текст во многом обусловлен внелингвистиче-ской реальностью, которая является толчком для его порождения, есть основание для выявления и описания первоначального импульса, того прагматико-смыслового ядра, обусловившего своеобразие структурно-семантической организации конкретного текста. В.В.Красных предлагает термин «концепт текста». Концепт текста в работе исследователя предстает как воплощение мотива (психической реакции на внешний раздражитель (ситуацию)) и интенции (глубинной психолингвистической реакции на внешний раздражитель): «Под концептом понимается глубинный смысл, свернутая смысловая структура текста, являющаяся воплощением интенции и - через нее - мотива деятельности автора, приведших к порождению текста»7. Таким образом, концепт текста являет собой рефлективное ментальное образование, возникшее под воздействием экстралингвистической действительности (ситуации), которая в конечном счете определяет функциональные, структурные и семантические особенности текста. Природа концепта текста сложнее, чем рациональный замысел или бессознательный импульс, способные привести к появлению коммуникативной единицы. В.В.Красных определяет это таким образом: «На наш взгляд, представляется не совсем корректным ставить знак равенства между концептом и рациональным замыслом, с одной стороны, или концептом и «наитием» - с другой. Думается, что концепт в основе своей сугубо интуитивен и бессознателен, но в процессе порождения текста уже на начальном этапе концепт осознается автором на уровне «рацио».
Тексты Vita herbae et vita rei
Терминологическое обозначение всего корпуса этих текстов обнаруживает некоторые колебания: «житие», «повесть», «жизнь». Н.И.Толстой, желая снять терминологическую неопределенность, называет их Vita. Такие колебания в выборе дефиниции могут быть объяснены различной эмоциональной окрашенностью текстов: в некоторых из них действия по обработке растения или материала (напр., глины) квалифицируются как разновидности мучений, страданий, тогда объект этих му Данное определение принадлежит Т.В.Цивьян, исследовавшей «повесть конопли» на румынском материале: Цивьян Г.В. «Повесть конопли»: К мифологической интерпретации одного операционном) текста/,Славянское и балканское языкознание чений получает статус мученика, праведника, что, в свою очередь, позволяет сблизить эти тексты с произведениями агиографической литературы. Этому способствуют и лингвостилистические особенности некоторых текстов Vita herbae/rei: «Шел я мимо, видел диво: головы избиты, брюха пропороты, тела в перевал валят, а души в рай тащат. (Хлеб)» 5; «А я сколько терплю...»; «/.../ввержен в пещь огненную/.../ И биен по голове, яко же Иисус; Возопи велиим гласом..."36 и т.п. Такие тексты, безусловно, могут быть обозначены как "житие" . Однако ряд текстов Vita herbae/rei представляет собой «нейтральное» в эмоциональном плане повествование, являясь, по существу, «операционными» текстами, в которых только подробно перечисляются действия по обработке растения или материала и превращение их в предмет. Такие тексты уместнее обозначать как «повести», так как «житийного» (со всем тем комплексом жанровых признаков, которые имеет «житие») в них нет. Таким образом, единственным термином-гиперонимом для обеих разновидностей текстов остается Vita herbae/rei («житие» и «повесть» можно обозначить как термины-гипонимы для соответствующих групп текстов).
Кроме того, эти тексты обнаруживают определенную закономерность на «субъектно-объектном» уровне повествования: в большинстве случаев, когда текст представляет собой рассказ о «жизненном» пути предмета (напр., хлеба или горшка), используется так называемое «субъ-ектное» (о себе) повествование: «Выросту я летом, потом начнут меня по колено срезывать...»; «Меня резали, сушили, молотили...» ; «Был я копан,/ Был я топтан,/ Был я на пожаре...» ; «Бьют меня немилосердно, колесуют, жгут меня, а смерть моя нож и зубы» . Именно по отношению к таким текстам может быть применим термин «житие», так как в них описываются этапы «жизненного» пути субъекта культуры. Горшок, хлеб - это результаты «окультуривания», и потому как предметы культуры они обладают атрибутами культуры (речью, чувствами) и могут быть соотнесены с другими предметами культуры (например, человеком). Это подтверждает и такой текст загадки: «Родился мал, вырос глуп, помер стар / пьян - ничего не знаю / ступай, душа, в рай (человек)»41 (ср. с текстом загадки о горшке: «Родится, вертится, растет, бесится, помрет - туда и дорога (горшок)» "). В тех случаях, когда текст являет собой рассказ об обработке растений (льна, конопли, ржи и т.п.), используется так называемое «объектное» (о ком-то, чем-то) повествование: «...заборонуют, тады лён посеют, тады опять заборонуют...» "; «...потом его (лен-Т.Б.) рвут, да рвут, да рвут, потом его броснуют, на колодке, гребнем. Он будет чистый...» ; «Л я, молоденька, рожь топчу...» Л и т.п. В этом случае уместнее говорить не о жизненном пути, а об этапах обработки, преобразования «дикого», природного предмета в факт культуры (рубашку, хлеб и т.д.); растение выступает в таких текстах как объект культурного воздействия, такие тексты логичнее обозначить как «повести (о)». Тем не менее, объединяет обе эти разновидности текстов общая их прагматико-коммуникативная направленность: быть средством апотропеической или продуцирующей магии.
Понятие «концепт» и «концептуальный анализ слова»
Анализ языковых, этнографических и фольклорных данных позволяет реконструировать представления, связанные с репой.45 Для современного человека репа является мало употребляемым (особенно в городе) овощем, выращиваемым на огороде («Репа - огородное растение семейства крестоцветных, овощ» ). Однако еще не так давно репа для русского крестьянина являлась основой популярных любимых блюд («Чеснок да репка, так и животе крепко»47; «Дешевле пареной репы»48; «Голодному Федоту и репа в охоту» ; «Репа... лакомство у народа»50). И кроме того, есть основания утверждать, что репа долгое время не была огородным (то есть выращиваемым около дома) растением: «Что касается репы, то возделывание ея на севере, быть может, древнее хлебопашества...В Олонецкой губернии до сих пор существует обычай, когда расчистят новую подсеку, сеять на ней прежде всего репу...; такие подсеки имеют специальное название репшце» ; а также: репеще репное поле "; «Репшце - полевая земля, лежащая в низменностях и вследствие того затопляемая водой; на ней иногда сеют хлеб, а чаще репу»"; «Реппик -- место в поле, где репа растет»" ; «Репшце (Репнище) - участок поля, на котором сеяли репу» ; «Репеща - поле, где сеяли репу: «Репеща чистили, расчищали землю от сорняков; сеют в первый год репу; говорят: на репеща поехали» ; «Репище участок леса под посев репы: «Лес выжгут да репу насеют, репище это». В более позднее время традиция сеять репу в поле (до злаковых) трансформировалась в обычай сеять репу среди злаковых: «Мы засеяли жито и насеяли в середку репы. Знаете, какая репа родилась!» . В связи с этим можно вспомнить известную сказку о «вершках и корешках», где мужик сначала сеял на поле репу, а затем злаковые. Кроме того, о распространенности такого типа хозяйствования может свидетельствовать и средневековый термин Репеще род поземельного владения . 9
Все это меняет семиотический характер понятия «репа». Для архаического сознания пространство антропоцентрично: человек, дом, территория у дома - «свое» пространство, отсюда и название «огород» или «загорода» («за двором загорода, то есть огород с грядами для овощей» ), а значит, это то, что ограждено, находится за границей между «своим» и «чужим» пространствами, «культурным» и «диким». Человеческий мир может представляться в народном сознании как огород: «Мир как огород - все в нем растет». «Растительные образы-символы разделяются па две крупные группы по признаку места произрастания - в культурном и диком пространстве». Репа, выращиваемая на поле («Репу за рекой сеяли, не дома» ), является тем самым «диким» (неокультурен-ным) растением и имеет, следовательно, семантические признаки, свойственные им: в мифологической модели мира левый член оппозиции дикий/культурный соотносится с понятиями "чужой", "нечистый", то есть с областью потустороннего, той, откуда все начинается и куда все уходит. Характерно, что в русских сказках репу сажают и выращивают не только в поле, на ниве, но и на крыше дома (на «кровельке», на чердаке)64, месте, семиотически соотносимом с пространством «иного мира».