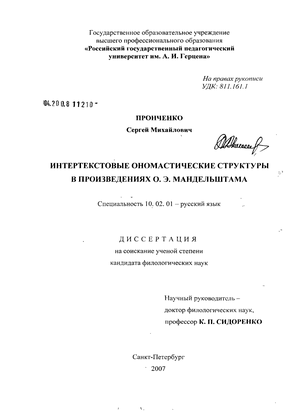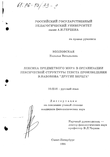Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Интертекстовые ономастические структуры в ономастическом дискурсе: основные положения 26
ГЛАВА 2. Одноуровневые и двухуровневые интертекстовые ономастические структуры, эксплицированные онимами 71
2. 1. Одноуровневые гомогенные моноцентрические интертекстовые ономастические структуры 71
2. 1. 1. Антропонимы... 71
2. 1.2. Топонимы 75
2. 1.2. 1. Урбанонимы 78
2. 1. 2. 2. Ойконимы 81
2. 1. 2. 3. Астронимы 83
2. 1.2 4. Гидронимы . 85
2. 1. 2. 5. Космонимы 86
2. 1. 2. 6. Оронимы 87
2. 1. 2. 7. Хоронимы 88
2. 1. 2. 8. Экклезионимы 89
2. 1. 3. Агионимы ; 90
2. 1.4. Прагматопимы 91
2. 1. 5. Хрононимы 91
2. 1. 6. Эргонимы 92
2. 2. Одноуровневые гомогенные полицентрические интертекстовые ономастические структуры 92
2. 2. 1. Антропонимы 93
2. 2. 2. Топонимы 96
2. 2. 2. 1. Урбанонимы 96
2. 2. 2. 2. Ойконимы 99
2. 2. 2. 3. Гидронимы 100
2. 2. 2. 4. Экклезионимы 100
2. 2. 2. 5. Хоронимы 101
2. 2. 3. Гемеронимы 102
2. 2. 4. Геортонимьт 103
2. 2. 5. Хрононимы 103
2. 2. 6. Эргонимы 104
2. 3. Одноуровневые гетерогенные полицентрические интертекстовые ономастические структуры 104
2. 4. Двухуровневые гомогенные моноцентрические интертекстовые ономастические структуры 108
2. 4. 1. Фиктонимы 109
2. 4. 2. Библейские антропонимы 1 13
2. 4. 3. Идеонимы 1 15
2. 4. 4. Теонимы 1 16
2. 4. 5. Мифонимы 1 18
2. 4. 6. Антропонимы 1 19
2. 5. Двухуровневые гомогенные полицентрические интертекстовые ономастические структуры 120
2. 5. 1. Фиктонимы 120
2. 5. 2. Библейские антропонимы 121
2. 5. 3. Идеонимы 122
2. 5. 4. Антропонимы 123
2. 6. Двухуровневые гетерогенные полицентрические интертекстовые ономастические структуры 123
2. 7. Двухуровневые интертекстовые ономастические структуры с интермедиальными связями 127
2. 7. 1. Интертекстовые ономастические структуры, соотносимые с произведениями живописи 129
2. 7. 2. Интертекстовые ономастические структуры, соотносимые с музыкальными произведениями 133
2.7. 3. Интертекстовые ономастические структуры, соотносимые с произведениями киноискусства 135
ГЛАВА 3. Двухуровневые интертекстовые ономастические структуры, эксплицированные актуализаторами онимов 142
3.1. Ономастические перифразы 142
3. 2. Местоимения 148
3. 3. Отонимные имена прилагательные 152
3. 4. Эпитекстовые и текстовые показатели цитации 154
3. 4. 1. Трансонимизированные онимы-заглавия 155
3. 4. 2. Эпиграфы 156
3. 4. 3. Антропонимы-посвящения 157
3. 4. 4. Цитаты 159
3. 4. 5. Интертекстовые дериваты 161
3. 5. Интертекстовые ономастические структуры, эксплицированные актуализаторами и онимами 169
3. 6. Интертекстовые ономастические структуры, эксплицированные онимами и актуализаторами, осуществляющими интермедиальные связи 171
Заключение 174
Библиография 177
Список принятых сокращений 205
Приложение 206
- Интертекстовые ономастические структуры в ономастическом дискурсе: основные положения
- Одноуровневые гомогенные полицентрические интертекстовые ономастические структуры
- Местоимения
- Эпитекстовые и текстовые показатели цитации
Введение к работе
В диссертации рассматриваются проблемы типологии, семантической и функциональной специфики интертекстовых ономастических структур на материале поэтических и прозаических произведений О. Э. Мандельштама (1891-1938), поэта, прозаика, очеркиста, переводчика, литературного критика, мемуариста. Реферируемое исследование вписывается в круг проблем современной русистики, в которой доминирует антропоцентрическая парадигма. Отсюда интерес к языковой личности, «выраженной в языке (текстах) и через язык», «реконструированной в основных своих чертах на базе языковых средств» (Ю. Н. Караулов). При этом в тексте «сталкиваются» языковые личности автора и читателя, вступающие в резонанс (М. М. Бахтин). Восприятие читателем элементов текста в качестве знаков, обладающих имплицитной энергией (Н. А. Кузьмина) вследствие отсылки к претекстам, порождает феномен интертекстовости, понимаемой как «ссылка на иной текст, который отыскивается в творчестве того же автора, в смежном искусстве, в смежном дискурсе или в предшествующей литературе» (И. П. Смирнов). Ономастические единицы, образующие ядро системы интертекстовых элементов, обладают противоречивой семантикой. Проблема семантического содержания nomina propria сводится к трем научным подходам: 1) имена собственные не имеют ни значения, ни смысла, являются «пустыми», «асемантичными» знаками (А. А. Уфимцева, Н. Д. Арутюнова, Е. М. Галкина-Федорук и др.); 2) у собственных имен есть значение, но отсутствует понятие (А. А. Реформатский, О. С. Ахманова, А. В. Суперанская, В. П. Руднев и др.); 3) онимы обладают и значением, и понятием (А. А. Потебня, Ф. И. Буслаев, Л. В. Щерба, В. М. Павлов, С. Д. Кацнельсон и др.). Изучение семантической специфики взаимосвязанных и соотнесенных онимов в произведениях Мандельштама позволяет вскрыть особенности межтекстовых взаимодействий, без которых немыслимо полноценное и углубленное изучение ономастического дискурса произведений писателя.
Актуальность исследования. Творчество Мандельштама требует объективной научной оценки. Необходимость изучения ономастикона поэзии и прозы писателя в интертекстовом, когнитивном и структурном аспектах диктует нацеленность на исследование собственно лингвистических средств, подкрепляемое изысканиями ведущих манд ель штамоведов. Настоящая диссертация представлена в свете современных проблем интертекстематики и литературной ономастики, направлена на выявление репертуара проприальных единиц и актуализаторов, участвующих в экспликации ономастических структур. Рассмотрение последних на фоне собственно лингвистического и семиотического понимания текста, узкого и широкого понимания интертекстовости, разноаспектного изучения подтекста, языковых семиотических механизмов интертекстовости, явления интермедиальности и идеи стратификации семантики открывает широкие возможности для лингвистически обоснованной их интерпретации. Привлечение к исследованию широкого спектра онимов обусловлено стремлением полнее описать типологию
структур, а также широкой точкой зрения на объем классов имен собственных, представленной, в частности, в энциклопедии «Русский язык» под редакцией профессора Ф. П. Филина, в энциклопедическом словаре «Языкознание» под редакцией профессора В. Н. Ярцевой, в «Русской грамматике» 1980 г.
Степень разработанности проблемы. Проблема интертекстуальности зародилась в трудах М. М. Бахтина и стала изучаться в исследованиях таких зарубежных и отечественных лингвистов, как Ю. Кристева, Р. Барт, Ж. Женетт, А. Вежбицкая, И. В. Арнольд, Н. А. Николина, Н. А. Фатеева, К. П. Сидоренко, Н. А. Кузьмина, Г. В. Денисова и др. Интертекстуальность сопряжена с прецедентностью, изучение которой было начато Ю. Н. Карауловым. Прецедентные феномены рассматриваются в работах ученых Московского государственного университета (В. В. Красных, Д. Б. Гудкова, И. В. Захаренко, И. С. Брилевой, Н. П. Вольской и др.), стали предметом анализа в диссертациях Я. В. Кузнецовой, Е. В. Кузьмицкой и др.
Рассмотрение собственных имен в работах Н. И. Греча, В. Г. Белинского,
A. X. Востокова, Я. К. Грота, Ф. И. Буслаева ведется на основе их
противопоставления с апеллятивами. Как предмет теории референции они
изучаются в работах Дж. Ст. Милля, Е. Куриловича, М. В. Никитина и др., как
предмет теории номинации - в работах А. В. Суперанской, Н. Ф. Алефиренко,
М. Н. Аникиной, В. В. Катерминой и др. Имена собственные стали предметом
исследования и в русской философии языка (философии имени XX века),
представленной в трудах С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского, А. Ф. Лосева.
Проприальная лексика рассматривается разноаспектно, с учетом 1) историко-культурного компонента (А. К. Матвеев, И. И. Муллонен, X. Вальтер и В. М. Мокиенко, Г. Ф. Ковалев, Е. Л. Березович, В. Н. Топоров и др.); 2) грамматического компонента (В. К. Чичагов, Н. М. Тупиков, В. Д. Бондалетов, Н. В. Подольская, Л. П. Калакуцкая, Д. Ю. Ильин и др.); 3) когнитивного компонента (Л. М. Дмитриева, М. В. Голомидова и др.); 4) категории собственности vs нарицательности (Л. А. Введенская и Н. П. Колесников и др.); 5) коннотативного компонента (Е. С. Отин). Кроме того, 6) в составе фразеологизмов (В. М. Мокиенко и др.); 7) в составе художественного текста (В. М. Калинкин, Н. В. Васильева, Н. В. Виноградова и др.).
Первые работы по литературной ономастике относятся к началу XX в. Однако в этих работах (Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума, В. В. Виноградова) ономастика не была предметом исследования. Во второй половине 50-х гг. XX в. поэтонимы стали активно рассматриваться Г. А. Гуковским, В. Д. Беленькой, С. И. Зининым, Э. Б. Магазаником, В. Н. Михайловым и др. В настоящее время поэтическая ономастика исследуется в работах В. М. Калинкина, Е. С. Отина,
B. И. Супруна, Г. Ф. Ковалева, О. И. Фоняковой, А. А. Фомина и др. С 2004 г. в
издательстве Уральского государственного университета им. А. М. Горького
(совместно с ИРЯ РАН) выходит международный научный журнал «Вопросы
ономастики», посвященный теоретическим и историческим проблемам
ономастики.
Объект исследования - интертекстовые ономастические структуры в произведениях О. Э. Мандельштама.
Предмет исследования - типология, семантические и функциональные особенности интертекстовых ономастических структур.
Материал исследования - поэтические и прозаические произведения Мандельштама: а) стихотворные сборники «Камень», «Tristia»; стихотворения 1921-1925 гг.; новые стихи; стихи из цикла «Воронежские тетради»; последние стихи; стихи, не вошедшие в основное собрание; б) прозаические тексты «Шума времени», «Феодосии», «Путешествия в Армению», «О поэзии», а также «Шуба» и «Холодное лето»; в) литературно-критические статьи «Утро акмеизма», «Скрябин и христианство», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва», «Буря и натиск», «Армия поэтов»; г) публицистические статьи «Государство и ритм», «Кровавая мистерия 9-го января», «Пшеница человеческая», «Гуманизм и современность», «Поэт о себе», «Разговор о Данте».
На материале поэтических и прозаических произведений Мандельштама методом сплошной выборки составлена картотека объемом около 2000 ономастических единиц и актуализаторов.
Цель диссертационной работы - выявление и описание типологии, семантических и функциональных особенностей интертекстовых ономастических структур.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
выявить репертуар интертекстовых ономастических единиц и их актуализаторов;
охарактеризовать качественный и количественный состав различных групп проприальной лексики;
теоретически разработать понятие «интертекстовая ономастическая структура», выявить типологию интертекстовых ономастических структур;
установить особенности реализации онимов в интертекстовой структуре с учетом подтекстового компонента, теоретически обосновать понятие «ономастический концепт»;
проанализировать роль выделяемых на различных основаниях актуализаторов (ономастических перифраз и субститутов, отонимных прилагательных, местоимений, онимов-заглавий, посвящений, эпиграфов, цитат (криптоцитат), интертекстовых дериватов) в экспликации интертекстовых ономастических структур;
выявить интермедиальные потенции интертекстовых ономастических структур: рассмотреть особенности структур, соотносимых с нелитературными произведениями искусства - музыкой, живописью, кино;
проанализировать деривационное древо ономастического дискурса: раскрыть роль интертекстовых дериватов в экспликации структур, выявить типологию производящих баз.
В работе используются следующие методы: метод лингвистического наблюдения, описательный метод, контекстный анализ, культурологический анализ, элементы структурно-компонентного анализа, метод сплошной выборки, метод синтезирующей перспективы (динамика движения смыслов в
связи с установлением направления подтекста (Л. А. Голякова)), метод семантического поиска «антицедент - консеквент».
Научная новизна работы определяется тем, что в ней определены и исследовательски учтены направления подхода к избранной теме: 1) широкое понимание интертекстовости, обусловленное противоречивой семантической природой собственных имен; 2) понятие ономастического дискурса как вербализованного в тексте ономастического словаря Мандельштама; 3) понятие ономастического концепта как программы дальнейшего возможного развертывания собственного имени в тексте; 4) понятие интертекстовой ономастической единицы (в узком и широком смысле) как лексемы (словосочетания), являющейся языковым воплощением ономастического концепта; 5) понятие интертекстовой ономастической структуры как совокупности ономастических концептов (либо один концепт), ядро которой эксплицировано взаимосвязанными интертекстовыми ономастическими единицами и / или актуализаторами, а периферия - ключевыми словами, словосочетаниями, предложениями, как совокупности, содержание которой может быть представлено эксплицитно и имплицитно; 6) характеристика типологии интертекстовых ономастических структур с учетом принципа системности, предопределяющего такие критерии анализа, как а) признак эксплицированности; б) тип единиц, образующих структуру; в) количество единиц, образующих структуру; 7) характеристика структур с привлечением феномена подтекста, идеи стратификации семантики, с учетом различий в лексическом значении различных классов проприальнои лексики и, как следствие, выход на категорию «эксплицитность / имплицитность», тема-рематические отношения в структуре; 8) анализ интертекстовых ономастических структур с применением теории поля; 9) привлечение к анализу выделяемых на различных основаниях актуализаторов собственных имен; 10) изучение интертекстовых ономастических структур в интермедиальном аспекте (посредством вторичных моделирующих систем).
Теоретическая значимость исследования определяется введением таких понятий, как «ономастический дискурс», «интертекстовая ономастическая единица», «ономастический концепт», «интертекстовая ономастическая структура», а также характеристикой типологии интертекстовых ономастических структур.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования ее результатов для общих и специальных курсов по лексикологии (лексической семантике), для спецкурсов, посвященных концептуальному анализу художественного текста, в вузовском преподавании таких лингвистических дисциплин, как «Литературная ономастика», «Стилистика», «Лингвистика текста», «Филологический анализ текста», а также в лексикографической практике - составлении ономастического словаря Мандельштама.
На защиту выносятся следующие положения:
1) Совокупность интертекстовых ономастических единиц в тексте образует интертекстовую ономастическую структуру.
По признаку эксплицированности выделяются структуры, эксплицированные интертекстовыми ономастическими единицами, актуализаторами интертекстовых ономастических единиц, совокупностью онимов и актуализаторов.
По количеству входящих в структуру интертекстовых ономастических единиц выделяются структуры моноцентрические (точечные) (интертекстовая ономастическая единица равна интертекстовой ономастической структуре) и полицентрические (несколько интертекстовых ономастических единиц составляют структуру).
По типу интертекстовых ономастических единиц, входящих в состав интертекстовых ономастических структур, выделяются структуры гомогенные (структуру составляют однотипные интертекстовые ономастические единицы) и гетерогенные (структуру образуют разнотипные онимы).
Интертекстовая ономастическая структура имеет полевое строение: ее ядро занимают интертекстовые ономастические единицы, а периферию - лексемы, словосочетания, предложения, являющиеся признаками ономастического концепта.
По строению различаются одно- и двухуровневые интертекстовые ономастические структуры. Одноуровневые структуры представлены эксплицитными онимами, ономастический концепт которых не продуцирует подтекстовых онимов. В двухуровневых структурах первый уровень представлен эксплицитными онимами, а второй (имплицитный, рематический) уровень представлен подтекстовыми онимами.
Процесс образования рематического уровня интертекстовой ономастической структуры связан в том числе с интертекстовой деривацией - образованием интертекстовых дериватов, выступающих в качестве актуализаторов имплицитных онимов.
Интертекстовые ономастические структуры соотносятся с произведениями несловесных видов искусства, что обеспечивает их свойством интермедиальности.
Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования отражены в девяти публикациях, обсуждались на заседаниях кафедрыП русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, в выступлениях на научных конференциях «Слово. Словарь. Словесность» (СПб., РГПУ им. А. И. Герцена, 2005, 2006, 2007), «Герценовские чтения» (СПб., май 2005), «Пушкинские чтения» (СПб., ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2006), на международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки и образования» (г. Новозыбков, филиал БГУ, 2005, 2006, 2007).
Структура диссертации. Диссертация общим объемом 235 с. состоит из введения, трех глав, выводов, заключения, библиографии (со списком лингвистических и литературоведческих работ, словарей, литературных
Интертекстовые ономастические структуры в ономастическом дискурсе: основные положения
Текст. Интертекст. В понимании текста учитываются два подхода -узкий и широкий. Узкий подход связан с собственно лингвистической трактовкой текста, широкий — отражает его понимание в семиотической системе координат. С собственно лингвистической точки зрения текст предстает как «произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное. в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определетіую целенаправленность и прагматическую установку» [Гальперин 2005: 18; курсив автора. - С. 77.]. Текст - это «объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, основным свойством которой является связность и цельность» [Брусенская, Гаврилова, Малычева 2005: .210], это «некое упорядоченное множество предложений, объединенных различными типами лексической, логической и грамматической связи, способное передавать определенным образом организованную и направленную информацию» [Тураева 1986: 11], это «особая, развернутая вербальная форма осуществления речемыслительного произведения» [Дымарский 2006: 35].
Худооїсественньїй текст - это «художественная речь того или иного автора», представляющая собой «личностный... вариант литературного и — шире - общенародного языка, уже реализованных и потенциальных свойств его системы» [Поцепня 1997: 14], это «эстетически организованный мыслью писателя текст», имеющий «свою внутреннюю норму отбора и применения языковых средств, которая и формирует авторский стиль» [Там же: 15]. Художественный текст имеет двойственную природу: форма текста, поверхностная семиотическая система статична, она «лишь потенция, код, который необходимо расшифровать» [Голякова 2006: 20].
Взгляд на текст с семиотической точки зрения предполагает его истолкование через «интерпретации вербальных знаков посредством невербальных знаковых систем» [Якобсон 1985: 362-363]. Ю. Кристева выделила три типа семиотических очагов в тексте: 1) систематическая и монологическая семиотическая практика, логичная, экспликативная, неизменяемая и не стремящаяся изменить «другого», в основу которой положен знак и смысл как преднаходимый и предопределяющий элемент (система научного дискурса, значительная часть литературы); 2) трансформирующая семиотическая практика, где знак как базовый элемент подвергается разложению, то есть отрывается от своего денотата и приобретает направленность на «другого», изменяющегося под его влиянием (семиотическая практика йоги, психоанализа); 3) семиотическая практика письма, которая получает также название диалогической или параграмматической [Кристева 2000: 503-504; курсив автора. - С. П.\. В семиотическом аспекте текст выступает как «смыслопорождающее устройство» и выполняет, по Ю. М. Лотману, три функции: 1) творческую: всякий текст «не только передает готовые сообщения, но и служит генератором новых» [Лотман 20046: 158]; 2) направляет сообщения на код: «при сложных операциях смысл опорождения язык неотделим от выражаемого им содержания» [Там же: 160]; 3) функцию памяти: «текст обладает способностью сохранять память о своих предшествующих контекстах» [Там же: 162].
Учет собственно лингвистической и семиотической трактовок текста в работе обусловлен тем, что, с одной стороны, мандельштамовский текст создан в рамках естественного языка, с другой стороны, в нем представлены интертекстовые элементы и элементы текстов, созданных в рамках вторичных моделирующих систем: «Каждый текст оказывается включенным во всю систему созданных до него или параллельно с ним текстов, приобретает визуальное многомерное представление и становится «мультисеквенциальным»...» [Фатеева 2006: 10]. Иными словами, к тексту-донору (претексту) в тексте-реципиенте (интертексте) могут отсылать не только элементы других литературных произведений, но и знаки произведений иных видов искусства, которые осуществляют интермедиальные связи. Так, в семиотической концепции Ю. М. Лотмана язык понимается как любая упорядоченная система, служащая средством коммуникации и пользующаяся знаками, а произведения искусства рассматриваются как сообщения на этом языке-, и называются текстами: «Культура в целом может рассматриваться как текст. Однако исключительно важно подчеркнуть, что это - сложно устроенный текст, распадающийся на иерархию "текстов в текстах"...» [Лотман 2004в: 72]. Знаки, обладающие интертекстовой и интермедиальной природой, усложняют семантическую структуру текста, замыкают «наведенную в сознании слушателя рефлекторную дугу» [Караулов 2006: 217]. В роли знаков чаще выступают слова «как след памяти о претексте» [Фатеева 2006: 89]. Понимание самого текста становится зависимым от соотнесенности его с прототекстом. В результате «в исследовании генезиса какого-либо текста, мы не обнаружим ничего, кроме других текстов, других продуктов языка, причем совершенно неясно, где должна быть проведена граница» [Тодоров 1975: 96-98]. Ср. также: «Новый текст всегда открытый старый. Художник не создает новое, а открывает бывшее до него и вечное. Функция его при создании текста напоминает роль проявителя в создании фотографического изображения» [Лотман 2004г: 407].
Одноуровневые гомогенные полицентрические интертекстовые ономастические структуры
Одноуровневые гомогенные полицентрические ИОС включают в свой состав однотипные ИС, которые взаимосвязаны между собой. По нашим наблюдениям, эти структуры не отличаются богатством с точки зрения участия в них различных классов онимов. Доминируют структуры, эксплицированные антропонимами и топонимами, немногочисленны структуры, эксплицированные библейскими антропонимами, гемеронимами, геортонимами, теонимами, хоронимами, хрононимами, экклезионимами, эргонимами. По мнению О. И. Фоняковой, «всякое ИС в семантическом фокусе представляет собой определенную загадку, шифровку, которую необходимо раскрыть, опираясь на общеязыковые и культурно-психологические коннотации...» [Фонякова 1990: 39]. Приведем в качестве примера следующий текстовый фрагмент: «За утренним чаем разговоры о Дрейфусе, имена полковников Эстергази и Пикара...» («Шум времени», гл. «Музыка в Павловске»). Мандельштам, характеризуя эпоху «девяностых годов», упоминает имена участников по делу Дрейфуса, которое выступает в качестве прецедентной ситуации [Красных 2003: 183]. Альфред Дрейфус в 1894 году был несправедливо обвинен в шпионаже в пользу Германии, суд приговорил его к пожизненной каторге на Чертовом острове близ берегов Гвианы. В 1899 году Дрейфус под давлением общественного мнения и стараниями Жоржа Пикара, который в 1895 году обнаружил документы о его невиновности, был помилован, а в 1906 году - реабилитирован. Ж. Пикар был арестован по обвинению в разглашении государственной тайны, впоследствии был реабилитирован и вернулся на военную службу. Эстергази бежал в Англию, где вскоре признал свою вину [Мандельштам 2002: 360; БРЭС 2003, статья «Дрейфуса дело»]. В отрывке создается гомогенная одноуровневая полицентрическая ИОС, эксплицированная антропонимами Эстергази и Пикар, а периферия - ключевой лексемой полковники, связанной с ОК антропонимов. На образование ИОС влияют и родственные связи лиц, называемых этими ИС: «Славянщина Кирилла и Мефодия для своего времени была тем же, чем воляпюк газеты для нашего времени» («О поэзии», гл. «Заметки о поэзии»). Концептуальный признак славянщина указывает на общее прошлое лиц, обозначаемых антропонимами - братья из Солуни, славянские просветители, создатели славянской азбуки [БРЭС 2003]. Приведем в качестве примера другой текстовый отрывок, в котором речь идет о женской поэзии XX века: «Адалис и Марина Цветаева пророчицы, сюда же и София Парнок. Пророчество как домашнее рукоделие. В то время как приподнятость тона мужской поэзии, нестерпимая трескучая риторика, уступила место нормальному использованию голосовых средств, женская поэзия продолжает вибрировать на самых высоких тонах, оскорбляя слух, историческое, поэтическое чутье» («Литературная Москва» (I)). Ономастическая структура эксплицирована антропонимами Адалис, Марина Цветаева, София Парнок. В периферийную зону входят ключевые лексемы пророчицы, пророчество (пророчество — "то же, что предсказание" [Ожегов, Шведова 1998: 619]). Ср. также: «Опыт последних лет доказал, что единственная женщина, вступившая в круг поэзии на правах новой музы, это русская наука о поэзии, вызванная к жизни Потебнсіі и Андреем Белым и окрепшая в формальной школе Эйхенбаума, Жирмунского и Шкловского» («Литературная Москва» (I)). Отличительной особенностью экспликации полицентрических ИОС является наличие концептуального признака — обобщающей единицы, под которой понимаются «слова, словосочетания и синтаксические объединения, которые представляют собой обобщенное название явлений действительности, обозначенных конкретно рядом однородных членов» [Валгина 1973: 228]. В "роли однородных членов выступают антропонимы. Обобщающая единица является: а) Словом: «Какой должна быть поэзия? Да, может, она совсем ничего не должна. Никому она не должна, кредиторы у нес фальшивые! Нет ничего легче, как говорить о том, что нужно. необходимо в искусстве... это избавляет от очень неприятной вещи... - благодарности к тому, что есть, самой обыкновенной благодарности к тому, что в данное время является поэзией.
Местоимения
Изучение семантики форм лица в языке поэзии становилось предметом исследования [см., например, Ковтунова 1986, 2003]. И. И. Ковтунова отмечает, что «в поэтическом языке обнаруживается асимметрия в употреблении грамматических форм лица (личных местоимений, личных форм глагола и притяжательных местоимений). Эта асимметрия проявляется в сдвиге между означающим и означаемым» [Ковтунова 2003: 23; разрядка автора. - С. П.]. «В языке лирики автор обычно говорит о себе в первом лице. Но нередко поэт вступает в диалог с собой - с одной из сторон своего я, обозначаемой вторым лицом. В некоторых случаях поэт говорит о себе в третьем лице. Это происходит при отчуждении я, при взгляде на себя со стороны» [Там же; разрядка и курсив автора. - С. П.]. По нашим наблюдениям, в поэзии и прозе Мандельштама частотно эгоцентрическое местоимение я, что говорит об эгоориентированном языковом пространстве писателя, отнесенности Мандельштама к «монологичным» писателям [Чурилина 2002: 170]. Личные местоимения в произведениях Мандельштама замещают: 1) антропонимы: а) автора (я = Мандельштам): «Не потому ль, что я видел на детской картинке / Леди Годиву с распущенной рыжею гривой, / Я повторяю еще про себя иод сурдинку: / Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива...» («С миром державным я был лишь ребячески связан...» (1931)). Рассмотрим ономастическую структуру, в которой эксплицитный уровень представлен личным местоимением я. Фиктоним Акакий Акакиевич, персонаж повести //. В. Гоголя «Шинель» (1824), отражает тему культурной разорванности времени в творчестве Мандельштама, которая явилась следствием разрыва писателя с официальной культурой. Писатель считает себя изгоем и отождествляется с гоголевским персонажем: «Я... несу моральную ответственность за то, что внушил петербургскому хаму желание процитировать как пасквильный анекдот жаркую гоголевскую шубу, сорванную ночью на площади с плеч старейшего комсомольца - Акакия Акакиевича» («Феодосия», гл. «Четвертая проза» (14)). Эксплицитный уровень ономастической структуры фрагмента представлен местоимением я и фиктонимом Акакий Акакиевич. Имплицитный уровень ономастической структуры соответственно составляют антропонимы 0. Э. Мандельштам, Н. В. Гоголь, идеоним «Шинель». Функцию самохарактеристики писателя выполняет и фиктоним Иван, персонаж стихотворения Н. А. Некрасова «Эй, Иван!» (1867): «С каждым годом я все прожженнее. Как стальными кондукторскими щипцами, и весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией. Когда меня называют по имени-отчеству, я каждый раз вздрагиваю. Никак не могу привыкнуть: какая честь! Хочь бы раз Иван Моисеич в жизни кто назвал. Эй, Иван, чеши собак! Мандельштам, чеши собак...» («Феодосия», гл. «Четвертая проза» (15));" б) не автора, а других лиц: «Он (Синьяк. - С. Я.) основывал свои доказательства на цитатах из боготворимого им Эжена Делакруа» («Путешествие в Армению», гл. «Москва»); Почему она (Комиссаржевская. - С. 77.) была вождем, какой-то Жанной д Лрк? («Шум времени», гл. «Комиссаржевская»); И орел его (Анненского. -СП.) поэзии, когтивший Еврипида, Малларме, Локонта де Лиля, ничего не приносил нам в своих лапах, кроме горсти сухихи трав («О поэзии», гл. «О природе слова»); «Если б они (Дарвин и Диккенс. — С. 77.) обедали вместе, с ними сам-третей сидел бы мистер Пикквик» («Путешествие в Армению», гл. «Вокруг натуралистов») и другие; в) автора и группу лиц (мы = я +...): «Буйная радость охватывала нас, детей, всякий раз, когда показывалась его (Юлия Матвеича. - С. 77.) министерская голова, до смешного напоминающая Бисмарка, нежно безволосая, как у младенца, не считая трех волосков на макушке» («Шум времени», гл. «Юлий Матвеич»); «Чего же нам особенно удивляться, если Пильняк или серапионовцы вводят в свое повествование записные книжки...» («Литературная Москва» (II) («Рождение фабулы», 2)); «Приехала к нам и Мариетта Шагинян, прямо из Ростова, со своей монашеской глухотой, не от мира сего, вернее не от нашего петербургского мира» («Шуба») и другие; 2) хрононимы: «Уже издалека петербуржцы тебн (девятнадцатый век. - С. П.) чуяли, улавливали цоканье твоих коней и ежились от твоих сквозняков в проспиртованных аудиториях Военно-Медицинской или в длиннейшем «jeu de paume» меншиковского университета...» («Шум времени», гл. «Сергей Иваныч»); «Она (мистерия девятого января. - С. П.) разыгралась одновременно во всех концах великого города - и за Московской, за Нарвской заставой, и на Охте...» («Кровавая мистерия 9-го января»); 3) библеизмы. В стихотворении «Неумолимые слова...» (1910) местоимение Он в последнем катрене стихотворения замещает библеизм Иисус Христос: Мандельштам апеллирует к библейской сцене его распятия: «И царствовал и никнул Он, / Как лилия в родимый омут, / И глубина, где стебли тонут, / Торжествовала свой закон»; 4) теонимы. В стихотворении «Silentium» (1910) теоним Афродита подвержен прономенальной замене (она) в первом катрене, во втором четверостишии она рождается из пены, а в последнем - Мандельштам вводит прямую номинацию — появляется теоиим-вокатив Афродита: «Она еще не родилась, / Она и музыка и слово, / И потому всего живого / Ненарушаемая связь»; «Останься пеной, Афродита, / И, слово, в музыку вернись, / И, сердце, сердца устыдись, / С первоосновой жизни слито!». Дейктической семантикой обладают и односоставные определенно-личные предложения. Особенно продуктивны предложения, в которых сказуемое выражено 1 л. ед. ч. глагола. Эти предложения указывают на лицо, а значит, и на имплицитные антропонимы (чаще всего на антропоним Мандельштам):
Эпитекстовые и текстовые показатели цитации
По мере продвижения во времени слово становится «центральной единицей интертекста, ибо основной способ кумуляции информации -диалог с другими текстами в информационном пространстве интертекста». Таким образом, «вопрос о цитации пересекается с вопросом о семантической памяти знака художественного произведения» [Кузьмина 2004: 173, 163]. Статусом цитаты обладают лексемы художественного текста, несущие прагматические условия восприятия интертекстовости: «цитатная функция элемента может быть определена как его способность быть репрезентантом культурных смыслов разной степени обобщенности / конкретности по мере продвижения в интертексте» [Там же: 163]. Обозначим круг актуализаторов, являющихся эпитекстовыми и текстовыми показателями цитации: 1) онимы-заглавия; 2) эпиграфы; 3) антропонимы-посвящения; 4) цитаты (криптоцитаты); 5) интертекстовые дериваты. Раскроем степень их участия в строении ономастических структур.
В текстах Мандельштама выделяется группа заглавий, образованных от 1) антропонимов: «Бах» (1913), «Ахматова» (1914), «Ламарк» (1932), «Батюшков» (1932), «Ариост» (1933-1935), «Чарли Чаплин» (1937), «Сергей Иваныч», «Юлий Матвеич», «Комиссаржевская», «Мазеса да Винчи», «Ашот Ованесьян», «Чаадаев», «Франсуа Виллон»; 2) ойконимов: «Царское Село» (1912), «Рим» (1937), «Феодосия» (1919-1922), «Москва», «Сухум», «Аштарак»; 3) оронимов: «Алагез» (тюркское название горы Арагац к северу от Еревана); 4) теонимов: «Кассандре» (1917); 5) хоронимов: «Европа» (1914), «Армения» (1930), «Финляндия»; 6) урбанонимов: «Адмиралтейство» (1913); 7) экклезионимов: «Айя-София» (1912), «Notre Dame» (1912), «Реймс и Кельн» (1914); 8) хрононимов: «Девятнадцатый век», «Кровавая мистерия 9-го января».
Трансонимизированное заглавие, на наш взгляд, представляет собой двухуровневую интертекстовую ономастическую структуру, так как оно отсылает к производящей базе — имплицитному собственному имени, за которым стоит ОК. Особое место занимают эксплицитные цитатные заглавия «"В не по чину барственной шубе"» (глава «Шума времени»), «"Здесь я стою - я не могу иначе..."...» (1915), «Silentium» (1910), «Tristia» (1918), «Домби и сын» (1913), отсылающие к имплицитным онимам. Так, например, эксплицитное заглавие «Silentium» отсылает к имплицитному заглавию «Silentium!» (1830) - стихотворению Ф. И. Тютчева. Цитатный заголовок подвергается гиперсемантизации: «чужое слово» в заглавии актуализирует необходимый фоновый комплекс, значимый для последующего восприятия текста. Цитатное заглавие в «чужом» тексте представляет собой «интертекст, открытый различным толкованиям» [Фатеева 2006: 139]. В стихотворении «Домби и сын» (1913) создаваемый мир выходит далеко за пределы заглавия, так как Домби-сын не общался с клерками, Оливер Твист является персонажем одноименного романа Диккенса, а концовка с самоубийством заимствована из романа «Николас Никльби» Диккенса [Гаспаров 1995]: «Когда, пронзительнее свиста, / Я слышу английский язык - / Я вижу Оливера Твиста / Над кипами конторских книг. // У Чарльза Диккенса спросите, / Что было в Лондоне тогда; / Контора Домби в старом, Сити / И Темзы желтая вода. // Л грязных адвокатов жало / Работает в табачной мгле - / И вот, как старая мочала, / Банкрот болтается в петле. // На стороне врагов законы: / Ему ничем нельзя помочь! / И клетчатые панталоны, / Рыдая, обнимает дочь».
В текстах Мандельштама немного эпиграфов, поэтому их присутствие значимо. «Содержательная информация эпиграфа - это прогнозирующее, проспективное сообщение об основных тематических, сюжетных, концептуальных линиях следующего за ним текста» [Кузьмина 2004: 149]. Эпиграф «выявляет интенцию автора», «формирует пресуппозицию читателя, создает прагматические условия понимания текста как метатекста», это - «маркер парадигматических отношений "прототекст -метатекст"» [Там же: 151]. На наш взгляд, полноценное функционирование эпиграфа невозможно без ИС: эпиграф, являясь цитатой, ведет к автору и названию прототекста. Отсюда эпиграф в ономастической структуре занимает эксплицитный уровень и актуализурует имплицитный, представленный идеонимом и антропонимом. В стихотворении «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа...» (1918) эпиграф дан на языке оригинала в ключе литературно-музыкальных интерференции: отсылает к песне Шуберта «Двойник». Переводится он как «Ты, мой двойник, мой бледный товарищ!..»: «Du, Doppelganger, du, bleicher Geselle!». Развертывается двухуровневая ономастическая структура, первый уровень которой эксплицирован эпиграфом, а второй — представлен имплицитным антропонимом Шуберт и идеонимом «Двойник».
В ряде стихотворений в качестве эпиграфов использованы цитаты на языке оригинала из произведений Петрарки: «Valle che de lamenli тієї se piena...»13 («Речка, распухшая от слез соленых...» (1933-1934)), «Quel rosigniuol, che si soavepiagne...»14 («Как соловей, сиротствующий, славит...» (1933)), «Or che І ciel e la terra e / vento tace...»5 («Когда уснет земля и жар отпышет...» (1933)), «I di miei, рій leggier che nesun cervo...» («Промчались дни мои - как бы оленей...» (1933)). Все эти эпиграфы функционируют в качестве двухуровневых ономастических структур, имплицитный уровень которых представлен идеонимами (названиями произведений Петрарки) и антропонимом Петрарка.