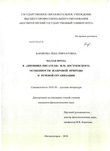Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. М.М.Пришвин: проблема творческого самоопределения .. 17
1.1. Личность В.В.Розанова в жизни. Дневнике и художественной прозе М.М.Пришвина: проблема авторского произвола 19
1.2. На пути к Религиозно-Философскому обшеству: литературный миф и реальность 39
1.3. Посредник: Пришвин и религиозное сектантство 64
1.4. Старший: писательская стратегия Пришвина в 20-ые годы .. 81
1.5. Два романа 90
Глава 2. Любовь в хизнетворчестве Пришвина 107
2.1. Первая любовь 109
2.2. Дух и плоть 118
2.3. Женщины настоящего и будущего 129
2.4. Гений жизни 143
Глава 3. Между мужиками и большевиками 163
3.1. Писатель и революция 166
3.2. Взбаламученное море: крестьянство в Дневнике и прозе М.М.Пришвина 196
3.3. В поисках идеального большевика 208
3.4. Кулак от литературы 229
Глава 4. Современник торжествующего социализма 261
4.1. Победитель 263
4.2. Писатель и его критик 284
4.3. В клубе советских писателей 302
4.4. Медный всадник социализма 319
4.5. Чистое время 337
4.6 - Государственным путем 353
4.7. Между светом и тенью 371
Заключение 394
Список использованной литературы 401
Приложение
Основные даты жизни и творчества М.М.Пришвина 419
- Личность В.В.Розанова в жизни. Дневнике и художественной прозе М.М.Пришвина: проблема авторского произвола
- Старший: писательская стратегия Пришвина в 20-ые годы
- Первая любовь
- Взбаламученное море: крестьянство в Дневнике и прозе М.М.Пришвина
Введение к работе
Несмотря на то, что изучение творческого наследия М.М.Пришвина имеет свою длительную и достаточно сложную и противоречивую историю, долгое время (по крайней мере до конца восьмидесятых — начала девяностых годов XX века) в читательском сознании существовала некая легенда о Пришвине как о тайновидце, волхве и знатоке природы, отстраненном от проблем человека и общества. Суть подобного отношения к писателю образнее всего выразил его младший современник К.Г.Паустовский: "Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее тайную жизнь и воспел ее красоту, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю писателя Михаила Михайловича Пришвина" (208, 5).*
В этих словах и таком понимании Пришвина - не вся правда, но лишь часть ее, и не случайно сам Пришвин признавался, что пейзажей не любит и писать их стыдится. "Меня тоже всегда стыдил пейзаж в романах", - сообщал он Горькому в письме от 1926 года (121, 337). А место свое в литературе определил так: "Розанов - послесловие русской' литературы, я - бесплатное приложение. И все..." (19, 196).
В силу ряда причин (прежде всего идеологических, но не только) очень важные темы в исследованиях, посвященных творчеству Пришвина, прозвучали слабо или неверно. Многое из того, что было им написано, осталось в Дневнике**, и по сей день известном далеко не в полном
* Все ссылки даны в конце работы. При цитировании первая цифра в круглых скобках - номер позиции в библиографии. вторая - страница. Если следует цитата из собрания сочинений, том указан римской цифрой.
** Именно такого обозначения (с прописной буквы, в единственном числе) мы будем придерживаться вслед за Н.П.Дворцовой, которая писала: "Сам Пришвин по разному называл свое главное произведение: дневник, дневники, "мои тетрадки" и т.д. Это, в частности, отразилось в практике его опубликования. В этой работе в соответствии с пришвинским представлением об имени принято обозначение главной
оь-ьеме. В равной степени это касается и целого ряда обстоятельств его жизни, непосредственно связанных с творчеством. Опубликованные на рубеже восьмидесятых-девяностых годов выдержки из Дневника Пришвина советского периода и публикация первых томов Полного собрания его Дневника (к настоящему времени вышли четыре тома, охватывающие период с 1914 по 1925 годы,* и подготовлен к изданию пятый) совершенно по-новому высветили личность писателя. Наиболее радикальное суждение, принадлежащее A.M.Эткинду, вообще объявляет все написанное о Пришвине в советское время (за исключением книг его второй жены В.Д.Пришвиной) утратившим силу: "Поток материалов из архива Пришвина обесценивает довольно объемную литературу о нем советского периода" (275, 174)
Это решение о несостоятельности советского пришвиноведения в целом не вполне справедливо. В написанных о Пришвине статьях и книгах советского времени содержится много ценного, и прежде всего это относится к работам Н.И.Замошкина, Н.П.Смирнова, Т.Ю.Хмельницкой, Г.П.ТреФиловой. П.С.Выходцева. В.В.Кожинова. В.В.Агеносова, В.Я.Курбатова и других литературоведов. Более того, несмотря на очевидное негативное отношение к Пришвину. рациональное зерно присутствует и в статьях критиков, близких к РАППу, А.В.Ефремина, М.С.Григорьева, М.ГельФанда (конкретнее речь об этом пойдет в первой главе работы), а также в статье Андрея Платонова "Неодетая весна", в высказываниях о творчестве Пришвина И.С.Соколова-Микитова. Ю.П.Казакова, А.Т.Твардовского.
Однако то. что в свете появившихся новых Фактов и материалов жизнь и творчество писателя требуют нового осмысления и нового пол-
книги писателя как Дневника, что подчеркивает включенность ее в культуру со своим именем-заглавием" (131, 164).
* Пришвин М.М. Дневник. Т. 1. 1914-1917 гг. М.: Моск. рабочий, 1991: Т. 2. 1918-1919 гг. М.: Моск. рабочий. 1994; Т. 3. 1920-1922 гг. М.: Моск. рабочий, 1995. Т. 4. 1923-1925 гг. М.: Русская книга, 1999.
хода, несомненно- На сегодняшний день Пришвин без преувеличения является самым непрочитанным и. как следствие, неизученным из числа крупных русских писателей минувшего века- Другого автора, чье литературное наследие не опубликовано и наполовину (имеется в виду Дневник Пришвина), у нас просто нет, и во многом этим определяется актуальность настоящего исследования.
Основная цель данной работы — показать, насколько это возможно, неизвестное лицо Пришвина, затронуть ранее замалчивавшиеся, вынужденно обойденные вниманием страницы его биографии и творчества, с тем, чтобы попытаться представить во всей сложности и противоречивости личность писателя, чей облик в истории русской советской литературы, с одной стороны, был в полной мере не оценен, а с другой, часто необоснованно лакировался.
При написании работы были выбраны три крупные, связанные между собою узловые темы. Условно их можно обозначить как литература, эрос и общество. Они не исчерпывают всего многообразия спектра пришвинского творчества, но выбор именно этого круга вопросов определяется тем, что, по-нашему мнению, они находятся в сердцевине писательского мировоззрения, в той его интимной области, которая была пропущена автором через душу, им лично пережита, но в отличие от более известных и изученных сюжетов, связанных с природой, этнографией или более популярных в последнее время философией жизни и русским космизмом, долгое время оставалась сокрыта и сознательно защищена от взгляда извне, и, в том числе взгляда исследовательского . в расчете на будущее, свободное от цензуры и идеологической предвзятости прочтение.
Пришвин принадлежал к писателям, биография которых не просто связана с творчеством, но стала его частью, включена и даже подчинена литературе. Вот почему слова "жизнь" и "творчество" в их диалектической связи, часто объединяемые самим Пришвиным в Дневнике в "творчество жизни" или "жизнетворчество", были использованы в названии работы и стали предметом данного исследования. Серьезный разговор о произведениях писателя и о его Дневнике. который он считал
главным делом своей жизни. - это разговор о личности. характере, поступках, взглядах, литературном и семейном окружении Пришвина, его личных и творческих отношениях с писателями-современниками.
Включая события реальной жизни и реальные лица в свое автобиографическое и творческое пространство, писатель. с одной стороны, следовал традициям "серебряного века" и прежде всего традициям русского символизма. где подобный modus vivendi был своего рода нормой*, а, с другой, явил собой тип совершенно нового художника, особенно в советских условиях. По сути дела вся его жизнь оказалась уникальным экспериментом, который он изо дня в день ставил над самим собой, находясь во враждебном окружении едва ли не с первых шагов в литературе и тщательно Фиксировал результаты этого эксперимента в Дневнике. Именно в его судьбе последовательно и в наиболее чистом виде нашла отражение принципиально важная для начала века идея жизнетворчества как способа постижения и утверждения бытия.
Последнее стало едва ли общепризнанным постулатом в современном пришвиноведении (Н.П.Дворцова. Я.З.Гришина. С.Г.Семенова. Т.Я.Грин-Фельд, З.Я.Холодова и др.). Менее изучено иное. Идея жизнетворчества влекла за собой определенную мистификацию и мифологизацию творческого и жизненного пути писателя, к чему сознательно и бессознательно . вынужденно и свободно прибегал сам Пришвин и до и после революции . Это делает особенно интересной, привлекательной и загадочной его Фигуру, и одну из задач нашей работы мы видим в том. чтобы.
* См. у А.Л.Гришунина (который. кстати. ссылается в своей статье, в том числе и на Пришвина): "Поэты-символисты придавали этому особенное значение, исповедуя "жизнетворчество"„ строя свою жизнь в соответствии со своими теориями и характером творчества. Писателя не хотели отделять от человека. литературную биографию от личной, искали сплав жизни и творчества. Сам метод становился жиэ— нетворческим Г...1 Символизм изменил и осложнил процесс восприятия литературы читателем, потребовал гораздо большей, чем прежде, определенности "образа автора" (125. 14).
опираясь на объективные свидетельства, на анализ Дневника и художественной прозы, прежде всего автобиографической, а также писем, архивных документов, мемуаров о Пришвине, что и стало материалом данного исследования, - попытаться демифологизировать созданный писателем художественный мир и центральный образ автора — демиурга этого мира, провести там, где возможно, границу между реальностью и вымыслом, миФом и Фактом. Цель подобной демифологизации состоит не в том, чтобы "разоблачить" или снизить образ Пришвина (который, надо признать, традиционно очень высоко оценивался и даже несколько идеализировался в советском литературоведении, и эта традиция сохраняется поныне), но в том, чтобы обнаружить, обнажить некоторые приемы его письма и раскрыть особенности его стиля.
"Своеобразное соотношение существует между жизнетворчеством и документальной литературой, - писала Л.Я.Гинзбург. - Документальная литература, переводя жизнь на свой язык, в то же время как бы берет на себя обязательство сохранить природу жизненных Фактов. Если, таким образом, жизнетворчество строит жизнь по законам искусства, то здесь принцип обратный: документальная литература стремится показать связи жизни, не опосредованные Фабульным вымыслом художника" (113, 29).
Пришвин ив жизни, и в творчестве попытался соединить оба этих подхода, и анализ подобного соединения представляется в высшей степени интересным и перспективным пунктом исследования.
Другая задача - проследить интертекстуальные, творческие и личные связи Пришвина с крупнейшими писателями и литературными критиками двадцатого века: В.В.Розановым, Д.С.Мережковским, З.Н.Гиппиус, А.М.Ремизовым, А.А.Блоком. И.А.Буниным, Р.В.Ивановым-Разумником, А.Платоновым, М.Горьким, Б.А.Пильняком, Б.Л.Пастернаком и др. Особенно важной видится в этом ряду роль двух писателей - Розанова и Бунина, которые, как и Пришвин, практически в одно и то же время имели отношение к елецкой мужской гимназии, и очевидное влияние первого, так же как и неявное, но глубинное и самим Пришвиным признаваемое родство со вторым ("Вчитывался в Бунина и вдруг понял его.
как самого близкого мне из всех русских писателей- Для сравнения меня с Буниным надо взять его "Сон Обломова-внука" и мое "Гусек". "Сон" тоньше, нежнее, но "Гусек" звучнее и сильнее. Бунин культурнее, но Пришвин самостоятельнее и сильнее. Оба они русские, но Бунин от дворян, а Пришвин от купцов" (102, 64)) образуют важнейший и неслучайный мотив его судьбы, опять-таки сводя жизнь и литературу в одно целое.
Наконец еше одним очень важным и очень непростым является вопрос или, вернее, целый ряд вопросов, касающихся эволюции общественной позиции, исторических и политических взглядов, религиозного и философского мировоззрения писателя. Особенно актуальна эта тема для советского периода в судьбе Пришвина. который в значительной мере замалчивался в советские годы и вызывает споры теперь, порождая самые разные оценки его художественных произведений, а также того, что сам Пришвин называл "творческим поведением", подчеркивая прямую и безусловную связь между жизнью и произведением писателя. Насколько Пришвину, декларировавшему в своем Дневнике личную и творческую независимость, действительно удавалось ее сохранить, был ли с его стороны и если был, то каким, компромисс с властью, к чему пришел писатель в итоге своих исканий. что стало результатом его творчества жизни в советские годы - об этом в пришвиноведении говорилось . по-видимому. меньше всего.
Важнейшим материалом данного исследования стал Дневник Пришвина, который он вел с самых первых шагов в литературе и до последних дней жизни. Ведение дневника никогда не было исключительным или специфическим занятием для писателей. а тем более для литературной ситуации "начала века". По справедливому замечанию одного из исследователей этого периода Н.А.Богомолова. поставившего целью в своем докладе "Дневники в русской культуре начала XX века" на Тыняновских чтениях проследить, "как эволюционирует отношение к дневникам у людей, входивших в орбиту русского символизма и постсимволистских течений, пытаясь при этом наметить не только особенности бытования этих Форм Фиксации действительности, но и изменение отношения к ним
у авторов, принадлежащих к различным типам писательского сознания", "первое, что видно невооруженным глазом, — само стремление вести дневники или же не обращаться к ним" (67, 203).
Безусловно, обращение к жанру дневника сближает Пришвина с писателями начала XX века. и все-таки пришвинский Дневник стоит в ряду знаменитых дневников той поры особняком. Взгляд писателя на исторические события, которые ему довелось увидеть и пережить, уникален, и пришвинский Дневник при всем его субъективизме, углубленном самоанализе. некоторой перегруженности бытовыми. Фенологическими или кинологическими. подробностями имеет не только литературную, но и значительную историческую ценность.
Именно сплав личного, интимного и общественного содержания и представленный в них исторический и автобиографический контекст, охватывающий почти пятьдесят лет, глубокое осмысление происходящего и безжалостность анализа и самоанализа, борьба объективного с субъективным, полемичность, внутренний драматизм и противоречивость превращают пришвинекие "тетрадки" из частного документа в уникальную книгу русской жизни, жанр которой очень трудно поддается определению и которая не имеет в нашей литературе аналогов. Дневники В.Я.Брюсова, М.А.Кузмина, Г.И.Чулкова, А.А.Блока, З.Н.Гиппиус, Б.А.Садовского, Андрея Белого, А.М.Ремизова, К.И.Чуковского при всей их громадной ценности не знают такого масштаба и охвата. Для Пришвина в отличие от большинства его современников Дневник никогда не был второстепенным, только интимным, бытовым, сугубо личным или, напротив, литературным документом - это была книга с самым широким содержанием, рассчитанная на будущее прочтение. Последнее особенно важно, ибо дневники начала века тяготели либо к крайней закрытости, как у Брюсова, либо, напротив, предполагали публикацию при жизни автора, как у Гиппиус, или же прочтение в узком интимном кругу, как у Вяч.Иванова или М.Кузмина*.
* Ср. у Георгия Иванова в "Петербургских зимах": "Однажды, в минуту откровенности, Сологуб признался (в разговоре) с Блоком:
Пришвин шел по незаемному пути. Его Дневник представлял собой некую параллельную его собственно художественным текстам литературу и находился с последней в постоянном диалоге- Особенно интересно в этой связи птхэанализировать, как соотносятся его дневниковые записи с автобиографической пгюзой, а те и другие — с реальными событиями и историческим контекстом.
"Значение дневника явно выходит не только за рамки собственно дневника, но даже в какой-то степени становится явлением более значительным, чем литература: - свидетельством соответствия духовного пути человека некоему предначертанному идеалу Г... 3 Дневник становится средством ежедневного самопознания и самостановления: протекающая жизнь не просто фиксируется, а осознается как взаимодействие человека и всего, что его окружает, причем уловленное в самый момент этого взаимодействия, а не ретроспективно. Такова, по всей видимости доминанта дневника символистской эпохи Г... 1 Здесь дневники приобретают характер не только литературной школы (психологизм, становление стиля), но и школы жизненной. заставляющей писателя открывать все самые потайные сферы своей души, делать их достоянием пусть небольшого, но все же круга слушателей. с надеждой, видимо, перейти от отъединенности человека к его невиданному единству с другими и к постепенному созданию иной, прежде небывалой, общности" (67, 207-208), - писал Н.А.Богомолов, и хотя М.М.Пришвин по не
- Хотел бы дневник вести. Настоящий дневник, для себя. Но не могу, боюсь. Вдруг, случайно, как-нибудь, подчитают. Или умру внезапно - не успею сжечь. Останавливает меня это. А, знаете, иногда до дрожи хочется. Но мысль - вдруг прочтут, и не могу" (150, 139).
Ср. также у Б.В.Томашевского: "В XX веке появился особый тип писателей с биографией - демонстративно выкрикивающих: смотрите, какой я нехороший и бесстыжий. Смотрите и не отворачивайтесь, потому что все вы такие же нехорошие, но только малодушны и скрываетесь. А я смел, раздеваюсь нагишом и хожу на публике не стесняясь" (252, 8).
вполне понятным причинам нигде не упоминается в его работах. само это определение относится к нему как ни к какому другому писателю той поры.
Именно связь Дневника Пришвина с жизнью, с одной стороны, и художественными текстами, с другой, обусловливает его центральное положение в данной работе и требует искать определенного научного подхода, при котором история жизни отдельной личности сопрягалась бы с литературным и историческим контекстом своего времени и находила отражение в текстах писателя. Это имеет определенное отношение к идеям нового историзма, о которых говорится в работах А.М.Эткин-да: "Новый историзм - история не событий. но людей и текстов в их отношении друг к другу. Его методология включает три компонента: интертекстуальный анализ. который размыкает границы те к с та. связывая его с многообразием других текстов, его предшественников и преследователей: дискурсивный анализ. который размывает границы ж а н р а, реконструируя прошлое как единый, многоструйный поток текстов; и наконец, биографический анализ. который размывает границы жизни, связывая ее дискурсами и текстами, среди которых она проходит и которые она продуцирует" (277, 7-8). И далее - "задача анализа не в том, чтобы слить реальность с фантазией: этим занимаются сами пациенты, авторы и тексты. Задача анализа в том, чтобы разграничить текст и реальность и на этой основе увязать их друг с другом, восстановить их контекст" (207. 15). Последнее представляется в случае с Пришвиным особенно актуальным и имеет прямое отношение к вопросу о демифологизации.
Эти идеи, впрочем, разрабатываются в современном литературоведении очень многими и не только зарубежными исследователями. на которых А.М;Эткинд в своей статье ссылается. Очевидно, что в обращении к ним проявилось осознание кризиса, исчерпанности господствовавших до недавнего времени идей, когда предметом научного рассмотрения был оторванный от личности автора текст.
"Период "бури и натиска" эпохи постмодерна уже позади, началась инерционная Фаза. и осознается главная потеря - отказ от историзма,
- пишет А.Р.Казаркин. — Внятнее об этой неновой потребности. о
возврате к историзму сказал А.Эткинд. и дело не в определениях, но
вый это или старый историзм, он на каждом этапе специфический. ста
диальный. В конечном счете, историзм - это самоопределение эпохи в
ценностно-религиозной перспективе, воля ее человека к самосознанию"
(161, 62).
Ухе упоминавшийся А.Л.Гришунин еще раньше писал: "История литературы рассматривает место произведения в литературном процессе. Необходимо поэтому не только соотнести между собой произведения данного автора, но и поставить их в контекст всего того, что мы знаем о нем. о его жизни, мировоззрении, прошлых работах, о других его сочинениях, круге чтения, общественных отношениях и идеях, которые оказали на него влияние Г...1 Таким образом. биография писателя - один из компонентов контекста, средоточие контекста, необходимого исследователю, да и всякому читателю для правильного понимания творчества Г... 3 И, наоборот, текст писателей, не только мемуарная, эпистолярная, автобиографическая, но и просто беллетристика
- характерны; они - важнейшие источники сведений о личности их соз
дателей" (125. 15).
Жизнь Пришвина и его литературное наследие, их сложная взаимосвязь и взаимовлияние, зафиксированные с мельчайшими подробностями в Дневнике и художественной прозе, жизнь, осмысляемая и творимая как предмет искусства и искусство понимаемое как жизнь* - едва ли не самый удачный и благодатный для подобного исследования материал в русской литературе XX века.
*Ср. у К.Г.Исупова: "Творчество "серебряного века" было подлинно эстетичным: оно соединило художественный образ жизни с авторским самосознанием, что, в свою очередь, вызвало к жизни философскую практику. которую интересует не текст (как у Формалистов). а позиция автора. Проза Л.Толстого и М.Пришвина столь же органично вырастает из личных дневников самонаблюдения. как многие ранние веши А.Белого и А.Блока из их Философической переписки" (160, 120).
<>тталкиваясь от известной мысли Б.В.Томашевского о том. что бывают поэты без биографии и поэты с биографией, можно с высокой степенью уверенности сказать, что Пришвин принадлежал к числу вторых*, то есть тех. о ком сам Томашевский. желая ограничить "болезненное обострение интереса" к личности писателя, его быту и взаимоотношениями в литературной и окололитературной среде и ввести этот процесс в научные рамки, выразился в статье "Литература и биография" (1923) следующим образом: "Для писателя с биографией учет Фактов его жизни необходим, поскольку в его произведениях конструктивную роль играло сопоставление текстов с биографией автора и игра на потенциальной реальности его субъективных изменений и признаний- Но эта нужная историку литературы биография - не послужной список и не следственное дело. а та творимая автором легенда его жизни. которая единственная является литературным Фактом" (252, 9).
Таким образом, за рамками исследования, с точки зрения Томашевско го, должны остаться так называемые "документальные" биографии, которые входят в "область истории культуры, наравне с биографиями генералов и изобретателей, а для литературы и ее истории являются лишь внешним. хотя бы и необходимым. справочным. подсобным материалом" (252, 9).
Проблема, следовательно, заключается в отборе чрезвычайно насы—
* К поэтам без биографии Томашевский относил Шекспира. Мольера, Некрасова, Островского, Фета, Ф.Сологуба и утверждал, что сочинять для них биографию значит "писать пасквиль или донос". К поэтам с биографией - Вольтера, Руссо, Байрона, Пушкина, Лермонтова, Парни. Розанова. Блока. Маяковского. Во многом это определялось, по мнению Томашевского, намерением и стратегией творчества самого писателя и частично было спровоцировано. особенно начиная с девятнадцатого века, читательским спросом: "Автор становится свидетелем и живым участником своих романов, живым героем. Происходит двойное превращение: герои принимаются эа живых лиц, поэты становятся живыми героями, их биографии превращаются в поэмы" (252. 7).
ідейного и богатого биографического материала, а в случае с. Пришвиным он особенно велик, ив этой связи можно вспомнить другого известного ученого первой половины XX века и по-своему оппонента Б.В.Томашевского* в вопросе об использовании писательских биографий в литературоведении Г.О.Винокура, который, размышляя о "критериях самого отбора биографического материала из общей наличности Фактов, доставляемых нам исторической действительностью в целом", утверждал в своей книге "Биография и культура" (1927) - явно полемичной по отношению к статье Томашевского, что подобный "критерий состоит в том, что исторический факт (событие и т - п.) для того, чтобы стать фактом биографическим, должен в той или иной форме быть пере -
* Признавая раскол на биографический и формальный метод в литературоведении , Томашевский писал: "Многих биографов нельзя заставить осмыслить художественное произведение иначе чем, как факт- биографии писателя. Для других же - всякий биографический анализ произведения есть вненаучная контрабанда, забегание с заднего крыльца" (252, 6).
Мысли Томашевского по-своему перекликаются с концепцией Д.Е.Максимова, выдвинутой им в статье "Идея пути в сознании- Александра Блока" и имеющей и отношение к Пришвину. Так, рассуждая о том, что путь может пониматься как позиция и как развитие, исследователь пишет: "Блок, большинство символистов или, скажем, такой писатель , как Михаил Пришвин, если подходить к ним в свете поставленной здесь проблемы, при всем разительном различии в содержании- своих путей, структурно смыкались с этой литературной линией (то есть путь как как развитие — А.В.), в частности с линией Л.Толстого" (186, 15-16). И далее автор напрямую сводит тему "пути" с темой автобиографизма в литературе: "Существенным фактором, который способствовал возникновению этой темы являлись ориентация на личность автора, атмосфера лиризма и в какой-то мере совпадающая с нею тенденция к автобиографизму, формировавшая произведения писателя (186, 17).
ж и т данной личностью. Переживание и есть та новая Форма, в которую отливается анализируемое нами отношение между историей и личностью: становясь предметом переживаний, исторический Факт получает биографический смысл — так может быть сформулирован этот новый шаг в глубь биографической структуры С -.Л
Мы вправе смотреть на сферу переживания как на сферу д у х о в— ного опыта в широком смысле слова. Здесь бьет ключом и творится та жизнь, постичь которую хочет биограф.
Это и в самом деле есть та сфера личной жизни. где мы получаем право говорить о личной жизни как творчестве. Личность здесь - словно художник, который лепит и чеканит в Форме переживаний свою жизнь из материала окружающей действительности" (89, 37-39).
Именно на этих, наиболее пережитых сторонах биографии Пришвина, которые одновременно стали "творимой легендой" его жизни, запечатленной в его художественных текстах, мы и остановим свой взгляд.
Говоря о предшествующей традиции подобных исследований, можно сослаться на книги В.Вересаева "Пушкин в жизни" (1926—1927) и "Гоголь в жизни" (1933), Б.Зайцева "Жизнь Тургенева" (1932), "Жуковский" (1951). "Чехов" (1954), в которых личность писателя рассматривается через призму его творчества, а творчество - через призму личности.
Структура работы определяется ее задачами. Диссертация состоит из Введения, четырех глав. Заключения, списка использованной литературы и приложения. где указаны основные даты жизни и творчества Пришвина, уточненные по сравнению с публиковавшимися ранее.
Личность В.В.Розанова в жизни. Дневнике и художественной прозе М.М.Пришвина: проблема авторского произвола
Обыкновенно когда ГОВОРЯТ О начале творческого пути писателя. то разбирают его первые литературные произведения. Однако жизнь Пришвина сложилась таким образом, что его вхождение или точнее столкновение с большой русской литературой ПРОИЗОШЛО гораздо раньше написания им художественных текстов и при обстоятельствах весьма драматических. Речь идет об очень непростых отношениях. которые связывали будущего писателя с его гимназическим учителем, одним из самых ЯРКИХ и своеобразных русских мыслителей начала XX века В.В.Розановым и об отражении этих отношений в Дневнике и художественной прозе. Именно на сопоставлении трех уровней - реальные события (отраженные в документах и мемуарах). Дневник и художественная проза - мы попытаемся раскрыть особенности творческой манеры Пришвина, превращавшего и себя, и реальных исторических личностей в персонажей художественного мира.
Вопрос о творческом и идейном диалоге Пришвина и Розанова по самым различным вопросам достаточно подробно рассмотрен в докторской диссертации Н.П.Дворцовой "Путь творчества М.Пришвина и русская литература начала XX века" (1994). однако помимо аспекта мировоззренческого огромную роль здесь сыграла психология творческих личностей . и противоречивое. едва ли не болезненное отношение Пришвина к Розанову определялось чисто личными, берущими начало в отрочестве и оттого такими глубокими мотивами, благодаря чему и возник своеобразный Феномен "пришвинского Розанова".
В мае 1919 года, через несколько месяцев после смерти Розанова. Пришвин написал об истории их давнего знакомства: "В судьбе моей как человека и как литератора большую РОЛЬ сыграл учитель елецкой гимназии и гениальный писатель В.В.Розанов. Нынче он скончался в Троице-Серг иевой лавре, и творения его. как и вся последующая литература, погребены под камнями революции и будут лежать, пока не пробьет час освобождения. Г...1
Мое первое столкновение с ним было в 1883 году. Я. как многие гимназисты того времени, пытаюсь убежать от латыни в "Азию". На лодке по Сосне я удираю в неведомую страну и, конечно, имею судьбу всех убегающих: знаменитый в то время становой, удалой истребитель конокрадов Н.П.Крупкин ловит меня верст за 30 от Ельца. Насмешкам гимназистов нет конца: "Поехал в Азию, приехал в гимназию". Всех этих балбесов, издевающихся над моей мечтой, помню, сразу унял Розанов: он заявил и учителям и ученикам, что побег этот не простая глупость, напротив, показывает признаки особой высшей жизни в душе мальчика. Я сохранил навсегда благодарность к Розанову за его смелую по тому времени необыкновенную защиту" (222. 43).
Однако образ Розанова в автобиографическом романе "Катеева цепь" (1923-1954). написанном несколько лет спустя после сметэти Розанова, скорее неприятен, тенденциозен и этим отличается от более сложных и неоднозначных дневниковых записей.
"Козел, учитель географии, считается и учителями за сумасшедшего: тому — что на ум взбредет, и с ним все от счастья" (22. I. 85). И несколькими страницами далее дается его портрет: "Весь он был лицом ровно-розовый, с торчащими в разные стороны рыжими волосами, глаза маленькие, зеленые и острые, зубы совсем черные и далеко брызгаются слюной, нога всегда заложена за ногу, и кончик нижней ноги дрожит, под ней дрожит кафедра, под кафедрой дрожит половица" (22. Г, 91).
Этот неприятный человек обращает на Курымушку внимание, выделяет его из гимназической массы, ставит пятерку за пятеркой и на одном из уроков Фактически подстрекает ученика к невероятному авантюрному действу - совершить побег из гимназии и пробраться в Азию.
С точки зрения романической - ход блестящий: ПРИШВИН очень точно обозначил роль Розанова в русской литературе. Автор журналов с ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ политическими позициями, человек, взбаламутивший общественное сознание своими ни на что не похожими книгами ("Великая тайна. а для меня очень страшная. - то. что во многих русских писателях (ив Вас теперь) сплетаются такие непримиримые противоречия, как дух глубины и пытливость, и дух... "Нового времени", - писал Блок Розанову (61, II, 621)), едва не отлученный от церкви ГОРЯЧИЙ христианин и печальный христоборец был по натуре великим провокатором, и впечатлительный Курымушка вполне закономерно пал его жертвой.
Описание бегства трех гимназистов составляет едва ли не лучшие страницы автобиографической пришвинской прозы и высвечивает очень сильный и волевой характер маленького протагониста, однако действительность выглядела куда более прозаической нежели ее романная версия.
"Они прибыли в гимназию как раз во время большой перемены в сопровождении пристава, и я видел, как их вели по парадной лестнице на второй этаж, где находилась приемная комната директора гимназии Николая Александровича Закса. Третьеклассники шли с понурыми головами и хмурыми лицами, а второклассник ПРИШВИН заливался ГОРЬКИМИ слезами", - лаконично повествует об этом событии учащийся той же гимназии Д.И.Нацкий, коренной житель Кльца, впоследствии работавший многие годы врачом в железнодорожной больнице (102, 18—19).
Один из участников побега Константин ГолоФеев в своих показаниях заявил: "Первая мысль о путешествии была подана Пришвиным, которому сообщил о ней проживавший с ним летом кадет ХРУШОВ, а Пришвин передал об этом Чертову, а затем мне. Устроил же побег Чертов" (102, 20).
Всего этого - как пришвинские мальчики раскаивались и друг друг "сдавали", как позорно плакал один из них, в романе нет, и ничто не бросает тень на гордый бунтарский дух маленьких гимназистов, однако безжалостная история сохранила два замечательных документа.
Первый - точку зрения гимназического начальства, выраженную в постановлении гимназического совета от 16 сентября 1885 года, и второй - еше более примечательный: автор его сам Михаил Пришвин и этот документ, создателю которого не исполнилось и тринадцати лет, интересен еше и тем, что является, по-видимому, наиболее ранним дошедшим до нас пришвинским текстом: "Нынешнее лето проживал у нас в деревне кадет 3-го Московского корпуса Хрущов со своею матерью. Хрущов рассказывал мне. что у них в корпусе бехали два кадета и возвращены были назад. Это я, когда приехал в город, рассказал Чертову, как новость. Чертов сказал, что кадеты дураки, потому что не умели бехать Г ...] Когда мы увидели, что нас догоняют, мы очень испугались. Чертов сказал, что нухно пристать к другому берегу, потопить лодку и бехать. Но в это время явился становой пристав Крупкин, нас задерхоли и возвратили в город.
Револьверы были заряхены, но их разрядил Крупкин, когда нас за— дерхал, и полохил в телегу, в которой ехали Тирман и Голофеев. Г...] М-ме Шмоль, у которой я с Голофеевым квартировал, тотчас хе дала знать о моем побеге моей маме, и мама моя приехала из деревни в тот хе день ночью, так что, когда нас возвратили, я застал свою маму у м-ме Шмоль. В этот хе день меня вызывали в гимназию, и после меня в этот хе день ходила з гимназию мама. Ученик второго класса Елецкой гимназии Пришвин Михаил" (102, 20-21).
Старший: писательская стратегия Пришвина в 20-ые годы
Пришвин видел человечество разделенным на две части: "все люди разделяются на ищущих (чающих) влиться в море веры и бить самим творцами: две породы людей: вода и пастыри" (1, 74) - это разделение мучительно тем, что требовало выбора, вопрошало о собственном месте, и Пришвин пытался его обрести. "Вера имеет тело и Форму: тело - верующее. Форма - творец. Тут 1 нрэб. темы: самозван или богозван" (1,74). Он был превосходным зорким наблюдателем, духовно чутким и очень богатым, или, лучше сказать, обогащенным человеком, много видевшим и испытавшим, мышление Пришвина в эту пору ухе было весьма оригинальным, но еще не сделалось вполне самостоятельным - странное, но несомненное противоречие ("Хоть у него и ломаный ум, с зигзагами, но мыслит правильно Г.-.З страшно путаный человек", - проницательно отзывалась о своем племяннике героиня его автобиографического романа Е.Н.Игнатова (Дунечка) (215, 50)); хотя ему уже и было за сорок, он сильно зависел от окружавших его людей: "Был человек, с очень тонкими нервами, наследованными от предков, никаким питанием сам он но мог притупить свою чувствительность, и как лист на осине трепетал от малейшего ветерка, так и он весь трепетал от розных веяний духа" (4, 170)), и замечательны две самые последние его довоенные дневниковые записи, сделанные в июле 1914 года: "Счастье умного человека есть глупость, те немногие минуты, когда умный человек был в глупом состоянии, и вспоминает потом как счастье. Из этого, впрочем, не следует, что глупость и счастье одно и то же: счастье существует само по себе, но легче всего оно дается дуракам" (1. 84). И другая: "Завещаю своим родным поставить крест над моей могилой с надписью: "На память о теле" (там же). С сей неутешительной эпитафией встретил Пришвин через несколько дней первую мировую войну. Большого патриотического подъема, которое переживала в то лето Россия, он не испытал, скорее его одолевали недобрые предчувствия ("Россия вздулась пузырем - вообще стала в войну, как пузырь, надувается и вот-вот лопнет" (1. 86)) с ярко выраженной эсхатологической окраской ("Должно родиться что-то новое: последняя война" (1. 86)) и предощущением того, что и произойдет в семнадцатом году: "Если разобьют, революция ужасающая" (1. 86).
Он был совершенно мирным человеком, чуть ли не пацифистом (едва не подрался с неким Лапиным, по-видимому бывшим или настоящим социалистом, которому пытался сказать что-то против войны), и в то же время война невероятно притягивала его, он был готов ехать на нее "зайцем", но благодаря своему двоюродному брату Игнатову ему удалось получить аккредитацию, и в августе 1914 года Пришвин поехал в Галицию в качестве военного корреспондента.
Пришвин продвигался вслед за наступающей армией, писал для газеты, видел много жестокостей с обеих сторон, записи этих лет суховаты, полны подробностей, какие только мог разглядеть штатский человек, более привыкший странствовать по мирным лесам. Ему открывались ужасные Факты гонения на русское население на Западной Украине — запрет иметь русские книги (во Львове русский гимназист вынужден был сжигать Пушкина, Лермонтова, Толстого и Достоевского) и карту России, аресты простых женщин за паломничество в православную Поча-евскую лавру; писатель наблюдал разных людей - героев, мародеров, дезертиров, местечковых евреев, слышал истории об убиенных православных священниках и повешенных возле церквей детях, и вывод его от увиденного, от инквизиции начала двадцатого века был вполне роза-новский: "Мне жалко мечту Г - -. 3 Горько за творческую мечту, больно со всех сторон." (1. 101)
Военная стезя оказалась совершенно не для него. Путь, по которому шли Хэмингуэй, Ремарк или позднее Симонов, романтическое и одновременно с тем развенчивающее романтизм и сентиментализм описание военной поэзии и окопной грязи - были Пришвину чужды, но это еще один повод, чтобы бежать. Неслучайно же героем поэмы "Жень-шень" (1933) Пришвин сделает человека, который после ужасов войны уходит в леса.
Описывая войну, Пришвин нашел удивительно верный, глубокий и емкий образ "слепой Голгофы", подразумевая, что люди шли на страдание, на смерть, но понимая, за что они умирают, и сущность этой метафоры так глубока, что ее можно применить ко всему двадцатому веку русской истории, и в тридцатые годы Пришвин не роз к этому образу возвращался, видя в нем содержание своего времени и утверждая смысл творчества в прозрении, осмыслении и ненапрасности страдания.
Зимой 1915 года он был на волосок от германского плена, несколько дней шел пешком при страшном морозе с армией в польских Августовских лесах, видел "огромные стволы деревьев, окропленных кровью человека", но и тогда его не оставляло личное отношение к происходящим событиям, и он был склонен рассматривать их через призму собственного опыта, так что даже странным образом связывались в его сознании война и давняя история первой любви: "Роман моей жизни: столкновение Германии и России, я получил все от Германии и теперь иду на нее" (1, 151).
Но вышло наоборот, не Россия шла на Германию, а надвигалась на Россию революция, чума, страна неизбежно приближалась к катастрофе, и в этом движении было что-то неумолимое, похожее на действие античного рока, и от Пришвина-художника требовалось не изменить зоркости глаза и трезвости ума.
"Православная Россия споткнулась на Фабричном пороге" (1. 205), - в этой емкой исторической Формуле заключено едва ли не все: и страшные перебои со снабжением воюющей армии, и казнокрадство, и тыловая измена, и беспомощность власти, и воровство, и гниль большевистской пропаганды, разъедающей и тело, и душу России. Внутренний враг страшнее врага внешнего, и окруженная с двух сторон Россия скатывалась в революцию, которая казалась похожей Пришвиїгу на взрыв хлыстовского чана, и именно такой, хлыстовской он ее и увидел.
Первая любовь
Традиционно Пришвина принято считать одним из самых целомудренных русских писателей прошедшего столетия. Это в целом совершенно справедливое суждение, сформировавшееся в поздний период его творчества, в пору создания легенды о пришвинской жизни, в наиболее точном виде отразила п своей книге "Путь к слову" вторая жена писателя В.Д.Пришвина.
"Вся долгая жизнь Пришвина и его поэзия показали, что любовь "без предрассудков" была не в его натуре, и если бы он принял ее такой хоть раз без борьбы. без страдания, это было бы не простым для него самообманом, но и прямой гибелью. Идя вслед за Пришвиным по всем его дальнейшим произведениям и. главное, дневникам, мы встретим не раз свидетельства его борьбы за свою звезду, за корень своего существа - целомудрие, понимаемое им как единство тела и души" (222, 87-88).
Однако о том. насколько извилистым и неровным был этот путь, в пришвиноведении говорилось мало, а между тем дневниковые свидетельства его "вековечной суровой борьбы за любовь" оставляют впечатлениє более, чем противоречивое...
Воспитанник культуры "серебряного века", вообще весьма остро реагировавшей на проблему пола, Пришвин бил верен эротической теме до конца дней. В зрелые годы в отношениях с противоположным полом он проповедовал "Физический романтизм", идею которого сформулировал таким образом: "Разрешение проблемы любви состоит в том, чтобы любовь добродетель поставить на корень любви по влечению и признать эту последнюю настоящей, святой любовью. Так что корень любви - есть любовь естественная (по влечению), а дальше нарастают листики, получающие для всего растения питание от Света. Это и есть целостность (целомудрие). Источник же греха -разделение на плоть и дух. С...З Целомудрие есть сознание необходимости всякую мысль свою, всякое чувство, всякий поступок согласовывать со всей цельностью своего личного существа, отнесенного к Общему - ко Всему человеку" (32, 275-276). Этот поздний мудрый итоговый "физический романтизм", воплощенный в образе своеобразного древа жизни, очень важного для всей пришвинской Философии символа, по-видимому, был противопоставлен Ср. у Н.М.Солнцевой: "В целом же в сознании русского серебряного века утверждается концепция эроса как универсального, целостного Феномена. Так, признав заслугу Фрейда в открытии эротической природы подсознания, Вышеславцев тем не менее утверждал: "Эрос бесконечно большее объемлет, нежели libido Dexualis, нежели даже эротическая влюбленность. Это его корни и цветы, но не всеобъемлющее древо жизни" (246, 7). "Инстинкт как бы предан посрамлению. Реаби-литован и даже вознесен, одухотворен он был немногими, и среди них - И.А.Бунин и А. И і Куприн" (там же, 8). Ср. у Пришвина, который еще в раннем своем Дневнике писал: "Пусть укажут самую святую любовь к женщине, в которой не было бы окрашенного романистами грубого собачьего влечения к самке" (217, 219). более раннему "романтизму безликому", о котором писатель рассуждал применительно к замислу своего ненаписанного и известного под разними названиями ("Начало века", "Марксисти") романа: "пол, ИСТОЧНИК ЖИЗНИ, подорван" (1, 179), а это привело к "абстракции полового чувства" (там же). "Подорвашюсть" пола, по Пришвину, могла проявить себя в самых разных Формах от возведения в идеал не конкретной женщины, но жен-шины вообще до полной половой распущенности и неразборчивости. Неслучайно в автобиографическом романе "Кащеева цепь" ее главный герой протестовал против упрощенного, житейского отношения к женщине, в ответ на что один из его оппонентов в этом вопросе - некто Амбаров (фамилия, кстати, говорящая, амбар в пришвинском Дневнике восемнадцатого года - символ несвободы, в холодные амбары сажали большевики тех, кто уклонялся от уплаты налогов), меняющий одну за другой жен, говорил ему: " - Для меня, - сказал он, - большая загадка, почему из этого... - Он глянул на ногу своей женщины и усиленно потер пальцем мрамор. — Из этого простого и чисто физического удовольствия вы делаете себе нечто запретное, почти недостижимое" (22, I, 395). Но пришвинский автопротагонист с таким незамысловатым подходом не соглашался и берег себя для будущего. "Как трогательно воспоминание из жизни Алпатова, когда он, весь кипящий от желания женщины, окруженный множеством баб, из всех сил боролся с собой (с ума сходил) и сохранял чистоту для невесты, даже не для невесты, а для возможности, что она когда-нибудь будет его невестой. Казалось, что вот только он соединится с одной из баб, так он сделается в отношении ее таким, что и невозможно будет уже к ней придти" (4, 330). И все же дело здесь не только в трогательности, и образ автора в Дневнике оказывается куда более противоречивым, чем образ автобиографического героя в романе "Кащеева цепь", т.е. в сущности вновь повторяется "розановский сюжет", когда картина мира в Дневнике выглядит богаче и сложнее, чем в параллельном ему художественном тексте. То там. то здесь по очень искреннему Дневнику писателя обронены самые горькие и по-пришвински очень противоречивые, чуть ли не взаимоисключающие признания насчет своей обделенной юности и затянувшейся девственности. Особенно усилился этот мотив в пору работы над романом, и дневниковые записи, относящиеся к его созданию, образуют своего рода "леса" подобно будущим "лесам" к "Осударевой дороге". "Недаром голубая весна так влечет к себе мое существо: смутные чувства, капризные, как игра света, наполняли большую часть моей жизни. Ведь в 47 лет только я получил наконец от женщины все то, что другой имеет в 25 лет и потом остается свободным щ\п своего "дела" (3. 171). "Душевный состав мой Г.-.3 тайный невыраженный романтизм, страдание оттого, что не могу быть, как все (особенно в половой сфере), черты полной дикости (чрезвычайная робость, застенчивость в отношении к женщине)" (2, 74). "Моя драма: преодоления девства" (АП. 16.01.1927), и итогом этих размышлений стала запись совсем поздних лет от 3 октября 1951 года, когда Пришвин вновь вернулся к "Кашеевой цепи": "Любовный голод или ядовитая пища любви? Мне досталось пережить голод" (6. 486). В зрелые годы, встретив наконец женщину, которую он так долго искал, писатель пришел к убеждению в благотворности сексуального воздержания и полагал, что именно из этого голода рождается художник. "Вчера в консерватории слушали великолепный концерт венгерки Любопытно, что эта запись почти точь-в-точь повторяет запись из раннего Дневника (21 июня 1912 года): "Любовный голод или ядовитая пиша любви? Мне достался любовный голод" (217. 283). Начало и конец, таким образом, сомкнулись. Анни Фишер, и после ночью думал о технике любви, о том, что и тут техника, и тут часто бывает: "Техника решает все".
Вся эта "любовь" через всю жизнь, и все это искусство мое вшило только из-за того, что я не знал "техники". Если би перед этим опытная женщина один какой-нибудь час поиграла со мной, вся эта любовь через всю жизнь часом бы и кончилась. Вопрос о том, лучше бы устроилась моя жизнь или хуже - невозможно сказать, но только жизнь была би иная: не "идеальная", а реальная" (22, VI, 654). Еще более благосклонно относился писатель на семьдесят девятом году жизни к естественному прекращению коварной страсти: "Люди еще молодые, состоящие в плену главной человеческой страсти, обеспечивающей размножение, представляют себе жизнь без этого, как смерть. Они не подозревают, что как раз-то и начинается свободная и большая жизнь, когда они освободятся от этого пристрастия" (23, VIII, 537). Однако в молодости и даже в середине жизни все представлялось ему гораздо сложнее и трагичнее.
Взбаламученное море: крестьянство в Дневнике и прозе М.М.Пришвина
В 1920 году Пришвин переехал на родину жены под Смоленск — так начинается новый и еше более трагический период его жизни. В эти годы он работал сельским учителем (шкрабом) и позднее описал свои мытарства в рассказе "Школьная робинзонада" (1924), где сравнил себя "с Робинзоном, после кораблекрушения выкинутым в среду первобытных людей" (29, 172). Но если в рассказе звучала сильная оптимистическая нота, то непосредственный свидетель тех лет — Дневник — окрашен в мрачные тона: "Часто лежу ночью и не чувствую своего тела, как будто оно одеревенело и стало душе нечувствительным, а самая душа собралась в рюмочку около сердца, и только по легкой боли там чувствуешь, что она живет и движется: болью узнается движение души. Подэемно затаенная жизнь, как у деревьев, занесенных снегом, и кажется, что вот настанет весна, и если я оживу так. как все растения - то стану где-нибудь у опушки и присоединюсь к лесу просто, как дерево" (3. 21).
От тифа, голода, случайной или намеренной пули умирали люди, каждый из прожитых дней мог оказаться последним, шли военные поборы, ученики в пришвинском классе "синели от холода среди дремучих лесов" (4, 71), казалась лишенной смысла и света жизнь. И было еще одно тяжкое и очень существенное обстоятельство, испытание. обминуть которое, говоря о Пришвине, невозможно. Это - его отношение к крестьянству и с крестьянством, о чем говорилось в пришвиноведении очень мало и глухо.
"Пришвин перебирается на родину жены, в смоленскую деревню под Дорогобужем. Но и там он не был принят в нарушенный революцией прежний крестьянский мир" (23, I, 23), - вот и все, что могла лаконично сказать об этом В.Д.Пришвина в статье, предваряющей восьмитомное собрание сочинений писателя в 1982 голу.
Учительскую семью на Смоленщине и впрямь встретили мрачно. Свободной от лесов земли в округе было мало, крестьяне боялись. что Ефросинья Павловна как уроженка здешних мест потребует надел на всех едоков, не желали сдавать жилье и объявили пришельцам бойкот.
"Несем с Левой из лесу дрова, встречаются мужики. "Что же, -говорят, - каждый день так на себе носите?" И захохотали сатанинским хохотом. Лева сказал: "Мало их били!". Какое СКРЫТО В мужике презрение к Физическому труду, к тому, чем он ежедневно занимается, и сколько злобы против тех, кто это не делал, и какая злая радость, что вот он видит образованного человека с дровами. "Мужики" — это адское понятие, среднее между чертом и быком. Г... З В конце концов, мужики, конечно, и составляют питательную основу ношей коммуны" (3, 171).
Это момент принципиальный и требующий комментария. Уже несколько лет подряд Пришвин практически безвылазно жил среди крестьян и, чем лучше их узнавал, а вернее, через свою душу этот опыт пропускал, тем выше становился его счет к ним, более жесткие выносились оценки, и претензии он предъявлял, как и в 1917 году, не с традиционной интеллигентской точки зрения, где смешивались в разных пропорциях ксенофобия, чувство вины и идеализация народа, что отчасти и отразил (в обоих смыслах этого слова) знаменитый сборник начала века "Вехи", а со взыскующей гражданской позиции: "Гражданская тоска: неужели, в конце концов, Семашко, когда жил в деревне доктором, "все презирал в ней и ненавидел" и был прав, для жизни — тут нет ничего. Похороны - красивейший обряд русского народа, и славен русский народ только тем. что умеет умирать" (3, 259). Эта, все же высокомерная, идея была для великого жизнелюбца не нова. Вспомним еше раз, что уже в 1917 году, когда все только начиналось, в Ельце Пришвин записал почти как прошение и мольбу, вопль сердца: "Сон о хуторе на колесах: уехал бы с деревьями, рощей и травами, где нет мужиков" (1, 288). И несколько лет спустя, пережив голодные елецкие годы: "Между прочим, вспоминая прошлое, как это курьезно сопоставить то чувство негодования, когда узнавал, вот такого-то мужика большевики, вымогая сознание в своих деньгах для чрезвычайного налога, опускали в прорубь, и когда мужик измучит тебя своей алчностью при менке пиджака на дрова, скажешь: "Ну и хорошо же, что большевик окунул тебя, зверя, в холодную воду" (3, 40). А затем под Смоленском: "Деревня - мешок злобно стукающих друг о друга костей" (3, 256). "Мужик готов служить корове, лошади, овце , свинье, только бы не служить государству, потому что корова своя, а государство чужое" (3, 259). Еще позднее под Талдомом: "Рабочему теперь живется много лучше, чем прежде, крестьянину хуже. И это справедливо: рабочий в революцию жертвовал собой, крестьянин только грабил. Каждый получал по делам своим" (4, 29). "С первого момента революции народ выступал как грабитель и разрушитель" (4, 51). "Я стою эа рабочую власть, но против крестьянской, муяиков я очень не люблю, потому что бык, черт и мужик - это одна партия" (4, 108). Здесь слишком многое сплелось, и личное, и общественное, и даже воспоминания детства: "Мать для чего-то по-матерински хранила, оберегала меня, а вокруг было поле рабов завистливых, лживых и пьяных, которых называли христианами, православными мужиками" (2, 47), отнятый впоследствии отчий дом и уничтоженный этими рабами материнский вертоград, хроническое мужицкое презрение и недоверие к образованному слою, которое Пришвин на себе чувствовал, обида на крестьян, которые "пропили свою волю" (2, 35) и не использовали шанс, данный им Февральской революции, по-прежнему Пришвиным безоговорочно признаваемой и отождествлявшейся в его сознании с погубленным цветом. "Величина государственного насилия обратно пропорциональна величине гражданского беэ-раз-личия" (4, 63), - утверждал он, используя свой излюбленный прием разбивки слова на слоги для усиления его смысла и обращая этот смысл к тем, кто был, по его мнению, напрочь гражданского сознания лишен.