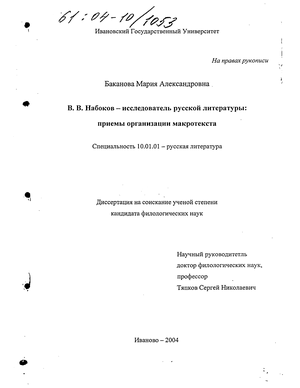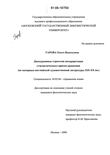Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. «Онегинский текст» Набокова и его функции в макротексте писателя
ГЛАВА II. Структура «гоголевского текста» Набокова
1. Эссе В. Набокова «Николай Гоголь» как текст-медиатор
2. «Приглашение на казнь»: гоголевский подтекст
3. Гоголевский подтекст в прозе В. Набокова: фонетический аспект
Приложение к 1
Приложение к 2
Приложение к 3
Заключение примечания
Список использованной литературы.
- «Онегинский текст» Набокова и его функции в макротексте писателя
- Эссе В. Набокова «Николай Гоголь» как текст-медиатор
- «Приглашение на казнь»: гоголевский подтекст
- Гоголевский подтекст в прозе В. Набокова: фонетический аспект
Введение к работе
Активное изучение различных аспектов творчества Владимира Владимировича Набокова началось еще при жизни писателя, и к настоящему моменту набоковедение превратилось едва ли не в самую популярную отрасль западной русистики. Причин тому много, но самая очевидная — это билингвизм писателя, перешедшего в середине жизни с русского языка на английский. В Америке Набоков дебютировал как автор критических статей и рецензий. Однако, тексты нехудожественной прозы являются на сегодняшний день наименее изученной частью англоязычного творчества писателя. В сознании современного читателя Набоков остается мэтром прежде всего романного жанра. Гениальный стилист-прозаик заслонил Набокова - переводчика, комментатора и биографа, впрочем как и Набокова - поэта и драматурга.
Во многом неисследованность критики Набокова объяснима текстологической ситуацией как в России, так и за рубежом. Н. Г. Мельников, издавший сборник интервью, рецензий и эссе писателя на русском языке1, констатирует, что недоступность текстов отчасти спровоцирована самим Набоковым. Некоторые работы раннего периода «мистер «Лолита»» никогда не публиковал и отзывался о них довольно пренебрежительно. Материалы лекционных курсов, читанных в Корнеллском университете, были подготовлены к печати и изданы тремя томами только
после смерти писателя, вызвав широкий резонанс в англоязычной прессе, и
з только спустя пятнадцать лет они стали доступны отечественному читателю.
Над ними Набоков работал, начиная с 1951 года, лелея мысль об их издании,
постоянно откладывая и снова к ним возвращаясь. Однако в 1972 году, после
очередной ревизии, писателем был наложен категорический запрет: «Мои
университетские лекции <...> слишком сыры и хаотичны и никогда не
должны быть опубликованы. Ни одна из них»4.
К лекционному материалу Набоковым не были адаптированы ранние работы, посвященные Н; В. Гоголю и А. С. Пушкину5. Обособление набоковской «гоголианы» в рамках англоязычной книги «Николай Гоголь» и стремление вписать ранние пушкинологические этюды в «Комментарий к роману в стихах А.. С. Пушкина «Евгений Онегин»» привели к тому, что Набоков: как] исследователь русской литературы стал известен прежде всего как переводчик и комментатор Гоголя и Пушкина. Несмотря на явное самобичевание по поводу качества переводов и структуры исследовательских текстов6, Набоков самоутверждается как англоязычный писатель-исследователь с русскими корнями. Пожалуй, совсем недавно отечественные набоковеды признали, что позднее творчество писателя - это «англоязычное инобытие»7 русских текстов. Причем, к осознанию последнего привело понимание набоковской стратегии исследователя с полиязыковым опытом литературного селекционера. Никому до Набокова не представлялось возможным преподать русскую классику в лице двух гениев стиля, да еще и таким оригинальным способом - комментариями, к собственным переводам, которые подразумевались одновременно биографией. В одном из писем сестре, Елене Владимировне Сикорской, Набоков писал: «Россия должна будет поклониться мне в ножки; (когда-нибудь) за все, что я сделал по отношению к ее небольшой по объему, но замечательной по качеству
словесности» ... «Качество словесности» определяется, по-Набокову, совокупностью индивидуальностей - писателей с оригинальным стилем9. На наш взгляд, правомерны вопросы:.«Зачем Набоков тратит ровную половину своего писательского времени на «презентацию» «чужого» стиля, понимая, что стиль невозможно передать на другом языке? По отношению к кому Набоков «сделал больше» — к Гоголю, Пушкину или Набокову?» Многие вопросы останутся риторическими до тех пор, пока набоковские тексты не будут исследованы в комплексе, как единый текст.
Однако, набоковеды все больше уделяют внимания критической прозе Набокова, обращаясь к ней в поисках помощи в интерпретации романов. Эта
тенденция усилилась с выходом в свет русскоязычного текста10 Комментария к «Евгению Онегину»11. Методология анализа набоковской прозы с привлечением Комментария была апробирована (но не отрефлектирована) впервые Карлом Проффером (1938-1984) - известным американским литературоведом-славистом, основателем легендарного «Ардиса», в книге «Ключи к «Лолите»12. «Не впадая в излишний академизм»13, автор использовал текст набоковского Комментария как помощника «в ловле аллюзий»14. Суммируя опыт современного набоковедения, Н. Г. Мельников справедливо замечает: «Навязывание набоковским произведениям произвольных и необязательных ассоциаций - главный «методологический» принцип текстового анализа, используемый, вслед за Аппелем, большинством западных, а затем и российских «набокоедов»»15. Таким образом, одна из актуальных проблем набоковедения - проблема подтекстов набоковской прозы - в основном решается при помощи «потребительского» обращения к текстам «non-fiction», тогда как сами тексты подобного рода практически не исследованы16.
Пожалуй, первый шаг в направлении к анализу критической прозы наравне с художественной сделал профессор Йельского университета (Коннектикут, США) Владимир Евгеньевич Александров в книге «Набоков и потусторонность»'7.
Во Введении: «Метафизика, этика и эстетика Владимира Набокова» автор пишет: «Есть по крайней мере один незаменимый способ, уберегающий от полного произвола в интерпретации набоковских произведений. Их надо поставить в определенный контекст, точнее говоря, обращаясь к отдельным романам или рассказам, следует рассматривать их в сопоставлении с критическими работами, а также на фоне всего художественного наследия писателя» (Александров, 16). В монографии вводится понятие «дискурсивных» сочинений, имеются в виду все опубликованные работы, в которых «обнажается действительная жизнь Владимира Набокова как исторической личности»: автобиографии,
б интервью, статьи, письма и лекции. Однако, в контексте интересующей нас темы, важна оговорка автора о том, что необходимо избегать «наивного автобиографизма». Уникальность набоковского мира Александров видит в том, что «дискурс» и художественное творчество объединяют специфические связи, которые выражаются «в неких ключевых словах и понятиях»18, по смыслу не имеющих «ничего общего... со словарными определениями». Именно поэтому «его нехудожественные произведения являют собою высшую лингвистическую инстанцию, к которой следует обращаться для верного понимания его беллетристики. А некоторые из его романов, где те же предметы затрагиваются в достаточно обнаженной форме, могут служить в этом смысле дополнительным иллюстративным материалом к ключевым понятиям» (Александров, 16-17). Тем не менее, исследователь оставляет в стороне, как бы «на обочине» набоковского дискурса, текст научной «non-fiction» - Комментарий. Опираясь на высказывания Набокова о природе языка, в которых он «неизменно подчеркивал ценность «точного слова» («1е mot juste»)», Александров объединяет все набоковские выступления (как интервью, так и статьи) на онегинскую тему в «знаменитые диатрибы в пользу буквального перевода» (Александров, 18). Таким образом, анонсирующие Комментарий интервью, а также статьи («Ответ моим критикам», «Бренча на клавикордах»), подразумеваются исследователем как единый дискурсивный текст. Однако, «специфические связи» между дискурсивным «онегинским текстом» и текстом научной «онегианы» (т. е. Комментария) не рассматриваются в книге Александрова, поскольку не совсем уместны в исследовании - по большей мере на романном материале -метафизики, этики и эстетики писателя.
Наиболее актуальным положением александровской монографии для нас является то, что набоковская концепция языка индивидуальна («код произведений Набокова зашифрован в уникальности их словесного строя») и диктует прочтение его книг как единого текста. Александров перечисляет такие парадигмы макротекста Набокова как повествовательная стратегия,
аллитерации, литературные аллюзии, использование сквозных образов, мотивов, а также ряд иных особенностей, объемлемых понятием стиль. Все это представляется нам подспудной иллюстрацией набоковских приемов организации собственного макротекста. Например, подчеркивается такая особенность набоковского стиля прочтения других писателей как стремление найти «целостность», где любой элемент художественного мира направлен на достижение определенного эффекта. Несомненно, Набоков исследователь как в своеобразном зеркале старался различить в художественном мире классиков контуры такого же целостного, единого текста произведений, каким старался организовать свой макротекст. Соединяя две составляющие части набоковского наследия - русскоязычную и англоязычную - Александров прослеживает эволюцию писательской «стратегии камуфляжа», которая усложняется со временем и состоит в «увеличении дистанции между видимостью и сущностью». Александров один из первых заявил о том, что Набоков в собственных интервью «совершенно сознательно выстраивал определенный образ самого себя в глазах публики», поднимая его на уровень текста. Н. Г. Мельников развивает александровскую мысль: «... Стилизованная литературная личность Владимира Набокова, возникающая на страницах предисловий, эссе и интервью, - не менее интересное и художественно совершенное творение, чем его прославленные романы и рассказы»19.
В связи с этими наблюдениями общим местом набоковианы стало недоверие к слову Набокова, повторяющемуся в разных контекстах, и, в зависимости от этого, приобретающего иной смысловой оттенок. Перепроверка достоверности некоторых набоковских безапелляционных заявлении в текстах разной жанровой направленности становится, на наш взгляд, необходимостью исследования макротекста Набокова. Эволюция набоковской «стратегии камуфляжа» прослеживается только в межтекстовом пространстве, которое состоит из «специфических связей» между романной прозой и текстами «non-fiction», или внутри каждой плоскости. В первом
случае межтекстовые отношения строятся по вертикали, соединяя параллельные плоскости художественной и нехудожественной прозы, во втором - по горизонтали, внутри каждой составляющей.
«Стратегия камуфляжа» очевидна при «разноголосии» автора в едином вопросе. Например, набоковское отношение к рукописному материалу писателя по-разному проявляется в текстах автобиографии, интервью и Комментария.
Как создатель автобиографического корпуса Набоков занял позицию «идеального биографа»: «...если бы я очень хотел, подобно, может быть, гипотетическим читателям, узнать о жизни и личности автора, я тоже предпочел бы аморфную массу записей, набросков писем, счетов и рецептов манерным меандрам (mannered meanders) Мнемозины...» . Собственный рукописный материал Набоков сознательно упорядочивает в определенную структуру, приближенную к структуре текста. Это подтверждают дневниковые записи писателя, свидетельствующие о том, что Набоков в таком виде планировал оставить продолжение автобиографии «Другие берега» / «Speak, memory». Вторую часть автобиографического корпуса -«Дополнительные доказательства» («More tvidence») или «Говори дальше, Америка» («Speak on, Amerika»), судя по свидетельствам М. Э. Маликовой, составляет готовый материал для будущего исследователя его макротекста. Причем макротекст, понимаемый как библиография, отождествляется Набоковым с биографией . Описывая эволюцию автобиографического текста Набокова, Маликова пишет: «...Хранящиеся в архиве карточки, датированные первой половиной 1960-х годов, с заметками для этого продолжения свидетельствуют об отсутствии художественной «структуры», замененной хронологически последовательной и документально точной аккумуляцией биографических фактов (в черновых заметках Набоков указывает, что они должны быть восстановлены по его переписке), точных американских адресов, маршрутов путешествий, технических характеристик автомобилей, номенклатурных названий бабочек и растений (их Набоков
предполагал указать по своим дневниковым записям), заметок к лекциям и выписок из студенческих работ, переводов (в заметках есть переводы строф Лермонтова, Пушкина, Блока, Северянина, Случевского), а также большого массива снов «по Данну». Впрочем, возможно, эта бесформенность - не только след собирания материала, но и элемент художественного замысла».
Во «Вступлении переводчика» Набоков излагает свое отношение к рукописям в ином ключе. «Черновые наброски, ложные следы, не до конца пройденные тропинки, тупики вдохновения не имеют большого значения для понимания сути романа. Художник должен безжалостно уничтожить все свои рукописи после опубликования произведения, чтобы они не дали ложного повода ученым посредственностям считать, что исследуя отвергнутые варианты, можно разгадать тайны гения. В искусстве цель и план - ничто: результат - все»24. Аналогичная мысль выражена более экспрессивным образом в «Интервью перед премьерой кинофильма «Лолита» (VI. 1962 г.). В ответ на вопрос «Не согласились бы вы показать нам образец своих рукописей?» Набоков безапелляционно утверждает: «Боюсь, я вынужден отказаться. Только амбициозные ничтожества и прекраснодушные посредственности выставляют на обозрение свои черновики. Это все равно что передавать по кругу образцы своей мокроты».25
Неоднозначность позиции Набокова обнаруживается при обращении к структуре исследовательского текста, где мы наблюдаем несоответствие внешнего отстранения от пушкинских черновиков при комментировании романа истинному подходу к ним как к составляющей макротекста. Последовательное обращение Набокова к рукописям поэта, будь то варианты строк Е.О. или черновики писем, критических опровержений, так никогда и неопубликованных Пушкиным, обусловлено логикой исследователя его макротекста как формы биографии.
Таким образом, Набоков закамуфлировал категоричностью заявлений стилизованной литературной личности, предъявляемой публике, что
организует свой макротекст аналогично тому, как организовал пушкинский в «онегинском тексте».
Противоречие, заложенное автором в Комментарии26 и предваряющих его статьях раздела «Вступления переводчика», спровоцировало полемику вокруг издания набоковского Труда на русском языке.
В России, имеющей две филологические школы - Московскую и Санкт-Петербургскую, было издано два варианта Комментария. Пожалуй, принципиальная разница в подходах к изданию состоит в том, что одно выполнено по образцу В. В. Набокова, а другое по подобию авторитетного в русской пушкинистике «Комментария...» Ю. М. Лотмана. «Набоковский фонд» в Санкт-Петербурге остался верен набоковскому буквализму. Над москвичами же довлел лотмановский общественнозначимый «Комментарий...», несмотря на то, что Ю. М. Лотман, в свое время, использовал четырехтомник В. В. Набокова как справочное пособие. Таким образом, московские издатели продемонстрировали непонимание специфики текста и, поверив Набокову, к сожалению, вовсе проигнорировали комментарий к вариантам «Евгения Онегина», которые составляют треть набоковского текста. Москвичи сократили в том числе и занимавшие не так уж много места, но очевидно изъятию никоим образом не подлежавшие «Предисловие» и «Вступление переводчика».
Набоковеды - участники Международной научной конференции, посвященной юбилеям Пушкина и Набокова (15-18 апреля, 1999 г., Санкт-Петербург), ссылались в своих работах28 на петербургское издание, как на единственно возможное , тем самым узаконив цитирование из Комментария в переводе под общей научной редакцией В. Старка.
Однако полемика между двумя школами разгорелась не только по вопросу сохранения / несохранения вариантов. Разное отнесение комментариев - либо к пушкинскому тексту, либо к набоковскому переводу «Евгения Онегина» на английский - определило разные подходы к переводу всего опуса Комментария.
«Едва ли не самый существенный недостаток петербургского издания,-писала Р. Иезуитова, - был усмотрен московской критикой в том, что вместо известных поэтических переводов тех или иных цитируемых Набоковым произведений английских, французских и других поэтов были сделаны заново подстрочники. Однако именно то, что ставится в вину, является с научной позиции, необходимостью. Набоков приводил тексты для сопоставления с Пушкиным в оригинале, чего никак нельзя достигнуть пользуясь хотя и прекрасными по-своему, но вольными переводами В. Жуковского, Т. Гнедича, Б. Пастернака, Т. Щепкиной-Куперник и т.д.» Далее эксперт-пушкинист приводит характерные примеры того, к чему ведет использование известных поэтических переводов: «Комментарий к 1 гл., LIV, 4 - «журчанье тихого ручья, где Набоков для сравнения приводит во французском оригинале три строки из стихотворения Андре Шенье «Уединение». В петербургском издании дан буквальный перевод прозой, позволяющий сопоставить с пушкинской строкой слова Шенье - «и шума тихого ручья». Московское издание дает стихотворный перевод Е. Гречаной, где вместо «тихого ручья» мы видим «воду ключевую»30. Другой немаловажный пример - «с комментарием слова «идеал» 6 гл, XXIII, 8- «На модном слове идеал/ Тихонько Ленский задремал...» Для сравнения Набоков цитирует Шиллера, где фигурирует «Ideale». Питерский подстрочник: «Идеалы исчезли ... ». Московское издание использует перевод В;А. Жуковского, но в нем нет слова «идеал» : «Едва надежды лишь сияло / Светило над моей тропой». Строка Жуковского делает цитату из Шиллера нерабочей, а сравнение Набокова искаженным, и как следствие, неправомерным31.
«Главная проблема перевода комментариев Набокова, - отмечает А. Махов, - состоит в правильной передаче русских реалий. Перевода как такового недостаточно, поскольку переводчик тут на каждом шагу рискует уподобиться тому анекдотическому немцу, который перевел «Полтаву» обратно с немецкого на русский и вышло «почти точно»: «Был Кочубей
богат и славен» и т.д. Питерское издание, к сожалению, дает немало примеров такого «почти точного» перевода. Название стихотворения Д. Давыдова «Решительный вечер гусара» переведено с английского почти точно, но не совсем : «Решающий вечер» (с. 437); тоже с названием статьи Вяземского «Разговор между Издателем и Классиком», превратившийся в «Разговор Издателя с Классиком» (с. 213); <...>»32
Таким образом, возвращение Пушкина в мир его реалий, в его собственный мир - своеобразная метаморфоза, которая осознанно представлена москвичами. Однако, распространяя такой подход на перевод стихотворных цитат Набокова из иноязычных поэтов, издатели изменяют набоковским принципам. Комментарий словно тень сопровождает как русского (оригинального) «Онегина», так и онегинский подстрочник, закрученный винтом английского ямба В. Набокова. Возвращаясь на родину вместе с набоковским Комментарием, пушкинский «Онегин» приобрел маститость мирового шедевра, испытав на себе метаморфозу лингвистического характера в доказательство того, что «Онегин» на английском — языке Байрона, отнюдь не «байроновский подголосок». Комментарий Набокова сделан так, что «Евгений Онегин» может вернуться в себя-русского - совершенно безболезненно. Поэтому, равно правомерны два прочтения Комментария, переведенного на русский язык - как к роману в стихах Пушкина, так и к набоковскому подстрочнику. Но только -прочтения, а не исследования.
Сокращение русскими издателями того, что имеет непосредственное отношение собственно к набоковскому переводу, - пассажи о возможностях и невозможностях английского языка, сравнение с другими переводами и т.д. подтверждает факт неисследованности структуры текста Комментария, или, по-крайней мере, неведения русскими издателями функциональности структурных составляющих «онегинского текста» в макротексте Набокова. Поэтому, на наш взгляд, столь актуальна тема исследования структуры Комментария в контексте не только с романами Набокова, но и с
соседствующими «дискурсивными» текстами с целью выявления «специфических связей» между научной и публичной «non-fiction».
Несомненно, изданный комментарий к переводу без этого самого перевода теряет маломальский смысл. Между тем, именно набоковский перевод романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» методом подстрочной прозы шокировал литературное сообщество Америки середины 1960-х годов.
Некоторые ученые обвиняли Набокова в «преднамеренном и открытом искажении английского языка для своих нужд» (Стайнер), в том, что «он сбивает с толка, упорствуя в сохранении метрической системы, а иногда лишь ее видимости» (Гершенкрон). «Перевод является компромиссом двух языков. Он откровенно неудовлетворительный и единственно возможный, учитывая обстоятельства и неумолимые принципы Набокова. Единственное его достоинство - верность тексту <...>» (Кларенс Браун). Однако, многими признавался тот факт, что Владимир Набоков переводил не для чтения, а для
9 изучения - искушенному читателю33.
В рецензиях, независимо от времени их появления, отчетливо прослеживается тенденция неразрывного сопоставления набоковского перевода с четырехтомным изданием34 Комментария. Подчеркивая специфичность четырехтомника Набокова, Кларенс Браун отмечал, что «в контексте всего издания перевод романа не так важен. Он занимает примерно две трети самого тонкого из четырех томов, он занял бы еще меньше, если бы не пронумерованные пустоты, которые отданы у Набокова
всем несуществующим строфам. <...> Предметом обвинений оказалось нечто вроде ловушки, а именно тот перевод, значение которого второстепенное и подчиненное. <...>»35.
Ю. Д. Левин утверждает, что перевод как таковой не являлся для Набокова самоцелью, но «служил как бы введением к обширному комментарию, посвященному пушкинскому роману <...>. А поскольку он комментировал русский текст, то и поставил своей целью возможно более
точную его кальку, а не творческое воссоздание».36 Такая точка зрения основана на первых впечатлениях от подстрочника. Однако, на наш взгляд, она ошибочна вследствие того, что не подтверждается в процессе анализа англоязычной строки пушкинского романа, переведенной набоковским методом.
В интервью периода работы над «Онегиным» Набоков, анонсируя выход четырехтомного издания Комментария, объясняет, каким образом он переводит пушкинский роман в стихах. Публично встав в оппозицию к приверженцам стихотворных переводов «Евгения Онегина», Набоков неустанно повторяет, что вольные переводы неизбежно принижают величайшее произведение Пушкина до байроновского подголоска. Однако, вся подготовительная работа Набокова с «аудиторией» в анонсирующих интервью была, сведена на нет разгромной рецензией на переложение пушкинского романа Уолтера Арндта. Набоков спровоцировал «страстную и злую дискуссию относительно своего «дотошного подстрочника»»37, опубликовав в «Нью-Йорк ревью оф букс» за полгода до выхода собственного «онегинского текста» статью «Бренча на клавикордах» . Масла в огонь добавила рецензия Эдмунда Уилсона «Странная история с Пушкиным и Набоковым»39. На страницах ведущих англоязычных изданий (Нью-Йорк ревью оф букс», «Энкаунтер», «Нью стейтсмен») вспыхнула самая настоящая* литературная война, в ходе которой бывшие друзья обменивались «увесистыми обвинениями в полной некомпетентности и булавочными уколами мелочных придирок и поправок»40. Несмотря на то, что еще летом 1942 года Набоков предлагал У илсону перевести «Дар» на английский, а почти 17 лет спустя сотрудничество в работе над «академическим переводом «Евгения Онегина» прозой, с обильными комментариями»41, Набоков, разгоряченный статьей Уилсона заявил, что тот «примитивно владеет русским языком», а «его знание русской литературы -неполное и гротескное»42. 26 августа 1965 года «Нью-Йорк ревью оф букс» публикует письмо Набокова, где он разбирает несколько конкретных
положений критики Уилсона. Через полгода, в февральском номере журнала «Энкаунтер» (1966), Набоков впервые напечатал статью «Ответ моим критикам»43 под заглавием «Nabokov's Reply» - «Ответ Набокова», которая затем перекочевала в «Собрание Набокова»44 и, наконец, в слегка видоизмененной форме в «Твердые суждения»45. Н. Г. Мельников предполагает, что Набоков поменял заглавие статьи, приближая ее к пушкинским заметкам, объединенных под редакторским названием «Опровержения на критики». В дальнейшем Набоков еще неоднократно выступал в печати по поводу «l'affaire Onegin», защищая перевод и комментарий от нападок оппонентов46. Однако более всего, как отмечает Брайан Бойд , «Набоков досадовал на то, что многие критики, не владея русским языком и не улавливая суть перевода, присоединялись к Уилсону и шипели на ужасающий перевод, приукрасить который Владимир Набоков никогда не стремился»47. Например, американский поэт Роберт Лоуэлл (1917-1977) помимо неудачных переводов манделынтамовских стихотворений
вызвал гнев «В.Н.» тем, что «неосмотрительно ввязался в «битву титанов»» , встав на сторону Уилсона, русского языка при этом в достаточной мере не зная.
Все публичные набоковские выступления на «онегинскую» тему, будь то интервью или полемические статьи, подразумевались еще В. Е. Александровым как связанные между собой задачей объяснить и защитить свой метод перевода на английский язык «Евгения Онегина». Однако, мы намерены исследовать эти «дискурсивные» тексты во взаимосвязи со структурой Комментария, а также с ранними пушкинологическими этюдами Набокова (неопубликованный ранний доклад о Пушкине и парижская речь, опубликованная как франкоязычное эссе «Пушкин, или Правда и правдоподобие», 1937 г.). Такой подход продуктивен в исследовании эволюции набоковских принципов как перевода пушкинских текстов, так и критического метода. Изучая «онегинский текст» Набокова на фоне всего макротекста писателя, принимая в расчет известные разработки темы
16 пушкинских подтекстов в набоковской прозе49, мы оставляем на заднем плане специфику связей «онегинского текста» с романами- и рассказами Набокова. На наш взгляд, это одна из перспективных тем набоковедения. Однако, мы ограничились исследованием подтекстов научной «онегинской» «non-fiction» в «дискурсивных» выступлениях Набокова на «онегинскую» тему, учитывая структурные особенности текстов.
Функции «гоголевского текста» Набокова в макротексте писателя, на наш взгляд, отличаются от «онегинского текста» как раз тем, что он в большей степени нацелен на комментарий подтекста в романах писателя. Для того, чтобы понять логику набоковского цитирования; и внутреннюю закономерность обращения прозаика к произведениям Гоголя, необходимо изучать эссе «Николай Гоголь» (1944 г.) как единый с прозой Набокова текст. В процессе анализа набоковской поэтики на различных уровнях, в том числе и на тех, которые- редко привлекаются при анализе реминисценций в прозаических текстах ( например, фонетическом), нами выявляется место эссе в набоковском творчестве и: его значение для адекватного восприятия прозы В. Набокова в целом. Эссе «Николай Гоголь» определяется как текст-медиатор, играющий роль посредника между творчеством Гоголя и прозой Набокова. Более того, мы пытаемся доказать, что гоголевский подтекст в прозе Набокова в равной степени ориентирован как на реального Гоголя, так и на тот образ, который был создан писателем в эссе.
Изучение особенностей критического метода Набокова в книге «Николай Гоголь», которая; оказала значительное влияние на целые поколения англоязычных славистов, специализирующихся на интерпретации творчества Гоголя, позволяет ответить на вопрос: «Насколько самостоятелен был сам Набоков в своей трактовке образа Гоголя?». Существует мнение, что эссе Набокова в значительной мере теряет свой блеск, если прочитать его на фоне русской «гоголианы» Серебряного века. Авторы серьезного обзора современного положения дел в зарубежном изучении гоголевского творчества пишут: «Религиозно-метафизический взгляд на Гоголя <...> имеет
своих «отцов-основателей» в лице русских мистико-философских эссеистов. Одна их ветвь занималась феноменологией зла и «чертовщины» у Гоголя, втянутого, согласно этому взгляду, в роковой демонический круг. Это, конечно, отчасти Розанов и главным образом Мережковский, автор книги «Гоголь и черт», но преломленные в западном литературном сознании через обширный очерк о Гоголе В. Набокова, где, в духе присущего автору «Приглашения на казнь» гностического отвращения к материи, зло у Гоголя отождествляется с массивной земной реальностью, а избавление от него - с прорывом в иной, «звездный» план бытия»50. В этом несколько вольно, на наш взгляд, толкующем основную мысль набоковского эссе отрывке для нас важно в данном случае указание на Розанова и Мережковского как на предшественников Набокова в интерпретации гоголевского творчества. Еще определеннее высказывается по этому поводу Г. Струве, обвиняющий Набокова едва ли не в плагиате. О набоковской книге «Николай Гоголь» он писал: «При всем ее блеске и при всех отдельных художнических прозрениях, в ней два коренных недостатка. Во-первых, она открывает слишком много Америк и при этом без всякой ссылки на предыдущих «Колумбов»: нужно было умудриться написать то, что Набоков написал о Гоголе, не назвав ни разу ни Розанова, ни Мережковского, ни Брюсова, ни Чижевского и упомянув - из предшественников - только Андрея Белого и Святополк-Мирского. Во-вторых, вся духовно-религиозная область Гоголя, его внутренняя драма, как-никак имеющая отношение к творчеству, для Набокова запечатанная книга»51. На это можно было бы возразить, что книга Набокова писалась в расчете на иностранную аудиторию, и перегруженность ее ссылками на русских авторов, этой аудитории едва ли известных, была бы вряд ли оправдана практически. Однако, с другой стороны, можно предположить, что у Набокова были и какие-то более принципиальные причины, по которым он не стал упоминать в тексте эссе тех, кого Г. Струве и современные исследователи называют в качестве его предшественников.
Вслед за Розановым Набоков определяет гоголевский мир как мир искусственный, а населяющих его персонажей как фантомы. В этом смысле действительно можно говорить о решающем влиянии, которое Розанов оказал на набоковскую трактовку Гоголя, как, впрочем, и на всю русскую гоголиану XX в. Однако Набоков меняет аксиологические коннотации образа Гоголя: розановские минусы превращаются в интерпретации Набокова в плюсы. То, что в иерархии Розанова ощущается как сакральное, на языке Набокова обозначается как пошлость, поэтому уход Гоголя от изображения быта, действительности, как она есть, Розановым осмысляется как основной недостаток Гоголя, а Набоковым - как его решающее достоинство. Таким образом, заимствуя розановскую схему, Набоков коренным образом переосмысляет ее, а в эссе даже не упоминает своего литературного антагониста.
Влияние Мережковского на Набокова в трактовке образа Гоголя, на наш взгляд, минимально. Действительно, и Мережковский и Набоков упоминают в связи с Гоголем черта. Однако трудно не заметить, что реальный, хотя и несколько умозрительный черт Мережковского превращается у Набокова в забавный языковой фантом, один из тех, которые с такой тщательностью и любовью Набоков находит во множестве у Гоголя. Неслучайно почти вся нечисть из набоковского эссе (ее там, кстати, не так уж и много) оттенена в область метафор или сравнения,- то есть языковой игры, которая подчеркивает их настоящую (то есть мнимую) природу. Тем более Г. Струве и сам говорил об игнорировании Набоковым религиозно-философской проблематики, а раз так, то о каком влиянии на него Мережковского можно всерьез говорить? Впрочем, рискнем предположить, что если бы даже Мережковский и оказал на Набокова значительное влияние, последний вряд ли упомянул бы об этом в своем эссе. Слишком различны были позиции Набокова и Мережковского в эмигрантский период их жизни, и эти противоречия лишь обострились во время войны. (Книга Набокова о Гоголе впервые была опубликована в 1944 г.)
Можно отметить еще ряд влияний на позицию Набокова, например, влияние И. Анненского, которого Г. Струве почему-то не упомянул. Так, точка зрения Набокова, согласно которой Гоголю «нос как таковой с самого начала казался... чем-то комическим» (Николай Гоголь, 34), явно восходит к диптиху И. Анненского «Проблема гоголевского юмора». Значительным, однако, нам представляется лишь одно влияние - русских формалистов, а именно Ю. Тынянова, писавшего: «Основной прием Гоголя в живописании людей— прием маски»53 (ср..хотя бы заглавие одного из подразделов эссе Набокова «Апофеоз личины») и рассматривавшего гоголевских персонажей как производные от «словесных знаков»54. Неудивительно поэтому, что многим исследователям Гоголя удается совместить методологию формалистов с набоковским подходом.
Итак, мы видим, что созданный Набоковым образ Гоголя вполне самостоятелен. Пользуясь открытиями предшественников, Набоков создает «своего» Гоголя. Именно этот образ Гоголя определит характер и структуру того, что мы называем гоголевским подтекстом набоковской прозы, а также пародийный характер набоковской рецепции гоголианы Серебряного Века.
Исходя из всего вышесказанного, мы сделали предметом нашего диссертационного исследования «онегинский» и «гоголевский» тексты в макротексте Набокова. Место и значение двух великих русских классиков в архитектонике набоковского художественного мира и стратегиях авторской самопрезентации осмысляется нами через комплексное изучение сочинений Набокова-прозаика, критика, комментатора и текстолога.
Материал исследования составляют как художественная, так и нехудожественная проза Набокова: его эссе и статьи («Пушкин, или правда и правдоподобие», «Николай Гоголь», «Ответ моим критикам», «Бренча на клавикордах», «Вдохновение» и др.), исследовательские работы, в первую очередь - комментарий к пушкинскому роману в стихах «Евгений Онегин», лекции по русской и зарубежной литературе, многочисленные интервью американского (1940-1959) и швейцарского (1961-1977) периодов, частично
вошедшие в сборник «Strong Opinions» («Твердые суждения»). Из художественных произведений Набокова особое внимание уделяется роману «Приглашение на казнь», рассматриваемому в аспекте его связи с гоголевской традицией, в первую очередь - с поэмой «Мертвые души».
Целью нашей работы является выявление специфики внутреннего единства набоковского макротекста и анализ некоторых его структурных особенностей.
Поставленная цель определила следующие задачи:
исследовать структуру и генезис «онегинского» и «гоголевского» текстов Набокова и описать особенности их организации;
показать, как Набоков выстраивает свой макротекст по образцу пушкинского;
продемонстрировать, как опора на пушкинские традиции позволяет Набокову выработать собственные переводческую стратегию и методы «борьбы» с критиками;
проанализировать принципы формирования Набоковым гоголевских подтекстов в романе «Приглашение на казнь».
Актуальность и научная новизна диссертации обусловлены тем, что в ней исследуются взаимосвязи между критическими работами Набокова, его художественной прозой и литературным поведением, рассматриваются структурные особенности набоковской критики, ее функциональная значимость как автокомментария к художественным произведениям писателя. Кроме того, в центре внимания оказываются методы и приемы, . используемые Набоковым-переводчиком, текстологом и комментатором, анализируется оригинальное сочетание в комментарии к «Евгению Онегину» научного подхода и художественной фантазии.
Методологической и теоретической базой исследования стали труды М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, С. С. Аверинцева, А. Н. Веселовского, Ю. Н. Тынянова, а также исследования таких авторитетных отечественных и
зарубежных набоковедов, как В. Александров, Б. Бойд, К. Браун, С. Давыдов, А. Долинин, М. Маликова, Н. Мельников и др.
Диссертация состоит из двух глав, введения, заключения, примечаний и списка использованной литературы. Глава I называется ««Онегинский текст» Набокова и его функции в макротексте писателя». Глава II -«Структура «гоголевского текста» Набокова» - делится на три параграфа. В конце каждого параграфа расположены приложения иллюстративного, вспомогательного характера. В тексте параграфа к приложениям отсылает верхний индекс: римская цифра со знаком * (например, *' ). Условные обозначения: «Евгений Онегин» - Е.О., В. Набоков - В.Н., применены нами вслед за Набоковым (см. Комментарий), остальные - оговариваются в примечаниях.
22 I ГЛАВА
«ОНЕГИНСКИЙ ТЕКСТ» НАБОКОВА И ЕГО ФУНКЦИИ В МАКРОТЕКСТЕ ПИСАТЕЛЯ
Истоки набоковской «реальности Пушкина»55 обнаруживаются в тексте парижской речи 1937 года «Пушкин, или Правда и правдоподобие» («Pouchkine, ou le vrai et le vraisemblable»56). Эссе сирийского периода относится к числу немногих франкоязычных произведений Набокова. Психологические и художественные причины обращения писателя к французскому языку в раннем пушкинианском тексте очевидны в более позднем высказывании Набокова - автора англоязычного «онегинского текста». В интервью Жану Дювиньо (X. 1959 г.) Набоков подчеркивает: «Моя либеральная в политическом плане и космополитическая семья приучила меня жить в интернациональном климате, где французский и английский языки занимали то же место, что и русский...» Однако далее писатель-полилингвист признается в более определенной литературной эмпатии: «Я очень близок к французской литературе, и я не первый русский писатель, который в этом признается!.. Я особенно люблю Флобера... Мне давно известно, что во Франции имеются «стендалисты» и «флоберисты». Сам я предпочитаю Флобера»57.
В лекции о «Госпоже Бовари» В. Набоков пишет: «Гоголь назвал «Мертвые души» поэмой; роман Флобера тоже поэма в прозе, но лучше построенная, с более плотной и тонкой фактурой. Чтобы сразу окунуться в суть дела, я прежде всего хочу обратить ваше: внимание на то, как Флобер употребляет союз «и» после точки с запятой. (Точку с запятой в английских переводах иногда заменяют просто запятой, но мы вернем правильный знак на место.) Пара «точка с запятой - и» следует за перечислением действий, состояний или предметов; точка с запятой создает паузу, а «и» завершает абзац, вводя ударный образ, живописную деталь — описательную,
поэтическую, меланхолическую или смешную. Это особенность флоберовского стиля»58.
Любопытно, что Набоков употребляет флоберовский синтаксический прием - союз «и», следующий после точки с запятой - именно во французской речи о Пушкине, задолго до лекции. Причем функция этого приема совпадает с той, которую Набоков подмечает у Флобера - оба писателя таким образом выделяют «ударный образ». В эссе «Пушкин, или Правда и правдоподобие» Набоков пишет: «Те из нас, кто действительно знают Пушкина - поклоняются ему с редкой пылкостью и искренностью; и. так радостно сознавать, что плоды его существования и сегодня наполняют душу... Преклоняясь перед блеском его черновиков, мы стремимся по ним распознать каждый этап взлета его вдохновения, которым создавался шедевр. Читать все до одной его записи, поэмы, сказки, элегии, письма, драмы, критические статьи, без конца их перечитывать — в этом одна из радостей нашей жизни»5 .
Итак, парижская речь 1937 г., опубликованная как франкоязычный пушкинологический этюд, содержит стилистические реминисценции французской поэтической прозы. Кроме того, в нем создается стилизованный образ русского поэта с темпераментом француза. Он развивается в дальнейшем в Комментарии к «Евгению Онегину», где франкоязычная «цитатность» оригинального текста («плагиаты» Пушкина) нашла отражение в англо-французском переводе Набокова.
Пушкин не только творит под определяющим воздействием французской поэзии и французского литературного языка своего времени, но и сам оказывается человеком французского темперамента, своего рода французом на русской почве. В Комментарии Набоков, обращая внимание на опущенную поэтом строфу восьмой главы «Евгения Онегина» («Пушкин выбросил длинный рассказ о своей юности в Лицее», Комментарий, 521) и разбирая строки с «восхитительной звенящей аллитерацией» Когда французом называли / Меня задорные друзья..., объясняет прозвище юного
Пушкина, полученное им «не в силу особенно глубоких познаний в языке, но благодаря... подвижности и необузданному темпераменту» (Комментарий, 524). Ключ к разгадке истинного значения прозвища Набоков видит в пояснении, которое было добавлено Пушкиным к своей подписи «Француз» 19 октября 1828 г. в Петербурге во время ежегодной встречи лицейских выпускников: «смесь обезьяны с тигром». Набоков так комментирует эту автохарактеристику поэта: «Я обнаружил, что Вольтер в «Кандиде» (гл. 22) характеризует Францию как... «страну, где обезьяны дразнят тигров», а в письме к мадам Дюдеффан... использует ту же метафору, разделяя всех французов на передразнивающих обезьян и свирепых тигров» (Комментарий, 524-525). Впервые к вольтеровско-пушкинской метафоре Набоков обращается в эссе «Пушкин, или Правда и правдоподобие», замечая: «Обезьяна и тигр таились в этом великом русском» 60. Таким образом, русский поэт представлен как идеальный француз, сочетающий в себе обе стороны национального характера: и обезьяний комизм, и свирепость тигра (по формуле Вольтера).
Все это объясняет, почему первоначально Набоков переводил Пушкина именно на французский язык. Своеобразным экспериментом является-перевод «онегинской» — четырнадцатистрочной — строфы из неоконченной поэмы Пушкина «Езерский». Однако, переведя несколько стихотворений на французский, Набоков в конце концов пришел к выводу о том, что перевод не способен передать музыку пушкинского стиха, «где слова совершенно простые сами по себе становятся как бы немного больше натуральной величины, словно от прикосновения Пушкина они вернули свою первозданную полноту, свою свежесть, .которую потеряли у других поэтов» . Пушкинские слова раскрывают свой смысл во взаимодействии друг с другом. Механика их взаимодействия основана на четком' расположении рифм в онегинской строфе62 , которое невозможно воспроизвести (ни на французском, ни на английском языках) стремясь одновременно к точной передаче смысла. Во-первых, потому что онегинская
строфа — стихотворная структура, пародийная по отношению к анакреонтическому сонету, единственное отклонение от которого «состоит в расположении рифм еесс во втором катрене, но отклонение это решающее. Один шаг назад от еесс к есес вернет онегинскую строфу в четкие рамки анакреонтического сонета»63. Во-вторых, так как английское понятие о рифме: не соответствует русскому (См. «Заметки о просодии»). Поэтому, переводя «Евгения Онегина», Набоков был вынужден отказаться от предоставления самого веского доказательства оригинальности романа - его мелодики, оправдывающей содержание как общераспространенных клише французской поэзии рубежа XVIII-XIX веков, так и конкретных ее образцов. Последнее обстоятельство повлияло на включение французской лексики в перевод пушкинского романа на английский язык. «Для того, чтобы передать на английском языке столь частые в русском подлиннике» слова «томность», «нега», «нежный», «умиление», «жар», «бред», «пламень», «залог», «досуг», «желание», «пустыня», «мятежный», «бурный», «ветреный» и т. д, отмечает Набоков, переводчику необходимо иметь в виду весь ряд французских аналогов - общих мест, условностей, штампов, посреднический: диктат которых неизбежен между идеальным английским переложением: романа. в стихах и оригинальным текстом. Набоков подчеркивает близость англоязычного варианта «Евгения Онегина» к манере английской поэзии ХУШвека - «к духу Поупа, например, и его эпигона Байрона»64. Характерно, что он объясняет это влиянием на английских литераторов той эпохи «французских принципов поэтики, среди коих главные: «хороший вкус», «здравый смысл», принятые эпитеты, примат родового термина, пренебрежение частным и т. д.» (Комментарий, 798). Критически оценивая-европейскую переводческую школу пушкинской эпохи, Набоков пишет: «То были времена, когда переводом назывался элегантный парафраз, когда выражение «поэтический язык» являлось синонимом «хорошего вкуса», а обладатели хорошего вкуса были шокированы «причудливостями Шекспира» (Комментарий, 451). В этом контексте Набоков отмечает
слабость перевода с английского «Элегии, написанной на сельском кладбище» Томаса Грея, сделанного Шатобрианом: «Спустя сорок лет этот великий французский писатель искупил своим великолепным переводом «Paradise Lost» («Потерянный рай», поэма Джона Мильтона) эту уступку требованиям времени» (Комментарий, 489). Обобщая переводческий опыт французов в теоретических рассуждениях, Набоков подмечает «любопытный парадокс» в том, что «переводы на; французский язык современных и древних поэтов... можно считать наисовершеннейшими» именно стой поры, когда «для передачи зарубежной поэзии» французы начали пользоваться «своей удивительно точной и мощной прозой, не сковывая себя по рукам и ногам банальными и предательскими рифмами» (Комментарий; 451).
Итак, уже в эссе Набоков осознавал, что любое стихотворение Пушкина в переводе становится «не больше чем подстрочником»65. Однако, «неминуемый: результат перевода»66 комментировался неожиданным образом: «Занимаясь переводами, я с любопытством обнаруживал, что любое стихотворение, за которое я брался, странно перекликалось со стихами того или иного французского поэта. Но скоро мне стало ясно, что Пушкин тут ни при чем; причиной было не мнимое французское отражение, которое принято находить в его стихах, а то, что я в этот момент поддавался влиянию литературных воспоминаний. Руководствуясь этими услужливыми воспоминаниями, я оставался если не'удовлетворенным, то по крайней мере не очень раздраженным своими переводами»67. Исследуя природу пушкинских «плагиатов» в дальнейшем, Набоков последовательно доказывает их мнимую суть. Иноязычные «цитаты» в переводе Пушкина превосходят ориги^-налы, так как помещены: в текст оригинальной пушкинской структуры. Расценивая роман «Евгений Онегин» как произведение языка , Набоков определяет пушкинский стиль как стиль стилизаций (Комментарий, 261), стиль литературных пародий. В тексте комментария к строфе II, гл. 8, представляющего собой свод нескольких эссе , Набоков отмечает особенность пушкинского стиля перевода:
27 «Интересная ситуация возникает, когда Пушкин, обращаясь к тому или иному автору, строит поэтическую фразу так, чтобы она пародировала манеру упоминаемого поэта. Однако ещё больший интерес представляют те места, в которых пародируемая фраза встречается в русском изложении французского перевода английского автора, так что в результате пушкинская стилизация оказывается троекратно удалённой от первоисточника (что мы вынуждены передать на английском языке)! Как следует поступать переводчику в следующей ситуации?» (Комментарий,528). Таким образом, Набокову был необходим метод перевода, при котором было бы возможно максимально отразить пушкинские стилизации, сохранив при этом оригинальный стиль собственного языка.
Кстати, не сожалея о своей англоязычной метаморфозе, Набоков часто упрекал французский язык (свой французский - «ибо это уже нечто особенное»70) - в неспособности «покориться терзаниям и пыткам» воображения. В телеинтервью Бернару Пиво (программа «Апострофы», V. 1975 г.) Набоков пояснял: «Его синтаксис не дозволяет мне вольностей, которые самым естественным образом возникают на двух других языках» . Ориентацию на французскую литературную традицию и английский поэтический язык в переводе «Евгения Онегина» с «пушкинского языка» на «свой английский» (Комментарий, 28) Набоков несогласным образом обосновывает переиначенной метафорой из «Дара» в интервью Альфреду Аппелю (IX. 1966): «Кровь Пушкина течет в жилах новой русской литературы с той же неизбежностью, с какой в английской - кровь Шекспира»72. Называя «языковую ткань» английского поэта «высшим, что создано во всей мировой поэзии» , Набоков видит силу гения, пытавшегося «освободиться от оков условности»74- «в его метафоре». С этой позиции Набоков определяет как «сияющие гением» поэтического языка сновидческие трагедии Шекспира «Король Лир» и «Гамлет», в этом же контексте он называет «Бувара и Пекюше» Флобера сновидческим романом и «Ревизора» Гоголя сновидческой пьесой.75 Сформировавший в процессе
литературоведческих наблюдений концепцию поэтического языка Набоков солидарен с мыслью французского переводчика Ф. Ноэля, которую он цитирует из книги, имевшейся в библиотеке Пушкииа. («Стихотворения Катулла», 1803): «...вот почему язык поэзии столь капризен. Общее место и причудливость — эти два камня преткновения разделены только уткой и скользкой тропой» (Комментарий, 451). Анализируя французские «плагиаты» в макротексте русского поэта, Набоков приходит к выводу о том, что в основе пушкинского метода передачи точного контекста оригинала в переводе заложен принцип метафоры, который и провоцирует сознание читателя на ассоциации - своего рода «воспоминания». Оригинальность пушкинской метафоры спровоцировала Набокова на исследование природы воображения Пушкина в тесной связи с его «литературной памятью».
Подразумевая необходимым условием перевода самопрезентацию как стилиста, Набоков переводит пушкинский роман в стихах на свой английский поэтической прозой, определяя понятие «поэзия» как «всякое литературное творчество». В интервью Олвину Тоффлеру (III. 1963 г.) Набоков уточняет: «<...>я никогда не видел никакой качественной разницы между поэзией и художественной прозой. И вообще, хорошее стихотворение любой длины я склонен определять как концентрат хорошей прозы, независимо от наличия ритма или рифмы. Магия просодии может, выявляя всю гамму значений, усовершенствовать то, что мы называем прозой, но ив обычной прозе есть особый ритмический рисунок, музыка точной фразировки, пульсация мысли, передаваемая идиомами и интонациями. Как и в современных научных классификациях, в наших сегодняшних концепциях поэзии и прозы много пересечений. Бамбуковый мост между ними - это метафора» .
Таким образом, своего рода «благословение» на экспериментальное прозаическое переложение романа в стихах Набоков получает от самого Пушкина. Фрагмент одной из последних его работ- статьи «О Мильтоне и
Шатобриановом переводе «Потерянного рая» Париж, 1836», Набоков берет эпиграфом к одному из разделов Комментария - «Вступлению переводчика»: «Ныне (пример неслыханный!) первый из французских писателей переводит Мильтона слово в слово и объявляет, что подстрочный перевод был бы верхом его искусства, если б только оный был возможен!» (Комментарий, 33).
Исследуя опыт французской переводческой; школы, одобренной Пушкиным, Набоков находит методологическую поддержку у Теофиля Готье, который в 1836 г. писал: «Чтобы быть хорошим, перевод должен быть в каком-то смысле подстрочным словарем... Переводчик должен быть своего рода слепком со своего автора; он должен воспроизводить его до мельчайшего значка» (Комментарий, 451).
Развивая сопоставление себя с Франсуа Рене де Шатобрианом, Набоков отождествляет своих противников, англо-американских переводчиков Пушкина, с французскими переводчиками пушкинской эпохи, придерживавшимися противоположной Шатобриану переводческой стратегии. Одного из них, П. Ж. Битобе, известного переводчика поэм Гомера, Шатобриан упоминает в негативном контексте в «Заметках...» к своему переводу поэмы Мильтона («Часто, перечитывая свои страницы, я находил, что они темный растянуты, я постарался перевести лучше: когда текст стал изящным и ясным, вместо Мильтона я находил лишь Битобе;.моя ясная проза не была больше ничем иным, как посредственной, ремесленной прозой, какую встречаешь во всех посредственных писаниях классического жанра. Я вернулся к моему первому переводу», Комментарий, 453). Упоминая Битобе в одном ряду с другими французскими переводчиками той эпохи (см.: Комментарий, 800), Набоков? тем самым; распространяет негативную оценку Шатобриана на них всех.
С этим злободневным аспектом, на наш взгляд, связан и пристальный интерес Набокова к составу онегинской библиотеки. Библиографическая тема в Комментарии подчинена воле переводчика и лейтмотивнон мысли
зо Набокова о том, что Пушкин (так же, как и Онегин) читал древних и многих современных нефранкоязычных авторов во французских переводах, которые «сокращали и выхолащивали оригиналы»; основными ее недостатками, по Набокову, были «упрощение» и «делокализация» оригинального текста. В «Заметках переводчика» читаем: «Когда говорят «Шекспир», надо понимать Letourneur, «Байрон» и «Мур» - это Pichot, «Скотт» - Dufauconpret, «Стерн» - Frenais, «Гомер» - Bitaube77, «Феокрит» — Chabanon, «Тассо» - Prince Lebrun, «Апулей» - Compain de Saint-Martin, «Манзони» - Fauriel и т. д. В основном тексте ив вариантах «Евгения Онегина» даны каталоги целых библиотек, кабинетных, дорожных, усадебных, но мы должны беспрестанно помнить, что Пушкин и его Татьяна читали не Ричардсона, а Аббата Прево... и что Пушкин и его Онегин читали не Мэтьюрина...» (Комментарий, 800), а его французского «соавтора».
Фактическое приравнивание французских переводчиков пушкинской эпохи к американским переводчикам - современникам Набокова мы встречаем там, где автор Комментария критикует переводы Байрона на французский язык, исполненные Пишо, Шастопалли и де Саллем в разных соавторских комбинациях. Набоков приводит отрывки из этих переводов, сопровождая их соответствующими фрагментами оригинала и поясняя, как «образ изуродован под влиянием пересказчика, вставшего между двумя поэтами» (Комментарий, 192).
И довольно неожиданно в этом контексте возникает ироническое упоминание (в комментарии к строке еще два-три романа...) мисс Дейч, которая «сообщает нам: «...два или три романа, привозных / в обложках ярких». Здесь французские «упростители» уступают место американским «усложнителям», но суть набоковского выпада от этого не меняется. Естественно, мисс Дейч интересует автора Комментария не сама по себе, а как представитель «команды англичан» (Эльтон, Сполдинг, Дейч, Радин), чьи переводы Набоков неоднократно подвергал едкой критике.
Таким образом, демонстрируя свое родство с Шатобрианом и приравнивая американских переводчиков русской поэзии к его литературным противникам, Набоков делает «команду англичан» оппонентами не только и не столько своими, сколько одобрившего подобный (шатобриановский) метод работы с текстом переводимого произведения Пушкина.
Мы видим, как Набоков основывает свою переводческую манеру на авторитете Шатобриана и через него - самого Пушкина. В других случаях Набоков апеллирует к Пушкину более сложным способом, не открывая источников тех или иных своих приемов.
Так, в «Ответе моим критикам» - статье, посвященной той полемике, которая вспыхнула после публикации набоковского перевода «Евгения Онегина» - Набоков комментирует собственный перевод пушкинской фразы «бедняжку цап-царап» из опущенной строфы первой главы «Евгения Онегина»: «he scrabs the poor thing up»: «Это «цап-царап» - «междометная глагольная форма» - предполагает (как отмечает Пушкин, используя его в другой поэме) - существование искусственного глагола «цап-царапать», шутливого и звукоподражательного - сочетающего «цапать» с «царапать». Я нашел для необычного пушкинского слова необычное «scrab up», сочетающее «grab» и «scratch», и горжусь этим. Это действительно замечательная находка»79. Таким образом переводчик бьет своих критиков ссылкой на единственно авторитетный для себя источник.
В той же статье находим и еще более сложный пример такого рода. Откликаясь на критические замечания* одного из основных своих оппонентов, Эдмунда Уилсона, Набоков пишет: «Уилсон недоумевает, почему пушкинское «достойно старых обезьян» я перевел как «worthy of old sapajous», а не «worthy of old monkeys». Действительно, слово «monkey» (обезьяна) обозначает любой вид этих животных, но дело в том, что ни «monkey», ни «аре» в данном контексте не вполне подходят». Далее автор поясняет, что слово sapajou, первоначально бывшее только специальным термином, обозначавшим два вида обезьян-капуцинов, постепенно
приобрело во французском языке разговорное значение «озорник», «блудник», «сумасброд».
Развивая свою мысль, писатель указывает на упущенный его критиками подтекст комментируемых онегинских строк: здесь «Пушкин вторит моралистическому пассажу в,собственном его письме, написанном по-французски из Кишинева в Москву своему младшему брату осенью 1822 года, то есть за семь месяцев до начала работы над «Евгением Онегиным» и за два года до написания четвертой главы. Вот этот отрывок, хорошо известный читателям Пушкина: «Замечу только, что чем меньше любим мы женщину, тем вернее мы можем; овладеть ею. Однако забава эта достойна старой обезьяны восемнадцатого столетия»80... Я не только не мог устоять перед искушением обратного перевода «обезьян» из четвертой главы англофранцузским «sapajous» из письма, но с нетерпением ждал, чтобы кто-нибудь придрался к этому слову и дал мне повод нанести ответный удар таким чрезвычайно приятным способом - отсылкой к письму Пушкина. F-н Уилсон оказал мне такую услугу — ну так примите, сами напросились»81.
Последняя фраза заставляет обратиться к еще одному фрагменту
набоковского Комментария. При анализе четвертой главы пушкинского
романа в стихах Набоков уделяет особое внимание XXXIX строфе, а именно
ее первым четырем стихам:
Прогулки, чтенье, сон глубокой, Лесная тень, журчанье струй, Порой белянки черноокой Младой и свежий поцелуй...
Ссылаясь, на статью С. Савченко «Элегия Ленского и французская;
элегия» , Набоков показывает, что «два; первых стиха; нашей строфы... представляют собой парафраз, а два следующих - дословный перевод строк Шенье».
Набоков саркастически отзывается о попытках своих предшественников в делеперевода «Евгения Онегина» на английский язык передать эту строфу и объясняет их неудачи; именно незнанием
использованного Пушкиным французского первоисточника. Английский переводчик обязан, переводя пушкинские строки, держать в уме их подтекст, в данном случае - «странную озабоченность Шенье (ив этом и в других его стихах) белизною женской кожи» и восторг от «белокожей девушки с темными глазами и, скорее всего, черными волосами, оттеняющими светящуюся белизну незагорелой кожи» (Комментарий, 378-379). Практическим критерием точности здесь оказывается точное воспроизведение в переводе эротических коннотаций «une blanche» Шенье и, соответственно, «белянки» Пушкина.
При этом Набоков не упускает возможности еще раз возвести свою переводческую манеру непосредственно к Пушкину: «Пушкин дословно (то есть с абсолютной точностью) перевел «une blanche» Шенье как белянка, и английскому переводчику следует перевоплотить здесь обоих, Пушкина и Шенье» (Комментарий, 379).
Интересно и другое. Говоря о французском поэте, Набоков внешне немотивированно приводит фрагмент еще одного стихотворения Шенье:
Судья надменный, мои сочинения подслушав, Объявляет вдруг громогласно о двух десятках мест, Взятых мною у поэта, чье имя он называет, и их обнаружив, Восхищается собой и доволен своей ученостью. Зачем он не придет ко мне? Я б его познакомил
С тысячей моих литературных краж, которых он не знает, может ' статься.
Неосторожный критик, считающий себя весьма искусным, По моей щеке даст пощечину Вергилию. А это (ты можешь видеть, вправе ли я) Монтень, если он тебе вспомнится, сказал до меня. Набоков приводит тут же то место из эссе Монтеня «О книгах», которое
имеет в виду Шенье:
«Я хочу, чтобы они по моему носу дали щелчок Плутарху: и пусть они обожгутся, оскорбляя через меня Сенеку» .
Таким образом Набоков апеллирует последовательно к Пушкину, Шенье и Монтеню, объясняя тот способ «расправы» с оппонентами, к
которому прибегает впоследствии в «Ответе моим критикам». Э. Уилсон оказывается не просто литературным противником Набокова, нет, «через него» он «дает щелчок» Пушкину, по своему невежеству не замечая этого. Именно так, по-видимому, следует понимать фразу Набокова: «В опубликованном 26 апреля 1965 года в «Нью-Йорк ревью» ответе на мое письмо г-н Уилсон признается, что, перепечатывая свою статью, почувствовал, что она «может нанести ущерб» моей персоне, что не входило в его намерения. Его статья, целиком состоящая, как я показал, из придирок и грубых ошибок, способна нанести ущерб только его собственной репутации - и это мое последнее слово, больше я никогда ничего не скажу о сем удручающем случае»84. Не довольствуясь этим, Набоков намекает еще на один источник полемической манеры, опробованной им в дальнейшем. Таким источником вновь оказывается Пушкин, на этот раз черновик его ответа критику Михаилу Дмитриеву85, который в «Атенее» «учинил поэту головомойку» за его «невразумительные выражения»: «Пушкин возражает, что «младой и свежий поцелуй» вместо «поцелуй молодых и свежих уст» -очень простая метафора; но он не призывает на помощь авторитет Шенье (хотя и мог бы)» (Комментарий, 378).
Тактика Набокова-полемиста словно раздваивается. Если комментируя отдельные свои решения, он с видимым удовольствием демонстрирует оппонентам их слабое знакомство с пушкинским творчеством, то, говоря о переводческом методе в целом, Набоков не использует возможность «раскавычить свой источник» (Комментарий, 378). Иронизируя над теми, кто полагает, что «буквальный перевод - исключительно мое изобретение; что о нем никогда прежде не слыхали; и что есть нечто неприличное и даже низменное в подобном методе и подобной затее»86, Набоков, тем не менее, ни разу не упоминает имен Шатобриана и Готье и не ссылается на одобрение подобной манеры самим Пушкиным87. Точно так же в сопровождающих появление набоковского перевода «Евгения Онегина» и комментария к
роману в стихах интервью писатель постоянно называет избранный им метод своим.
Выше сказанное позволяет расширительно толковать набоковскую фразу из статьи «Ответ моим критикам» «Я остаюсь с Пушкиным, в мире Пушкина» . Набоков переводит пушкинский роман, опираясь на ту традицию перевода, которая была одобрена самим поэтом и строит свои отношения с критиками по той модели, которая была предложена Пушкиным и его французскими предшественниками.
Кроме того, автор Комментария организует свой текст согласно структурным особенностям пушкинского романа в стихах. Набоков сообщает об этом как бы случайно, в англоязычном стихотворении, написанном якобы с чисто служебной целью и призванном продемонстрировать читателям, не владеющим русским языком, как на самом деле выглядит онегинская строфа. Во «Вступлени переводчика» Набоков демонстрирует размер и последовательность рифм онегинской строфы в «двух образчиках», сочиненных в ответ на дефицит аналогии в английской поэзии, в которых уподобляет свой Труд «тени» пушкинского «памятника»:
«Elusive Pushkin! <...> This is mu task: a poet's patience I And scholiastic passion blent - / The shadow of your monument.» (C. 37). Отсылкой к пушкинскому стихотворению «Памятник» Набоков намекает на пародийную суть построения «онегинского текста». В статье «Структура «Евгения Онегина»», которая, на наш взгляд, выполняет функцию метаописания структуры Комментария, Набоков особое внимание уделяет термину «отступление», подчеркивая, что Пушкин «употребляет это слово, причем в более или менее пренебрежительном смысле (гл. 5, XL, 14)» (С. 43). «Собственно говоря, отступление» - уточняет комментатор - «это лишь одна из форм авторского участия. Такое участие, выраженное в отступлениях, может быть кратким вторжением, почти не отличимым от обычного риторического перехода («Позвольте мне...заняться»), или же в своем крайнем проявлении оно может быть хорошо продуманной функционально
значимой трактовкой своего «я» в качестве одного из героев романа, стилизованного первого лица... »(С. 43-44).
Одним из ярких примеров набоковского «отступления» от собственно «Евгения Онегина» является комментарий к «одному из изящнейших произведений русской литературы» - «Памятнику» Пушкина (1836 г.). Набоков «привязывает» анализ позднего произведения к комментарию вариантов строк 5-8, строфы XL, 2-ои главы. Зачеркнутый стих 8 чернового варианта XL, прочитываемый как «Exegi monumentum я...», используется Пушкиным как эпиграф к стихотворению, в котором он, по мнению Набокова, - строфу за строфой - пародирует державинское подражание Горацию, написанное ямбическим гекзаметром с перекрестной рифмой (abab). Здесь как нигде более актуален Монтень, со своей виртуозной этикой плагиата, так как пушкинский текст двукратно удален от первоисточника. Дело в том, как отметил Бурцев за три десятилетия до Набокова, что Пушкин точно в такой же стихотворной манере практически дублирует державинские строки, в результате - «первые четыре строфы следовало бы поставить в кавычки». Однако Набоков делает акцент на том, что написаны они с иронической интонацией, сквозь которую просматривается, как изящно Пушкин «под маской высшего фиглярства <...> тайком протаскивает собственную правду». «В последнем пушкинском четверостишии - по-Набокову - звучит печальный голос художника, отрекающегося от предыдущего подражания державинскому хвастовству. А последний стих, хоть и обращенный якобы к критикам, лукаво напоминает, что о своем бессмертии объявляют лишь одни глупцы» (Комментарий, 277). Комментируя стих 15 - «И в мой жестокий век...», Набоков указывает более ранний его вариант «вслед Радищеву», в котором подразумевается радищевская ода «Вольность» (написанная около 1783 г.) и ода «Вольность» самого Пушкина (написанная в 1817 г.)» (Комментарий, 279). «Вольность» не раз фигурирует в Комментарии89. Например, здесь Набоков отсылает нас к комментарию фрагментов «десятой главы», где, «кстати», анализирует
«первое великое произведение» Пушкина (Комментарий, 654-657). Кроме этого, «Вольность» упоминается в связи с элегией «Андрей Шенье» (1825), которая «в действительности не имеет никакого отношения к российским событиям, кроме случайной ассоциации: нападая на робеспьеровский режим террора, она восхваляет (как и ода «Вольность», 1817) Свободу, основанную на Законе» (Комментарий, 390). Таким образом, упомянув ранний рукописный вариант стиха 15 «Памятника» - «И в мой жестокий век восславил я Свободу», отсылая нас к собственному анализу оды «Вольность» внутри своего комментария к отрывкам главы 10, Набоков восстанавливает контекст еще одного пушкинского произведения.— элегии «Андрей Шенье» (в комментарии к которой Набоков отсылает, соответственно, к актуально-общей теме Свободы, к оде «Вольность»). Тематические пересечения внутри Комментария, регулярные отсылки «туда-сюда», свидетельствуют о естественности авторских переходов от одного произведения Пушкина к другому, от одной темы к другой, в зависимости от контекстуального совпадения с темой, предметом, явлением, затронутыми какой-то определенной комментируемой строкой. Это доказывает, что Набоков комментирует «Евгения Онегина», исследуя макротекст поэта. Однако, в данном случае, набоковское «отступление» в «онегинском тексте» под эгидой «Exegi топитепШт» вскрывает для нас пересечения иного рода -внутри макротекста Набокова.
В 1988 году в журнале «Вопросы литературы» (№10. С. 161-188) был впервые опубликован перевод на русский язык набоковского интервью Альфреду Аппелю, данного в сентябре 1966 года90. На вопрос Аппеля о сути набоковского понимания пародии и «о том, почему по словам Федора из «Дара», дух пародии всегда сопровождает подлинную поэзию?» Набоков дает следующий ответ: «Когда поэт Цинциннат Ц., герой самого сказочного и поэтичного из моих романов, не совсем заслуженно называет свою мать пародией, он пользуется этим словом в его обычном значении «гротескной имитации». Когда же Федор в «Даре» говорит о «духе пародии», играющем в
брызгах подлинной «серьезной поэзии», он вкладывает сюда то особое значение беспечной, изысканной, шутливой игры, которое позволяет говорить о пушкинском «Памятнике» как о пародии на державинский»91. Очевидно, что сказанное Набоковым по отношению к пушкинской пародии, по сути дела, актуально и по отношению к его собственным произведениям. В интервью, в котором Набоков говорит о себе, он повторяет суть того, что относит к Пушкину в «онегинском тексте». Образно говоря, пушкинские «одежды» примеривает на себя, или, что тоже верно, наоборот.
Без контекста Комментария фраза «то особое значение беспечной, изысканной, шутливой игры, которое позволяет говорить о пушкинском «Памятнике» как о пародии на державинский» (курсив наш - Б.М.) не воспринимается адекватно (как реально происходило в 1988 году, когда русскоязычному читателю Набокова был недоступен текст Комментария ) и присутствует как одно из «темных мест» в Интервью А. Аппелю (IX. 1966). Что за «особое значение» игры, которое вкладывает Набоков в понятие пародии, иллюстрирует только комментарий к вариантам строк 5-8, строфы XL, главы 2 «Евгения Онегина» на материале, характеризующем суть пушкинской этики плагиата, единственно-оправданной мотивацией которого в набоковской «реальности Пушкина», как и в его макротексте92, является пародия.
В противоположность статье «Ответ моим критикам» (1966), которая подробнейшим образом комментирует перевод и дополняет комментарии к «Евгению Онегину», интервью А. Аппелю (IX. 1966) содержит максимально завуалированный контекст Комментария. По сравнению с другими интервью в интервью Аппелю (IX. 1966) нет анонса Комментария. Однако подтекст Комментария очевиден, как очевидна взаимосвязь между временем интервьюирования и периода жизни Набокова, ознаменованного окончанием Труда и осознанием своего «кабинетного подвига». Интервью Аппелю (IX. 1966) можно рассматривать как анонсирующее по отношению к Комментарию, но анонс дан на глубинном уровне - интервью содержит
элементы анонсируемого материала93. По нашему убеждению, интервью Альфреду Аппелю (IX. 1966) - своего рода костяк не только сборника «Strong Opinions», буквально «растасканного по цитатам критиками и набоковедами»94, но и макротекста Набокова в силу насыщенности «ключевыми» набоковскими аксиомами95.
Итак, «отступление» в форме актуального (по любому из возможных
критериев: общность темы, слова, времени написания, предмета, явления)
вкрапления в контекст комментария к строке пушкинского романа является
одной из форм авторского присутствия в «онегинском тексте» Набокова.
Механизмы включений в Комментарий к пушкинскому роману в стихах
«профессиональных отступлений» автора разнообразны и индивидуальны в
каждом конкретном случае. Индикатором, способствующим их обнаружению
в тексте Комментария, является дублированное присутствие номинативных
единиц (называющих суть своеобразных формул) в авторских дискурсивных
писаниях (интервью, статьи, эссе, предисловия и послесловия к романам).
Выдернутые из контекста, в голом виде помещенные в иной, эти формулы-
фразы представляют собой «темные места»-ловушки для исследователя, так
как присутствуют в «non-fiction», и даже в прозе, в виде безапелляционных
заявлений, аксиом, не объясненных тут же, а лишь пробуждающих
любопытство и побуждающих к исследованию. Вспомним, как, будто бы
реальное^ заявление «это мой метод» в статье «Ответ моим критикам»,
изъятое из контекста «генезисного» (с точки зрения генезиса набоковского
буквализма) эссе внутри Комментария, воспринимается подобно хвастовству,
как проявление недоброкачественного снобизма. Однако, как мы описали
выше, это - своеобразная маска писателя с огромным апломбом96,
автостилизация, мотивированная необходимостью ввести в заблуждение
критиков. Чаще всего ловушка скрывает аллюзивную природу эстетических
постулатов, которая проявляется на фоне пересечений «дискурсов» между
собой и с беллетристикой. Одним из проявлений набоковской помощи
исследователю является вынесение эстетических формул,
сконцентрированных в виде номинативных единиц, в заглавия наиважнейших работ Набокова. Например, «Пушкин, или правда и правдоподобие» (1937), «Вдохновение» (1973), «Искусство литературы и здравый смысл» , «Ответ моим критикам» (1966), «Бренча на клавикордах» (1964) и др.
Как характерные для макротекста Набокова мы рассматриваем взаимосвязи поздней статьи «Вдохновение»98, эссе «Искусство литературы и здравый смысл»99, а также некоторых фрагментов интервью с «онегинским текстом». В комментарии к LVII строфе, первой главы «Евгения Онегина» Набоков пишет:
«По Пушкину, механика поэтического творчества включает четыре ступени:
1. Непосредственное восприятие «милого предмета» или события.
Горячий прилив не выражаемого словами и не поддающегося осмыслению
восторга, сопровождающий возвращение к увиденному в воображении или
во сне.
2. Сохранение образа.
3. Последующее более хладнокровное воссоздание его средствами
искусства; вдохновение, управляемое разумом, - перерождение в слове -
новая гармония.» (Комментарий, 213)
Выделение стадий вдохновения в перечисленных выше «дискурсах» Набокова, на наш взгляд, является аналогичным схеме, которую Набоков выстраивает в «онегинском тексте». Однако, «интерпретируя» LVII строфу первой главы романа, Набоков, в большей степени, ориентируется на текст пушкинского предисловия к отдельному изданию первой главы (1825)101 и рукопись незавершенной статьи Пушкина «О статьях Кюхельбекера в альманахе «Мнемозина» » (1825-1826)» , выдержки из которой он цитирует в комментарии к главе четвертой, строфе XXXII. Именно в эссе о Кюхельбекере (Комментарий к гл. 4, XXXII, 1 Критик строгой102) мы наблюдаем, как Набоков поясняет пушкинские профессионализмы восторг и
вдохновение, делая их «ключевыми понятиями» своего макротекста: «Пушкин <...> обвиняет автора (Кюхельбекера - Б. М.) в том, что тот смешал восторг (моментальный экстаз творческого восприятия) и вдохновение (истинное, спокойное, продолжительное, нужное «в поэзии, как в геометрии»), и несправедливо утверждает, что ода (Пиндар, Державин) исключает и план, и «постоянный труд, без коего нет истинно великого»» (Комментарий,. 366; курсив в тексте Набокова - Б.М.). Все вышесказанное развивает концепцию В. Е. Александрова, который видит уникальность набоковского мира в том, что «дискурс» и художественное творчество объединяют «специфические связи», выражающиеся «в неких ключевых словах и понятиях», по смыслу не имеющих «ничего общего... со словарными определениями». Именно поэтому «его нехудожественные произведения являют собою высшую лингвистическую инстанцию» (Александров, 16), а фактуру их текстов составляют видоизмененные цитаты из разных составляющих макротекста писателя. В данном случае, дискурсивные тексты Набокова развертывают схему «восторг - вдохновение» из «онегинского текста», которая в основе своей содержит «профессиональные неологизмы» Пушкина, зафиксированные Набоковым в рукописи поэта и переведенные им на «свой английский». Как мы видим, метод создания «реальности Пушкина» основан на работе Набокова с черновиками поэта, что служит прекрасным поводом завуалирования аллюзивной базы по отношению к собственному макротексту. Пушкинские опровержения, адресованные критикам, в большинстве своем остались рукописными монологами. Публикуя их на английском языке в «онегинском тексте» и «цитируя»- в макротексте, «не раскавычивая своего источника», Набоков сохраняет стиль пушкинского монолога, общаясь с критиками пушкинским языком.
Так, набоковский «совет начинающему критику» в интервью Альфреду Аппелю (IX. 1966): «Во всем ставить «как» превыше «что», не допуская, чтобы это переходило в «ну и что?»...» является продолжением фразы из
неосуществленного текста Пушкина. В конце комментария к седьмой главе «Евгения Онегина», после отчеркивания (что маркирует авторское отступление как особо важное) Набоков помещает миниатюру с использованием фрагментов пушкинской рукописи (не следует забывать: в переводе на «свой английский»). «28 ноября 1830 г. в Болдине Пушкин написал следующую заметку (...), которую он в качестве предисловия собирался предпослать отдельному изданию двух глав - «осьмой» (ныне «Путешествие Онегина») и «девятой» (ныне восьмой), что так и не было реализовано» (Комментарий, 517; курсив наш - Б.М.) В своем макротексте Набоков материализует то, что задумывалось Пушкиным как одна из сносок к заметке в качестве предисловия к отдельному изданию выше указанных глав: «Пушкин хотел дать здесь вторую сноску: «Стихи эти очень хороши, но в них заключающаяся критика неосновательна. Самый ничтожный предмет может быть избран стихотворцем; критике нет нужды разбирать, что стихотворец описывает, но как описывает.
Поэтическое произведение может быть слабо, неудачно, ошибочно -виновато уж, верно, дарование стихотворца, а не Век, ушедший от него вперед» (Комментарий, 518; курсив наш - Б. М.). Последнюю пушкинскую фразу Набоков преобразовал в аксиому своего макротекста: «Искусство писателя - вот его подлинный паспорт»104.
Формула «правда - правдоподобие» вынесена в заглавие эссе 1937 года «Пушкин, или Правда и правдоподобие». В «онегинском тексте» мы наблюдаем две наиболее вероятные аллюзии на номинативную пару из макротекста Набокова. Во-первых, в комментарии к XLI строфе105 второй главы, «отвергнутой поэтом по неизвестным причинам». Следует заметить, что эту строфу Набоков не обозначает как невключенную поэтом в editio optima, несмотря на категоричное заявление в предваряющем тексте Комментария106: «Я собрал и перевел весь отвергнутый Пушкиным материал, который только смог найти в русских изданиях, но помещаю его строго отдельно от окончательного текста editio optima (1837)» (Комментарий, 67).
В «Заметках переводчика» (Комментарий, 815) Набоков уделяет внимание этой несуществующей в editio optima строфе как одной из самых важных в «Евгении Онегине» с точки зрения иллюстрирования стилистического приема Пушкина, основанного на законах «поэзии чистой математики». О магии пушкинской просодии Набоков говорил еще в 1937 году. Однако, тогда еще не было написано эссе «Николай Гоголь» (1944 г.). В Комментарии к отвергнутой онегинской строфе мы наблюдаем симбиоз двух претекстов («Пушкин, или Правда и правдоподобие» и «Николай Гоголь») с точки зрения обретения Набоковым разноречивого знания о двух гениях стиля. Во-вторых, «правда и правдоподобие» Набокова содержат реминисценцию пушкинских слов из черновика письма Николаю Раевскому-младшему периода работы над романтической драмой «Борис Годунов» в июле 1825 года (мы знаем из статьи «Генезис «Евгения Онегина» », что это период перерыва в работе над 4-ой - с «автобиографической» реминисценцией -главой). В письме Пушкиным осуждается байроноподобный автобиографизм так же, как отвергнут в editio optima, в строфе LVI первой главы и сохранен только в опущенных вариантах строк романа. Текст этого письма ассоциируется в «призматическом сознании» Набокова со стихами: «... разность /между Онегиным и мной; [не]... намарал я свой портрет, /Как Байрон», что определило его включение как основы в Комментарий к ним108.
Фрагмент эпистолярного черновика на французском языке из «онегинского текста»: «La vraisemblance des situations et la verite du dialogue... voila la veritable regie de la tragedie...» (курсив наш - Б.М.) - совершенно отчетливо перекликается с французским эссе 1937 г. «Pouchkine, ou.le vrai et le vraisemblance», а также, как замечает M. Маликова, с заглавием французского авторизованного Набоковым перевода его первого английского романа «Истинная жизнь Себастьяна Найта» - «Le vrai vie ... ». Коннотации пушкинских слов «правдоподобие» (vraisemblance) и «правдивость» I «истинный» (verite, veritable) положены в основу ключевых понятий макротекста пушкинского образца. Более того, «правда-правдоподобие»
Набокова является метафорой пушкинских профессиональных (автобиографических) неологизмов. В одноименном эссе 1937 года обозначены «особенности автобиографических / биографических стратегий Набокова»109, которые в «онегинском тексте» писателя соотнесены с пушкинскими: жизнь, биография и автобиография - «пастиш их творчества»110. Проблема реальности искусства и нереальности жизни решается внутри «автобиографического корпуса»'] 1 произведений Набокова, так называемых «фикциональных автобиографий», с которыми соотносится как автобиография «Другие берега» / «Speak Memory» (сокращенно: ДБ / SM) так и «онегинский текст»112. Причем, в Комментарии исследование пушкинского стилистического опыта превращения романа - биографии Онегина, в автобиографию Пушкина происходит на фоне стилистической метаморфозы набоковского Комментария - биографии Пушкина, в автобиографию Набокова. Наиболее ярким примером подобного рода является фрагмент Комментария, связанный с пушкинским плагиатом строк Шенье. Биографический эпизод о Пушкине как элемент сюжета комментария к XXXIX строфе четвертой главы составляет авторское отступление Набокова, перемешивающееся профессиональными рассуждениями. Убеждение Набокова в том, что в строфе XXXIX, гл. 4 Пушкин «посредством уникального для 1825 г. приема закамуфлировал свой собственный опыт» является примером истолкования пушкинского «плагиата» как стилистического приема сокрытия автобиографизма. В данном случае актуальным (в силу убеждения Набокова о пушкинском приеме стилизации автобиографического мотива под литературный) вкраплением в комментарий к XXXIX строфе четвертой главы является изложение эпизода из жизни Пушкина, который активно комментировался пушкинистами начала XX века, в частности Владиславом Ходасевичем: Имеется в виду любовная история Пушкина с крепостной девицей Ольгой Калашниковой («в конце апреля 1826 г. Пушкин отправил Ольгу, брюхатую, в Москву, попросив Вяземского отослать ее после родов в Болдино, а
ребеночка укрыть в одном из имений». Комментарий, 377). Таким образом, факт из жизни реального Пушкина достаточно очевидно для Набокова накладывается на романную ситуацию и время написания строфы, хотя доказательств того, что «говоря о летнем времяпрепровождении Онегина в деревне, Пушкин имеет в виду себя» (Комментарий, 377) в тексте editio optima нет. Однако, свой вывод Набоков делает, исходя из наблюдений за взаиморазвитием двух образов в романе, где наряду с Онегиным «стилизованный и потому нереальный Пушкин является одним из главных героев». Почему Набоков отождествляет Онегина с Пушкиным, комментируя XXXIX строфу четвертой главы, нам становится ясно из предваряющего Комментарий «Вступления переводчика».
В статье «Структура «Евгения Онегина», описывая «развитие тем первой главы», Набоков дополняет свой Комментаий к главе 1, строфе LVI, 3-4 ... разность /между Онегиным и мной; 10-11 [не] ... намарал я свой портрет, /Как Байрон... (Комментарий, 212):
«Пушкин противопоставляет сплину своего друга собственную, насыщенную творчеством, любовь к деревне, которую он превозносит как лучшую обитель для своей Музы. В LVI разность между стилизованным Пушкиным, блаженно мечтающим в идиллических дубравах, и Онегиным, предающимся в деревне хандре, используется, дабы подчеркнуть, что наш автор не разделяет байроновской прихоти отождествления себя с героем». (Комментарий, 48).
В статье «Структура «Евгения Онегина»» к четвертой главе Набоков продолжает развитие темы: «Следует, между прочим, отметить, что теперь праздная жизнь Онегина в деревне так же приятна, как и та жизнь, которую описал Пушкин в первой главе с единственной целью: продемонстрировать различие между собой и героем». Сопоставляя рассуждение в XXXV строфе 4 гл. о «довольно унылой жизни самого Пушкина в деревне» с «последующим рассказом об онегинском наслаждении деревенской жизнью», Набоков подмечает изменение в композиции романа: ситуация,
«столь однозначно обрисованная в первой главе» прямо противоположна ситуации в четвертой главе - «Онегину фактически присущ теперь стиль жизни Пушкина в Михайловском!» (Комментарий, 54 - 55). Набоков ставит в один ряд изменения в композиции романа с событиями в жизни Пушкина. Он акцентирует внимание на процессе написания Пушкиным 4-ой главы, хотя не указывает, до или во время «перекроя» 4-ой главы строфа XXXIX была написана в таком «шеньеобразном» виде. Нам будет полезна информация, содержащаяся в статье «Генезис «Евгения Онегина» (раздел «Вступление переводчика», Комментарий, 70):
«Личные неприятности и официальная ссылка в родительское имение в Псковской губернии (поэт уехал из Одессы 31 июля и прибыл в Михайловское 9 августа 1824 г.) послужили причинами еще одного перерыва. Пушкин вновь принялся за ЕО (предположительно начиная с гл. 3, XXXII) только 5 сентября 1824 г. в Михайловском (где ему предстояло провести в заточении два года) и 2 октября 1824 г. закончил третью песнь (за исключением строфы XXXIV, дописанной позже).
В какой-то момент в течение этого месяца он принялся за главу четвертую. И к концу 1824 г. двадцать три строфы уже были готовы, а к 5 января 1825 г. Пушкин добрался до строфы XXVII. После чего, мысленно обратившись к своим одесским воспоминаниям, он создал строфы, значительно позже превратившиеся во фрагмент «Путешествия Онегина» (XX-XXIX). Работа прерывалась другими сочинениями (в частности, драмой «Борис Годунов»). К 12 сентября 1825 г. наш поэт придал, как ему тогда казалось, окончательный вид первому варианту четвертой главы, но впоследствии он перекроил ее, выбросив одни и добавив другие строфы, и полностью завершил четвертую главу лишь к первой неделе 1826 г.
Пятая глава была начата 4 января 1826 г.» Отсылка к драме «Борис Годунов» побуждает уточнить время работы над ней. (Вспомним, что байроноподобный автобиографизм осуждается в письме Николаю Раевскому-младшему периода работы над «Борисом Годуновым»).
Такую возможность предоставляет комментарий к строфам XXXIV - XXXV, гл. 4: «В черновиках этих строф (18 января 1825 г.; тетрадь 2370, л. 75 об. и 76) тут и там встречаются записи, касающиеся пророческого сна Григория Отрепьева в первой части «Бориса Годунова», романтической драмы, которую в то время сочинял Пушкин (декабрь 1824 - 7 ноября 1825 г.)» (Комментарий, 370). Таким образом, «перекрой» четвертой главы был начат не ранее «7 ноября 1825 г.».
Описывая «летнее времяпрепровождение Онегина в 1820 г. в его деревенском поместье» (Комментарий, .375) Пушкин имеет в виду свое лето 1825 г. и свой опыт с известными последствиями, о которых, как нетрудно догадаться, он узнал в ноябре - декабре 1825 года. Как это отразилось на 4-ой главе, тонко подмечено Набоковым в следующем Комментарии (к I строфе 5-ой главы): «3, 10, 13 зима (зимний) - повторяется в этой строфе трижды.
Заметим, что в предыдущей, четвертой главе (строфа XL) лето чудесным образом завершается в ноябре, что расходится с постулированной краткостью северного лета (гл. 4, XL, 3), поскольку осенняя погода в тех краях, где было поместье Лариных, устанавливалась не позднее последних чисел августа (по старому стилю, разумеется). Запоздалый приход и осени, и зимы в «1820» г., не очень-то четко означен в четвертой главе, хотя на самом деле конец этой главы (строфы XL-L) покрывает тот же самый временной промежуток (с ноября по начало января), что и строфы 1-Й гл. 5» (Комментарий, 395).
Таким образом, факт из жизни «реального» Пушкина повлек за собой изменение в композиции 4-ой главы («перекрой»), основой которого стало отстранение на задний план образа Пушкина и развитие, с параллельным сокрытием с помощью литературной метафоры из элегии Андре Шенье, авто-биографичности в образе Онегина.
Причем, самое веское доказательство своего убеждения в том, что «повествуя о жизни Онегина в деревне летом 1820 г., Пушкин описывает
собственные деревенские развлечения и привычки лета 1825 г.» («Структура «Е. О.»», Комментарий, 56), заявленного в тексте комментария к XXXIX строфе четвертой главы как аксиома, Набоков приводит в предваряющем тексте Комментария. В статье «Пушкин о «Евгении Онегине» (Комментарий, 75) он указывает на письмо Пушкина Вяземскому, написанное 27 мая 1826г. (напомним, что в эссе В. Н. настаивает на том, что в гл. 4, XXXIX Пушкин «закамуфлировал свой собственный опыт - имеется в виду приключившаяся тем летом в Михайловском любовная история с одной хрупкой крепостной девицей, Ольгой Калашниковой <...> Ребенок (мальчик) родился в Болдино і июля 1826г.»-):
«Если царь [Николай I] даст мне слободу, то я [в России] месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, англ. журналы или парижские театры и бордели - то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне Онегина я изобразил свою жизнь [в Михайловском]...» (Комментарий, 75).
Мы знаем (как поведал об этих деликатных реальных обстоятельствах Набоков в Комментарии к гл. 4, XXXIX, с. 377), что Вяземский был посвящен в суть дела и был призван на помощь по его улаживанию. Поэтому Пушкину и не было смысла лукавить в письме Вяземскому. Именно здесь, когда Пушкин крайне откровенен в письме другу, и так скрытен в черновике ответа на критику Михаила Дмитриева (1796-1866) - «племянника Ивана Дмитриева и пушкинского Зоила» (с. 510), что не призывает текст Шенье в защиту собственного использования «очень простых метафор», именно здесь на стыке-невязке между письмом, editio optima и опровержением на критику (рукописным, не опубликованным самим Пушкиным) зародилось сомнение Набокова в столь убедительно декларируемой Пушкиным «разности» его героя и его самого (см. Комментарий к гл.1, LVI, 3-4 ... разность /между Онегиным и мной; 10-11 [не] ... намарал я свой портрет, / Как Байрон ..., с. 212). Поэтому, Набоков в двух шагах от примитивной интерпретации, о
которой позже писал в «Ответе ...» Уилсону, допускает, с корректной долей сомнения («почти несомненно <...>», с. 377), что в строфе XXXIX, гл. 4 «поэт, посредством уникального для 1825 г. приема, закамуфлировал свой собственный опыт» (с. 377). Для Набокова интересен не столько сам любопытный: факт из личной жизни Пушкина-человека, сколько выход, найденный Пушкиным-стилистом, дабы избежать узнавания посторонними (будь то соседи в Тригорском, будь то критики) в герое своего романа.
Стилистический прием соединения биографической и литературной реминисценции в переводной метафоре продемонстрирован Набоковым в строке «Beneath the racemosas and the pea trees».
Набоков следует за Пушкиным, сочетая в «онегинском тексте» автобиографический ряд с литературным. Одним из наиболее ярких примеров подобного сочетания является комментарий к переводу строфы VII шестой главы романа113, где «Пушкин описывает, как исправившийся повеса Зарецкий удалился в деревню и укрылся под сенью совершенно определенных растений» (Комментарий, 438).
В комментарии к строке «Под сень черемух и акаций» Набоков объявляет свое неординарное решение переводить этот стих как «Beneath the racemosas and the pea trees», «оставляя прочие названия деревьев тем благородным перекладчикам, которых восхвалял сэр Джон Денем три века тому назад, обращаясь к не менее достойному сэру Ричарду Фаншо (см.. Предисловие Драйдена к «Посланиям» Овидия, 1680):
Тот рабский путь ты благородно отвергаешь,
Когда переводят слово в слово и строку в строку...» (Комментарий, 441)114 Все переводческое эссе, связанное со строкой «Под сень черемух и
акаций», подчинено методологической проблематике. Набоков
демонстрирует, как поступили бы приверженцы парафрастического и
лексического (или структурного) перевода в отличие от буквалиста, какие
тонкости скрывает перевод данной строки.
Набоков полагает, что переводчику «следует быть более точным», когда он «встречается с ботаническими названиями у автора». Однако это не всегда оказывается возможным в силу несовпадения, а то и. вовсе отсутствия соответствующих наименований на языке перевода. Принципиален и тот факт, что «распространенное название растения по-разному воздействует на воображение людей, говорящих на разных языках, - в одной стране оно рождает ассоциацию с цветом, в другой — с формой...». Все мы знаем, что «слова «черемуха» и «акация» рождают в русском сознании две цветущие кущи». Набоков называет это «стилизованным сочетанием ароматов». Однако при переводе достаточно соответствующего пояснения в примечаниях: «не думаю, что переводчик обязан утруждать себя воспроизведением в тексте таких ассоциаций» , продолжает Набоков. Рассуждая о разных вариантах перевода слова «черемуха» на английский язык, он решает остановиться на «научном названии, благозвучном и простом» - «racemosa». Одним из критериев выбора этого существительного явился тот факт, что оно рифмуется с «мимозой». Впрочем, тут же Набоков замечает, что акация, а вовсе не черемуха относится «к красивой и полезной разновидности тропической мимозы». Набоков настаивает на том, что переводчик «обязан выяснить, что на самом деле означает это слово, исходя из его контекстуальной среды обитания, в условиях некоей воображаемой местности», а также «в свете определенного литературного приема». Итак, «у Пушкина речь идет не о серебристой австралийской акации и не о псевдоакации. Тогда о чем же? Конечно, о цветущем желтыми цветами виде рода Caragana, а именно С. Arborescens..., вывезенном из Азии и высаживавшемся вокруг господских беседок и вдоль садовых аллей в северной России». И здесь Набоков добавляет к своим ботанико-лингвистическим аргументам явную автобиографическую реминисценцию, которая нашла отражение и в переводе: «Французские гувернеры называли ее «Гacacia de Siberie» - «сибирской акацией», а мальчики расщепляли ее темный стручок и, сложив ладошки лодочкой, дули в него, извлекая
отвратительные резкие звуки». Кроме всего прочего, сочетание звуков в
набоковской строке достаточно выразительно передает свист и треск детских
забав.
Но тут же Набоков добавляет, что все, на первый взгляд, касающееся
реальной местности, на самом деле в «Евгении Онегине» относится к
литературной Аркадии. Он отмечает, что «пушкинская строка является
пародией на два пассажа из стихотворения «Беседка Муз» (1817) Батюшкова,
поэта и литературного новатора, языку которого Пушкин обязан не меньше,
чем стилю Карамзина и Жуковского. Стихотворение это, написанное
вольным, или басенным, ямбом, то есть ямбом с неравным количеством стоп
в строках, начинается так:
Под тению черемухи млечной И золотом блистающих акаций... -и завершается:
Беспечен, как дитя всегда беспечных граций, Он некогда придет вздохнуть в сени густой Своих черемух и акаций».
Однако «эпитет второй строки стихотворения прекрасно подходит к ярким цветам Caragana и совсем не годится для белых лепестков псевдоакации». (Комментарий, 440).
Таким образом, семантический ряд «акация-дети» (строфа VII, 9,14) вызвал в воображении Набокова образ стручков («pea» - горох, англ.), что нашло выражение в метафоре «...the pea trees...». Слово «сень» в англоязычной строке отсутствует после предлога «под» («beneath»). Образ «двух цветущих кущ» воплощен в «the racemosas», что относится к «черемухе» и рифмуется с «мимозой», столь близкой в литературной Аркадии к «золотом блистающим» батюшковским «акациям». В набоковской строке соединились две реминисценции - собственно-автобиографическая и пушкинская литературная, которые переплавились в явную звукоподражательную пародию:
«beneath the racemosas and the pea trees...»,
демонстрирующую ассоциативный потенциал набоковского перевода. Подобные ассоциативные переводческие решения объясняют, что-имел в виду Набоков, когда, отвечая на вопрос интервьюера, называл воображение формой памяти115.
В макротексте Набокова соотношение «воображения» и «памяти» носит «зеркальный» характер, особенно в произведениях автобиографического корпуса. М: Маликова отмечает, что он «прибегает к взаимно противоречащим объяснениям соотношения» воображения и памяти»116. С одной стороны, судя по ответу Набокова Аппелю (IX, 1966 г.) -«воображение - это форма памяти». С другой стороны, сам процесс воспоминания Набоков называет творческим: «Прошлое - это постоянное накопление образов, но наш мозг — не идеальный орган непрерывной ретроспекции, и лучшее, на что мы способны, - это подхватывать и стараться удержать проблески радужного света, проносящиеся в памяти. Это удерживание и есть искусство, художественный отбор, художественное
смешение, художественная перестановка реальных событий» . Итак, «оказывается, что не только «воображение - это форма памяти», но и воспоминание — это «акт искусства», <...> т.е. память - это форма воображения».118
На наш взгляд, набоковская формула «воображение - память» имеет пушкинскую основу. Тема метафоры воображения является одной из центральных тем «онегинского текста». Набоков связывает авторское сравнение собственной Музы с бюргеровской Ленорой в начале 8 главы с проявлением ретроспективной природы воображения поэта. Кроме того, воспоминания («видения» (С. 67), «рассуждения о прошлом» (С. 188)) Онегина в гл. 8, XXXVI-XXXVII, трактуются Набоковым как форма онегинского воображения 119. В комментарии к строфе IV гл. 8 120 , в которой «нашла великолепный
1 "}1
отклик» строфа LVII гл. 1 , Набоков развивает исследование природы пушкинского вдохновения в центральную для Комментария тему
^воображения. Исходя из того, что «образ возникает из ассоциаций, а ассоциации поставляет и питает память» Набоков интерпретирует литературную метафору Пушкина как возникшую в слиянии с автобиографической - ретроспективно воссозданными в воображении образами: «Я часто гадал, почему Пушкин предпочел сравнить свою Музу с этой перепуганной девой («Она Ленорой, при луне, / Со мной скакала на коне» (гл. 8, IV, 7) - Б. М.) и хотя, несомненно, его выбор может быть объяснен пристрастием к романтизму, которым окрашены его ранние произведения, очень велико искушение увидеть призрачные силуэты пя-ри казненных декабристов на виселице, стоящей на обочине автобиографического пути, ретроспективно пробегаемого воображением Пушкина в 1829 г.» (Комментарий, 536).
Как в автобиографии «Другие берега» «исторические события последовательно вводятся только в связи с событиями «личной обочины общей истории»122, так и в Комментарии - биографии Пушкина - Набоковым «кстати» поднимается проблема «причастности» поэта к декабризму. С «обочиной автобиографического пути» Пушкина, «для которого жизнь и книга были одно» (С. 177), Набоков отождествляет поля рукописи с «силуэтами пяти казненных декабристов на виселице». В комментарии к строфе XIII «десятой главы» (к строке 3 ... искра пламени иного...) описан «знаменитый рисунок пером в тетради 2368, л. 38, впервые опубликованный Венгеровым в 1906 г. в брокгаузовском издании сочинений Пушкина» (Комментарий, 659). «На листе теснится дюжина профилей, среди которых комментаторы узнают отца и дядю нашего поэта. Вверху на полях Пушкин изобразил бастион и пять болтающихся на виселице человечков. Этот же рисунок повторен, немного детальнее, внизу страницы. Над верхней виселицей, в самом верху листа, можно разобрать неоконченную строку: И я бы мог, как шут на... » (Там же).
На самом деле первое описание профилей декабристов на полях пушкинского черновика сделано Набоковым в комментарии к главе пятой, центральной строфе романа :
«
На полях черновиков (2370, 80 об. и 81 об.) Пушкин, работая над строфами V-VI и IX-X, спустя недели три после провалившегося мятежа декабристов в Петербурге (14 декабря 1825 г.) набросал профили нескольких заговорщиков, которых знал лично. Среди разных мирабо- и вольтерообразных профилей можно различить декабристов П. Пестеля и К. Рылеева, что свидетельствует о необычайной цепкости зрительной памяти Пушкина, поскольку Пестеля он не видел более четырех лет (с весны 1821 г. в Кишиневе), а Рылеева - пять с половиной (с весны 1820 г. в Петербурге). <...>» (Комментарий, 398-399)
Текст внутри комментария к гл. 5, строфе V является миниатюрным отступлением от текстуальной последовательности романа. По этому «адресу» в рукописи к гл. 5, V-VI находятся пушкинские карандашные рисунки. Но подробное описание и раскрытие глубинной связи семантики этих строф с темой «провидения» содержится в комментариях к расшифрованной «десятой главе»:
к строфе XIII, 3 ... искра пламени иного ... — «С этого стиха Пушкин начинает излагать свою версию декабризма <...>» (С. 657-660), и к строфе XVII, 9 Щестель] (С. 665-667).
Однако в editio optima «Евгения Онегина» есть еще одна строка, в комментарии к которой обсуждается отношение Пушкина к декабризму - в главе 8 ; и зафиксированы сопутствующие «адресные» отсылки: «<...> (см. мой коммент. к гл. 10. XIII. 3) <...>» (С. 597), и ниже -
«В промежутке времени с 9 мая 1823 г. (когда был начат Е.О.) по 14 декабря 1825-го (декабрьское восстание) Пушкин не читал первые главы «в дружной встрече» никому из пятерых заговорщиков, обреченных погибнуть на виселице 13 июля 1826 г.) (см. мой коммент. к гл.5. V-VI, IX-X о рисунках Пушкина); <...>» ( Там же, курсив наш - Б. М.).
В комментарии к «десятой главе» Набоков акцентирует тот факт, что «причастность Пушкина к декабризму - лишь стилизация» (С. 661). «В стихах, имеющих прямое отношение к судьбе декабристского движения, Пушкин возвышенно сострадал ссыльным, их семьям и их делу, но при этом подчеркивал свою непричастность как художника» (С. 660). Одно из оснований к таким выводам Набоков находит в письме Пушкина из Михайловского Вяземскому в Москву от 10 июля 1826 г.: «Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми [декабристами]» (С. 659; в квадратных скобках - пояснения В. Н.'.- Б. М.).
Из подробнейших описаний Набокова пушкинских рисунков на полях рукописей (С. 659, 666-667) нам более всего важны следующие моменты. Во-первых, ретроспективный аспект воображения Пушкина-графика, о чем свидетельствует отмеченная выше «необычайная цепкость зрительной памяти». Этот аспект особо акцентируется в комментарии к «десятой главе», XII строфе, где в примечании-сноске Набоков напоминает ранее высказанную им мысль (в эссе «Пушкин, или Правда и правдоподобие») об отсутствии фотографии в пушкинскую эпоху, и в связи с этим большую стилизованность силуэтов друзей, типические черты которых благодаря частым повторениям в альбомах врезались в память достаточно прочно. Во-вторых, важен для нашего исследования «трогательный профиль Кюхельбекера» на черновике главы 5, IX-X (С. 666). Вспомним допущенную Набоковым проекцию-стилизацию отношений Онегина с юным Ленским на отношения (с ретроспективным сдвигом - «и память, и воображение упраздняют время»125) между взрослым Пушкиным и Кюхельбекером, каким он запомнился поэту в юности. В-третьих, в комментарии к «десятой главе» описываются не только карандашные наброски «точно посередине романа» -«4 или 5 января 1826 г. слева на полях чернового наброска гл.5, V и VI -точно посередине романа («Татьяна верила... снам, и карточным гаданьям, и предсказаниям луны...», она ожидала беды, если «быстрый заяц... перебегал дорогу ей») - и снова слева на полях черновика гл.5, IX-X («Морозна ночь...
Как ваше имя? ...Харитон»; Татьяна кладет под подушку зеркало, чтобы запомнить вещий сон) сверху вниз начерчены профили, и первым оба раза -профиль Пестеля. .<„.> » (Комментарий к гл.10, XVII, 9 П[естель], с. 666). Набоков связывает содержание строф с рисунками в черновике темой «провидения» как в романе, так и в биографии Пушкина. Приехав в Петербург накануне, Пушкин бы «как раз успел, в роли сочувствующего, принять участие в событиях 14 декабря; но дорогу перебежал заяц», и он вернулся. «Если все это правда (в чем нет уверенности), то «быстрый заяц», вестник беды, изящно соединяет пушкинский рассказ о суеверных страхах Татьяны и задумчиво вычерченные профили мятежников (в тетради 2370), к которым поэту не пришлось присоединиться» (С. 667). Таким образом, центральная тема предзнаменований как в «Евгении Онегине», так и в Комментарии «проникает в главу пятую в середине романа и откликается в гл. 8, XXXVI-XXXVH, где Воображение встречает Онегина за столом судьбы и мечет свой фараон» .
Аналогично тому, как в статье «Структура «Е.О.»» Набоков называет тему первых строф восьмой главы не столько биографической, сколько библиографической, впоследствии о своей биографии он скажет как о библиографии . В связи с этим, пушкинское сравнение Музы («Она Ленорой, при луне, / Со мной скакала на коне» (гл. 8, IV, 7) - Б. М.) в строфе-воспоминании об ушедших друзьях с бюргеровской Ленорой, скачущей на коне со своим суженным - «по дороге (<...>) они минуют виселицу, освещенную мертвенным лунным светом» - является одновременно автобиографической и литературной реминисценцией. Набоков подчеркивает общность библиографической основы в своем исследовании* воображения Пушкина и памяти Онегина. По отношению к образу последнего бюргеровская Ленора может быть актуальна в свете его воспоминаний о том, как Ленский читал ему Оссиана (см. «Структуру к «Е.О.» к гл.1, III-VII128) в строфе XVI, гл. 2. «То, что это и есть северные поэмы, читанные Ленским, становится ясно» из комментария «по этому адресу» - к гл. 2, XVI, в котором
Набоков допускает проекцию вымышленных отношений между героями «Евгения Онегина» на не реальные, по возможные с точки зрения природы поэтического воображения, отношения «между двумя другими людьми из разных временных срезов: Пушкиным конца 1823 г. и тем Кюхельбекером, каким он запомнился поэту в 1815-1817 гг.» (С. 239). Здесь же Набоков комментирует 9-11 Поэт в оюару своих суждений / Читал ... / Отрывка северных поэм... в своей ассоциативной (и потому -автобиблиографической) манере: « - Где он нашел эти отрывки? Ответ прост: в книге «О Германии» мадам де Сталь» (G. 240). Нас интересует факт цитирования из «Леноры» Бюргера, так как именно с Ленорой ассоциирована пушкинская Муза в строфе - воспоминании о юных друзьях:
«...les morts vont vite, les morts vont vite! Ah! laisse en paix les morts!
(... мертвецы идут быстро, мертвецы идут быстро!.. О, оставьте в покое мертвецов!)
Бюргер, «Ленора» (там же, гл. 13)» ( С.240). («О Германии», Ч. II, гл.12) Однако, нужно помнить, что некоторые книги Онегин (См. комментарий
к гл. 8, XXXV. С. 581) читал с подачи Ленского во времена их «безмятежных
бесед на аркадские темы (гл.3,1-Й)» , онегинские воспоминания о которых
могли быть оживлены чтением «Пасторальной поэзией с Трактатом о
природе эклоги» Фонтенеля.
Таким образом, очевидно автобиблиографическое единство не только двух
Комментариев (к гл. 8, XXXV и к гл. 2, XVI), но и библиографических
предпочтений юного Ленского и юного лицеиста Пушкина130. Существует и
более ощутимая связь образа юного Ленского с образами юных друзей
Пушкина - эссе о Дельвиге внутри комментария к гл. 6, строфе XX, где
«бедный. Ленский» накануне дуэли изображен «в лирическом жару, / Как
Дельвиг пьяный на пиру». Однако наиболее виртуозным проявлением
воображения комментатора является предположение Набокова о том, что
именно в «Северных цветах» Дельвига на 1825 г., который «вышел в свет в
рождественские дни 1824-го» (ведь Онегин зимой 1825 г. в гл. 8, XXXV
читает журналы за ушедший год) наш «постаревший беглец» мог прочесть строфы (гл. 2, VII-X), посвященные «чистой душе юного идеалиста, которого он убил четырьмя годами ранее (14 янв. 1821 г. )» (С. 582). Именно это проявление явтж?библиографической «инициативы» Набокова нашло развитие в набоковском комментарии к гл. 8, XXXVI и XXXVII, 4 Свой пестрый мечет фараон. - «Великолепный образ игры в «фараон» заставляет нас вспомнить строфы о карточной игре второй главы, отвергнутые нашим поэтом. Мертвый юноша навеки запечатлен в сознании Онегина, в его мозгу всегда будут звучать страшные слова, небрежно брошенные Зарецким, и вечно будет таять снег того морозного утра под пролитой кровью и жгучими слезами раскаяния» (Комментарий, 585). Основа набоковского приема заполнения онегинской книжной полки, которую Пушкин оставил фантомной, прежде всего в педантичном отношении к временным срезам, к временным сдвигам; и шире - сдвигам реальностей. В комментарии к гл. 8, XXXV ш, 7-8 Набоков пишет о том, что Онегин «мог с улыбкой прочесть, испытывая смесь ностальгии и удовольствия, о самом себе, Каверине, Чаадаеве, Катенине и Истоминой в снисходительном рассказе своего старого приятеля о жизни молодого повесы в 1819 - 1820 гг.» получив первую главу «Е.О.» «в последнюю неделю февраля 1825 г.» (С. 582). На наш взгляд, Набоков связывает пушкинский прием зеркального отражения в конце романа его начала (так называемые «ласточкины хвосты» (С. 42) в структуре «Евгения Онегина») с приемом завуалированного авто-анонсирования XXII строфы 7 главы в статье «Литературной газеты»132 сквозной темой макротекста Пушкина - темой собственных произведений. Анонимная* заметка в «Литературной газете» от 1 января 1830 г., анонсирующая будущий перевод «Адольфа» Вяземским, который в конечном итоге оказался «нескладным» и «неточным» (как справедливо критиковал Полевой - «влиятельный критик, который десятью годами ранее перевел «Адольфа», правда еще менее удачно» (С. 502)), содержит многозначительно-неопределенный текст строфы XXII, гл. 7 editio optima. Из
статьи «Публикация «Евгения Онегина» (раздел «Вступление переводчика») мы узнаем, что XXII строфа была напечатана только вместе с первым отдельным изданием главы седьмой 18-19 марта 1830 г. (см. с. 78, 19-ый пункт статьи «Публикация «Евгения Онегина»). Видимо и тут «наш поэт» «под маской фиглярства», бравурной анонимности «протаскивает свою правду» - анонс строфы «Онегина», до выхода в свет которой (как и всей гл. 7) оставалось еще два с половиной месяца. Прием автоцитаты, аналогичный пушкинскому, применен Набоковым в «анонсирующих» интервью как организующий целостность макротекста.
Набоков рассматривает великолепную пушкинскую метафору игры онегинского воображения в «фараон» воспоминаний во взаимосвязи с библиографическим перечнем в строфе XXXV, 8 гл., который напоминает своей неопределенностью (неконкретностью) первый черновой вариант стихов 3-12, строфы XXII, 7 главы. На взаимосвязь двух Комментариев — к гл. 8, XXXV и к гл. 7, XXII - указывает статья «Структура «Евгения Онегина»» к гл. Г, XXXVII-XLIV: «Круг чтения Онегина, намеченный несколькими именами в гл.1, V и VI (Ювенал, два стиха из «Энеиды», Адам Смит), характеризуется в гл.1, XLIV обобщенно, без имен и названий, к нему будет вновь привлечено внимание в гл.7, XXII и 8, XXXV» (Комментарий, 47). Кроме того, Набоков отсылает к своему комментарию к гл. 8, XXXV, 2-6 , сопровождая примечаниями черновой перечень из четырнадцати имен (гл. 7), который явно превышает каталог из десяти книг Онегина -«постаревшего беглеца» и затворника зимы 18247 1825 г. в период любовной тоски по Татьяне. Почему Пушкин отказался от такой строфы в окончательном тексте седьмой главы и помещает аналогичную по неопределенности и многозначности в восьмой! Интуиция, подкрепленная исследовательской логикой, подсказывала Набокову, что список седьмой главы, где мы видим библиотеку в замке Онегина глазами Татьяны, не должен быть большим, чем в восьмой, поскольку онегинское «запереться и читать» «от нечего делать», убивая скуку134-— до гибели Ленского и бегства
Онегина, как в прямом смысле (путешествие), так и в переносном - от себя -не тождественно «запереться и читать» в 8-ой главе, когда Онегину, по большому счету, в самом деле все равно, что читать. Как (?!) он читает? - в безумстве, весь в своих мыслях, мечущихся между строк перед глазами, глотая книги как воздух, он ищет в них спасения и не находит. Набоков исследует психологическое состояние Онегина-«читателя» в комментарии к 8-ой главе (XXXIV-XXXVII) и функциональную значимость пушкинского приема перечисления библиографических имен — так называемой «скороговорки фокусника»136. Теперь становится ясно, что пушкинская «забава» с рифмой, ямбом, библиографическим перечнем в варианте строфы XXII, гл. 7 обернулась в гл. 8, XXXIV-XXXVIII в стилистическую необходимость сюжета. Таким образом, Набоков прослеживает как «модулируются в новой
тональности» тема «онегинского равнодушия к поэзии», тема «хандры» и тема «запереться и читать» в главе восьмой, XXXVIII, 5-8, когда «Онегин, наконец, почти овладеет «стихов российских механизмом»». Следует подчеркнуть, что Набоков интерпретирует воспоминания Онегина как проявление столь не характерного для него воображения, опираясь на литературный подтекст Адольфа; в его образе. В Комментарии несложно обнаружить соответствующие акценты Набокова с помощью «Указателя имен» (см. с. 907, Констан (Constant) Бенджамен). Однако, отмечая, что аналогий с Адольфом немало, «все они очевидные, а потому останавливаться на; них смертельно; скучно» (С. 502), Набоков обстоятельно комментирует
1 1R
упоминания і «замечательного романа Констана «Адольф»» в черновиках поэта. Например, в статье Комментария «Предваряющие тексты: Отвергнутые вступления» (С. 89-91) Набоков пишет: «В рукописи предисловия, датированной^ 1824 г. (тетрадь 2370, л. 10, 11), с прелестным изображением онегинского профиля над сокращенным заглавием («Предисловие к Евг. Онег.») , второе предложение четвертого абзаца начинается так: «Очень справедливо будут осуждать характер главного лица
61 - напоминающего 4<ильд> Н<аго1сГа>» [sic; переправленное «Адольфа» отсылает к «Адольфу» Бенжамена Констана]; <...>». В комментарии к строке 9 Child - Harold (XXXVIII, гл. 1) Набоков сообщает: «В отвергнутом чтении этого стиха в черновой рукописи (2369, л. 16 об.) вместо героя Байрона упомянут Адольф - герой Бенжамена Констана» (С. 181)139. Однако, для исследования литературной памяти Онегина как основы его воображения особенно важен вариант (2371, л. 68) гл.7, XXII «Лю<бимых> несколько творений / Он по привычке лишь возил — Мелъмот, Рене, Адольф Констана...». К нему Набоков отсылает, комментируя Письмо Онегина к Татьяне140, которое подтверждает «отсутствие каких-либо творческих способностей»141 у Онегина. Набоков констатирует, что близость Онегина более страстной натуре Адольфа оставлена за пределами окончательного текста романа, т. к. «в отличие от Адольфа Онегин (если на минуту принять его за «реальное» лицо) на глазах растекается и распадается, лишь только начинает испытывать чувства, лишь только покидает очерченные его творцом пределы существования в виде яркой пародии и средоточия многочисленных к делу не относящихся и вневременных материй»142. Тем не менее, несмотря на то, что предполагаемые «мечты Онегина эгоцентричны и бесплодны» Набоков подчеркивает, что они «были не лишены широты и фантазии», о чем «мы, гораздо позже, сможем заключить, прочтя одну из самых прекрасных и вдохновенных строф романа- гл.8, XXXVII, в которой Онегин размышляет о своем прошлом»143.
Суть набоковской «интерпретации» эволюции образа Онегина излагается в статье «Ответ моим критикам» на основе миниатюры комментария к 7 строке, строфы XXVIII, гл. 6 144.
Набоков объясняет «противоречивость натуры Онегина, одновременно сухой и романтичной, холодной и пылкой, поверхностной и глубокой»145 логикой автора и как «интересный ход в развитии пушкинской композиции, замечательно выверенной; (смесь творческой интуиции и художественного прозрения)» (С. 404. См. также коммент. к гл. Г, XXXVIII, 1-2 Недуг,
которого причину /Давно бы отыскать пора..., с. 177146). Онегин алогичен в своем поведении, подобном «ночному кошмару» (в гл. 6), накануне и после дуэли, и интересен Набокову именно на стыке логичного и алогичного в его образе. Как «салонная кукла», как заимствованный персонаж он мог (должен) поступить так-то. Однако он проявляет себя совершенно не из логики, заложенной в нем автором изначально, а нарушая все традиционные условности (секундант - слуга, опоздал на дуэль и проч.). Исследуя в Комментарии отношение Пушкина к своему герою и констатируя в нем противоречия147, Набоков, «не веря ни в какой вид интерпретации» , «показал фактическое влияние пушкинского искусства создания характеров на структуру поэмы»149. Одним из примеров обнаружения алогичных непредсказуемых изменений в структуре образа, является следующий комментарий: «Есть что-то привлекательно парадоксальное в том, как автор признается в любви к своему герою, когда тот только что лишил жизни бедного Ленского»150. Однако, высказывая, «недоумение» в Комментарии, Набоков ограничился только эмоционально-нагруженной констатацией подобных фактов, чем спровоцировал в свой адрес жесткую критику по поводу «интерпретации текста». Уилсон называет ее «самым серьезным недостатком» Комментария. В статье «Ответ моим критикам» Набоков абсолютизирует свою верность Пушкину, возведя философему «Я остаюсь с Пушкиным в мире Пушкина» в принцип не только «буквального перевода», но и «буквальной интерпретации», далекой от «субъективной». Для Набокова важно, что допускает Пушкин в интересах сюжета151: «<...> и вот он медленно поднимает пистолет и ... но Ленский совершенно хладнокровно тоже поднимает пистолет и Бог знает, кто бы кого убил, если бы автор не последовал благоразумно старинному правилу беречь более интересного героя до окончания романа. Если кто и «злоупотребил преимуществом», как нелепо выражается г-н Уилсон (ни один из противников не может получить никакого особого преимущества в классической duel a volonte (дуэль по желанию, фр.)), то это не Онегин, а Пушкин»152.
Безусловно, такой подход Набокова распространяется на «интерпретацию» всех образов в «Е. О.». Не вдаваясь в подробности, (это тема отдельного разговора) можно сделать вывод о том, что Набоков действительно акцентирует факты противоречивости, разнонаправленности проявления образной сути, будь то Ленский, Ольга, Татьяна или стилизованный Пушкин. Этот вопрос тем более актуален, когда речь идет о расхождении повествовательных стратегий в черновых вариантах романа и editio optima. С этой точки зрения, несомненно, Набоков; предоставляет широчайшую панораму создания «Евгения Онегина», перед нами сложный и противоречивый процесс создания текста; Именно образы Онегина и Пушкина в «Е. О.» — объекты пристального внимания Набокова. Это обусловлено тем, что их соотношение в романе вскрывает зависимость проявления' той или иной грани образа не только от композиционной целесообразности, но и от сложной противоречивости всех - и литературных, и внелитературных - аспектов пушкинского романа.
Итак, сквозь биографический хаос на поверхность набоковского Комментария явно проступает автобиблиографическая метафора воображения-памяти, соединяющая «странные пометы на полях жизни»153 Онегина с рисунками на полях рукописи Пушкина, «для которого жизнь и книга были одно» (С. 177) 154.
Подведем итоги первой главы ««Онегинский текст» Набокова и его функции в макротексте писателя».
Мы описали и проанализировали основные приемы и методы работы Набокова с пушкинским наследием, в первую очередь - с романом в стихах «Евгений Онегин».. Знаменитый набоковский комментарий к «Евгению Онегину» мы исследовали на основе той же методологии, какую использовал сам Набоков, определяя комментарий как тень пушкинского шедевра.
В различных текстах, посвященных проблеме перевода, Набоков неоднократно критиковал существующую «художественную» традицию и
определял свою переводческую стратегию как буквалистскую. В связи с этим и собственный перевод пушкинского романа Набоков стремится приблизить по выражению самого писателя, «идеальному подстрочнику», даже если для этого приходится идти на некоторые потери в благозвучии или использовать синтаксические неправильности.
Традицию буквалистского перевода Набоков возводит к Пушкину, опиравшемуся, в свою очередь, на Франсуа Шатобриана и его прозаический перевод поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай». Вероятно, не в последнюю очередь с тем, что произведение Мильтона, написанное белым стихом, Шатобриан переложил прозой, было связано решение Набокова отказаться в своем переводе пушкинского романа от рифм. Таким образом, Набоков переводит Пушкина «по-пушкински», опираясь на «подсказку» поэта.
Такой подход оправдан в глазах Набокова еще и тем, что Набоков-переводчик выступает зачастую не как второе, а как третье звено. Это связано с тем, что он ставит своей целью не только перевести строки Пушкина, но и сохранить пушкинские подтексты, что невозможно или затруднительно при более вольном переводе. Ярким примером такой интенции Набокова-переводчика является его перевод пушкинских строк «Порой белянки черноокой / Младой и свежий поцелуй», являющихся цитатой из стихотворения Андре Шенье, и соответствующий фрагмент набоковского комментария к «Евгению Онегину».
Точно так же Набоков демонстрирует родство собственного переводческого метода с пушкинским, возводя своих «отрицательных героев», то есть конкурентов в деле перевода «Евгения Онегина» на английский язык, к французским «горе-переводчикам». Для этого Набоков предпринимает детальное описание онегинской библиотеки, состоявшей как раз из французских переложений английских поэтов, и попутно демонстрирует несовершенство и самих этих переложений, и тех приемов, к которым прибегали французские переводчики пушкинской поры.
Пушкин не только «подарил» Набокову переводческую стратегию, но и «научил» его методам и приемам борьбы с враждебно настроенными критиками. Мы соотносим набоковский «Ответ моим критикам» с пушкинскими заметками «Опровержения на критики». Именно у Пушкина Набоков научился тому, как заставить критика публично обнаружить свою некомпетентность. Подобно Пушкину, который, отвечая на обвинения Михаила Дмитриева, нашедшего строку «Младой и свежий поцелуй» чересчур «невразумительной», не «раскавычивает свой источник» и не раскрывает, что критик по сути нападает не на него, а на Шенье, Набоков утаивает мотивы своих переводческих решений и тем самым провоцирует своего оппонента Эдмунда Уилсона на высказывание обвинений, выявляющих слабое знание им пушкинского творчества.
При этом за спиной Пушкина Набоков обнаруживает тень французского поэта Шенье. Шенье же, в свою очередь, опирается на авторитет Мишеля Монтеня, писавшего в эссе «О книгах»: «Я хочу, чтобы по моему носу дали щелчок Плутарху, и пусть они обожгутся, оскорбляя через меня Сенеку».
Разбирая так подробно пушкинские «плагиаты», Набоков попутно обосновывает и «освящает» собственную практику многочисленных заимствований (в том числе и из Пушкина), осмысляемых как пародия («то особое значение беспечной, изысканной, шутливой игры, которое позволяет говорить о пушкинском «Памятнике» как о пародии на державинский»). При этом «переведенные» Пушкиным образы «Евгения Онегина» Набоков нередко использует в собственных англоязычных романах в «обратном переводе» - с русского на английский.
Еще одной важной для Набокова чертой художественного, мира Пушкина, нашедшей отражение в комментарии, был своеобразный автобиографизм «Евгения Онегина». Опыт Пушкина, прикрывающего биографическую аллюзию цитатой из Шенье и таким образом превращающего личное в литературное, не мог не учитываться автором
66 «Других берегов». Манера Набокова-прозаика была построена на сочетании открытых автобиографических отсылок и последовательного отрицания любой возможности превращения художественного произведения в «человеческий документ». В связи с этим можно утверждать, что пушкинские принципы введения автобиографического материала в текст и его обработки, были для Набокова своего рода ориентиром.
Кроме того, Набоков «впускает» в текст комментария свои ассоциации и описание деталей, знакомых ему по собственному опыту, превращая таким образом пушкинскую биографию в автобиографию. Более того, в некоторых случаях эти набоковские комментирующие ассоциации влияют на английский текст «Евгения Онегина», как, например, в строке «beneath the racemosas and the pea trees» («Под сень черемух и акаций»).
Свой автобиографический текст Набоков пишет, опираясь на тот образ Пушкина, который сам создает. Говоря о себе ;«история моей жизни скорее похожа на библиографию, нежели на биографию», писатель тем самым предлагает будущим исследователям строить его жизнеописание по тем же принципам, какими руководствуется сам он, изучая Пушкина, «для которого жизнь и книга одно». В комментарии к «Евгению Онегину» Набоков оставляет яркий образец исследования биографии как библиографии;
Но и свой макротекст в целом Набоков рассматривает как «высокую пародию» на пушкинский. Комментарий к «Евгению Онегину» выполняет в этой структуре роль «Памятника». Характерно, что Набоков сообщает об этом как бы; случайно, между прочим, в англоязычном стихотворении, написанном якобы с чисто служебной целью и призванном продемонстрировать читателям, не владеющим русским языком, как на самом деле выглядит онегинская строфа. Тем самым в творческое «соревнование» двух гениев вносится необходимый элемент иронии. Впрочем, ирония не отменяет того факта, что Набоков воспринимал это «соревнование», по крайней мере его лингвистический аспект, вполне серьезно. Об этом свидетельствует, в частности,заявление Набокова, что он
переводит «Евгения Онегина» «с пушкинского русского языка на свой английский».
Свои интервью Набоков нередко использовал для «анонсирования» еще неопубликованных или неоконченных вещей. Например, в знаменитом интервью Альфреду Аппелю писатель излагает содержание еще только задумывавшейся тогда «Ады» и пересказывает ненаписанную главу из романа «Пнин». По нашему мнению, эта практика также восходит к пушкинской, описанной в комментарии к «Евгению Онегину». 1 января 1830 года «Литературная газета» опубликовала анонимную заметку, посвященную переводу романа Бенжамена Констана «Адольф», выполненному Петром Вяземским. В этой заметке была помещена без указания автора строфа из седьмой главы «Евгения Онегина», сама же глава впервые была опубликована более двух месяцев спустя.
Любопытна и структура «онегинского текста» Набокова. Неопубликованный ранний доклад Набокова о Пушкине (конец 1920-х -начало 1930-х гг.) вкупе с франкоязычным эссе «Пушкин, или Правда и правдоподобие» (1937) рассматриваются нами как прототексты, «вспышки будущей книги» - собственно комментария к «Евгению Онегину». При этом комментарий «комментирует» и набоковскую пушкиниану: без обращения к нему некоторые положения работ Набокова о Пушкине не могут быть адекватно поняты.
В самом Комментарии раздел «Вступление переводчика» выполняет функцию метаописания. Это своего рода авторская подсказка будущим набоковедам. Особенно это относится к главе «Структура «Евгения Онегина»». Такую же автокомментирующую роль играют и статьи Набокова «Ответ моим критикам» и «Бренча на клавикордах».
Выявляя особенности внутреннего единства набоковского макротекста, мы исследовали «специфические связи» между дискурсивным «онегинским текстом» (автокомментирующие статьи и фрагменты интервью) и текстом научной «онегианы» (т. е. Комментария). Особое внимание мы уделяем
пересечениям набоковских «отступлений» в Комментарии с интервью, данному Альфреду Аппелю (IX. 1966 г.). По нашему убеждению, «ключевые понятия» макротекста Набокова (например, «пародия - игра», «воображение -память» и др) сконцентрированы в «рекламных» (презентирующих) по природе тезисных ответах писателя на вопросы Аппеля. Мы доказали, что суть аксиом, безапелляционных заявлений, представляющих собой «темные места»-ловушки для исследователя, проясняется на фоне «онегинского текста». Например, формула «восторг - вдохновение» сигнализирует связь поздней статьи Набокова «Вдохновение», раннего эссе «Искусство литературы и здравый смысл» и Комментария. В данном случае, дискурсивные тексты Набокова развертывают схему «восторг - вдохновение» из «онегинского текста», которая в основе своей содержит «профессиональные неологизмы» Пушкина, зафиксированные Набоковым в рукописи поэта и переведенные им на «свой английский». В макротексте Набокова соотношение «воображения» и «памяти» носит «зеркальный» характер, особенно в произведениях автобиографического корпуса. На наш взгляд, набоковская формула «воображение - память» имеет пушкинскую основу. Тема метафоры воображения является одной из центральных тем «онегинского текста». Набоков связывает авторское сравнение собственной Музы с бюргеровской Ленорой в начале 8 главы с проявлением ретроспективною природы воображениям поэта. Кроме того, воспоминания Онегина в гл. 8, XXXVI-XXXVII трактуются Набоковым как форма онегинского воображения.
В «онегинском тексте» мы наблюдаем аллюзии на номинативную пару из макротекста Набокова. Формула «правда - правдоподобие», вынесенная в заглавие эссе 1937 года, содержит реминисценцию пушкинских слов из черновика; письма Николаю Раевскому-младшему периода работы над романтической драмой «Борис Годунов». Более того, «правда -правдоподобие» Набокова является метафорой пушкинских профессиональных (автобиографических) неологизмов.
Таким образом, уникальность набоковского макротекста состоит в том, что межтекстовые связи выражаются «в неких ключевых словах и понятиях», по смыслу не имеющих «ничего общего... со словарными определениями». Рїменно поэтому «его нехудожественные произведения являют собою высшую лингвистическую инстанцию» (Александров, 16), а фактуру их текстов составляют видоизмененные цитаты из разных составляющих макротекста писателя.
II ГЛАВА СТРУКТУРА «ГОГОЛЕВСКОГО ТЕКСТА» НАБОКОВА
1. Эссе В. Набокова «Николай Гоголь» как текст-медиатор.
Эссе «Николай Гоголь» впервые было опубликовано в 1944 г. на английском языке155. Перевод на русский156 скрывает очень важную деталь, ускользающую из-за некоторого смещения языковых плоскостей: Дело в том, что переведен англоязычный текст В. Набокова, а гоголевский представлен во всем «великолепии оригинала» (собственно говоря, как же иначе?). Исследователю «Николая Гоголя» языковую трансформацию необходимо воплотить в абстракции: плотно цитируемый Набоковым гоголевский текст изначально существует в ином языковом измерении - в переводе.
Набоков не признавал оправданность перевода, претендующего на художественность, поскольку его неминуемый результат — «замученный автор и обманутый читатель»157. Вот мысль писателя с огромным опытом в области художественного перевода. Не намечается ли здесь какое-то несоответствие между мыслью и бытием? Что такое и чем оправдан набоковский перевод?
Перемещение русскоязычного Гоголя в иную языковую структуру -/^нглонабоковскуюр неизбежно ведет к появлению образа иного Гоголя, поскольку структура перевода художественна - это во-первых. Во-вторых, сама художественность этой структуры определяет образную суть. Гоголь в переводе - это Гоголь в одеждах набоковского английского языка, подобно тому,, как набоковское воображение одевает «черно-белого» Гоголя, запечатленного на дагерротипе, в жилет «бутылочно-зеленого цвета с оранжевыми и пурпурными искрами, мелкими синими глазками», который «в сущности напоминает кожу какого-то заморского пресмыкающегося» (Н.Г., 35-36). «Особенная раскраска и неповторимый узор» жилета «тут же удостоверят» личность художника-модельера. Мнимость «несоответствия»
между мыслью и бытием позволяет нам говорить о переводе Набокова как особой художественной структуре, которая обуславливает появление образа (образа иного Гоголя). Этот перевод, как искусство и как действо, -восхитительный обман, который в рамках эссе превращен в языковую маску, с чего и начинается игра - взращивание уникального набоковского Гоголя, своего рода Пьера Делаланда.158
«Его (Гоголя - Б.М.) произведения <....> - это феномен языка <...>. Мои-переводы отдельных мест - это лучшее, на что способен мой бедный словарь; но если бы они были так же совершенны, какими их слышит мое внутреннее ухо, я, не имея возможности передать их интонацию, все равно не мог бы заменить Гоголя. Стараясь передать, мое отношение к его искусству, я не предъявил ни одного ощутимого доказательства его ни на что не похожей природы. Я могу лишь положа руку на сердце утверждать, что я не выдумал Гоголя. Он действительно писал, он действительно жил» (Н.Г., 131). Последние два утверждения: с нарочито чистосердечной интонацией заставляют насторожиться и преодолеть стремление поверить Набокову. Ряд смысловых намеков: «не выдумал» - «действительно — действительно», где усиление семантики происходит за счет возведения в квадрат, - дает ассоциативное воспроизведение оттенка слова «действительно» из ткани набоковского «Дара». Контекст, созданный Кончеевым вокруг «действительно», придает слову оттенок мнимости: «<...> раз в жизни, только раз, я. поблагодарил критика, и он ответил: «Что ж, мне действительно очень понравилось» - вот это «действительно» меня навсегда отрезвило».159 Некоторые набоковские слова отличньъ своей семантикой от общеупотребительных. Например, «первоклассный» не значит прекрасный, дух пародии как игры отличен от пародии в,обычном значении?этого слова («гротескное подражание»). В слово «пародия» Набоков вкладывает «то особое значение беспечной, изысканной; шутливой игры, которое позволяет говорить о пушкинском «Памятнике» как о пародии на державинский».160 Поэтому правомерна опора на оттенки семантики набоковских слов, с учетом
которых вся фраза принимает мнимо - внешне-правдивый смысл, а на широком фоне «беглых заметок о творчестве Гоголя» (Н.Г.,с. 123) - облик смыслового намека на суть образа Гоголя в рамках эссе.
Итак, логику образа набоковского Гоголя можно проследить следующим образом: его создание посредством перевода и развитие в художественной ткани «Николая Гоголя». Первое подтверждается тем; что цитируемые отрывки из «Шинели», «Ревизора» и, особенно, «Мертвых душ» велики по своему объему и, соответственно, накладывают отпечаток на методологию анализа. Набоков, делая акценты на важных для него деталях, создает необходимый ракурс восприятия отрывков за счет вкраплений в цитируемый текст.161 Сам метод анализа уже может рассматриваться как элемент развития образа набоковского Гоголя, созданного художественным переводом.
Развитию образа набоковского Гоголя подчинен стиль Набокова, который являет нам одну из граней стиля Набокова-писателя. Вот намечающаяся точка соприкосновения эссе «Николай Гоголь» с прозой Набокова и, следовательно, с его макротекстом в целом.
Гоголь в эссе Набокова «рыдает, пригнувшись к огню», «возле той печи, где были уничтожены плоды многолетнего труда», когда ему было ясно, что оконченная книга (второй том «Мертвых душ» - Б .М.) предавала его гений» (Н.Г., 123). И: только у Набокова «Чичиков, вместо того, чтобы набожно угасать в деревянной часовне среди суровых елей на берегу легендарного озера, был возвращен своей природной стихии - синим огонькам домашнего пекла» (Н.Г., 123). Гоголевская фраза - «корчится, рожая псевдочеловеческое существо» (Н.Г., 92). Огурцы Хлестаков «выращивает... в красноречивом описании своего идеала светской жизни: «На столе, например - арбуз - семьсот рублей арбуз» (а что это как не превосходная степень огурца!)» (Н.Г., 67). У Набокова: «Когда Хлестаков рассказывает о своих богемных и литературных связях, появляется чертенок, исполняющий роль Пушкина» (Н.Г., 65). Набоков пишет: «И пока Хлестаков
несется дальше в экстазе вымысла,, на сцену, гудя, толпясь, и расталкивая друг друга, вылетает целый рой важных персон <...>, эти сперматозоиды мозга, а потом все они разом исчезают в пьяной икоте...» (Н.Г., 65). У Набокова Гоголь, изображенный<на дагерротипе в три четверти, «держит в тонких пальцах правой руки изящную трость с костяным набалдашником (словно трость - писчее перо)» (Н.Г., 35).
Стилистические обороты Набокова являются как бы развернутыми стилистическими эпитетами162, насыщающими образ Гоголя, делающими его ощутимым, «теплым созданием» набоковского воображения, завершенным, реальным в измерении набоковского эссе. Поэтому его отрицание1 3 не является отрицанием, а есть лишь очередной прием, самый сильный в художественной ткани эссе. Итак, замкнулся круг, «порочный круг, как все круги, сколько бы они себя ни выдавали за яблоки, планеты или человеческие лица» (Н.Г.,.130). Логика образа иного Гоголя исчерпала себя в рамках эссе, но не в рамках набоковского макротекста в целом. В художественной ткани эссе, создающей образ, есть своеобразная «прореха» (изъян, дыра), сквозь которую «контрабандным путем» входят и выходят образы набоковских произведений, оставляя после себя неизгладимый след.
Вот он, стилистический оборот-эпитет как средство описания — «...изящная трость с костяным набалдашником (словно трость - писчее перо)» «в тонких пальцах правой руки», весьма элегантная вещица» (НіГ., 35) - прием насыщения (развития) образа Гоголя \ в рамках эссе. Но как только прозвучала «...трость...», слово провалилось сквозь «прореху» (дыру) в другое измерение, в иную плоскость. Речь.не только о слове «трость», но и об образе трости, который проникает в макротекст и живет во многих произведениях Набокова. Например, в «Соглядатае» Набоков: вручает ее (трость) мужу Матильды, на которого герой «мало обратил внимание (муж как муж)». «Только заметил его манеру кротко и гулко откашливаться в кулак, перед тем как заговорить, и тяжелую, черную, с блестящим набалдашником трость, которой он постукивал об пол...».165 Однажды героя
посетил гость - «глаза навыкате, черный равнобедренный треугольник подстриженных усов над ядовито-пухлой губой». «И вдруг началось легкое, сперва еле приметное движение: его губы, расклеившись, чмокнули, черная толстая трость в его руке чуть дрогнула, и я уже не мог отвести глаза от этой трости». Кажется сама по себе трость наносила «ослепительные и ужасные удары» хв)г
'В «Приглашении на казнь» м-сье Пьер «нетерпеливо ткнул [по плечу,
лицу, спине герояДтростью в спину вознице, который привстал и бешенными ударами бича добился чуда: кляча пустилась галопом».
Слово «черт» вообще застряло в «прорехе», потеряв одну букву. «Черт» превращается в «чет»168, в эссе остается либо «чертенок» (H.F., 65), либо «недоразвитая, вихляющая ипостась нечистого - тщедушный инородец, трясущийся, хилый бесенок с жабьей кровью, на тощих немецких, польских и французских ножках, рыскающий мелкий подлец, невыразимо гаденький» (Н.Г., 34), что снижает пафос всякой религиозной подоплеки. В набоковской «Сказке» черт - госпожа Отт. «Очень напрасно меня воображают в виде мужчины, с рогами да хвостом. Я только раз появилась в этом образе и, право, не знаю, чем именно этот образ заслужил такой длительный успех» (Сказка, 470). Не только в игривой пародийной легкости «чертовых» образов точки соприкосновений эссе и рассказа.
Набоков обращает внимание читателя на конец седьмой главы «Мертвых душ» в связи с появлением персонажа второго плана - рязанского поручика. «(Этим) кончается глава, но и по сей день поручик мерит свой бессмертный сапог, и кожа блестит, и свечи ровно горят в одиноком светлом окне мертвого городка, накрытого звездным ночным небом. Я не знаю более лирического описания ночной тишины, чем эта сапожная рапсодия» (Н.Г., 86). Не напоминает ли поручик из Рязани Эрвина, большого охотника до ... гарема, который «заказал шесть пар и беспрестанно «примеривал» первую». Даже когда кончится рассказ, Эрвин будет вечно набирать себе гарем,
потому что «все равно» ничего не изменилось. Наконец, потому что без «фантазии, трепета, восторга фантазии» - Эрвин не существует.
У Гоголя поручик в бесконечной сапожной круговерти «беспрестанно примеривал пятую» пару. У Набокова Эрвинов круг замкнулся. Это сродни смещению счета по кругу, когда счетчик, забыв, откуда начал считать, ноль принимает за тринадцать, единицу за ноль, а через круг - единицу за тринадцать. Тринадцать всегда настигает ноль. В таком положении оказался Эрвин. «Нужно иметь в виду, что только раз за свою жизнь Эрвин подошел на улице к женщине, и эта женщина тихо сказала: «Как вам не стыдно... Подите прочь.» С тех пор он избегал разговоров с ними.» (Сказка, 469). Эта единственная, инкогнито «вне счета», вне «фантазии, трепета, восторга фантазии», оказывается тринадцатой, произнесшей те же слова, что куда печальней, нежели бы это была первая по счету. Полное фиаско героя не имеет никакого значения, что отозвалось в последнем диалоге Эрвина и госпожи Отт.
«-Чет, усмехнулся Эрвин, проводя пальцами по пыльной дверце. -Знаю, знаю, - равнодушно ответила госпожа Отт. - Тринадцатая оказалась первой. Да, у вас это дело не вышло. -Жалко, - сказал Эрвин.
Жалко, - отозвалась госпожа Отт.
Впрочем, все равно сказал Эрвин.
Все равно, - подтвердила она и зевнула» (Сказка, 480).
Дама - черт во плоти, решила невинно поразвлечься, только и всего, отказавшись даже от души (вот какой пресытившийся, легкомысленный черт!). И не случайно был выбран Эрвин — «Эта робость... Это смелое воображение...» (Там же, 471). Однако, если бы только «круговерть пар» была общим мотивом между двумя «рапсодиями», правомерность их сравнений не была бы достаточной.
Набоков восхищается лирикой ночи, которая создается у Гоголя «сапожной рапсодией». В конце «Сказки» (см. с. 478-479) ночь создается
волнением погони Эрвина за роковой, тринадцатой женщиной (чертова дюжина *п). «Эта странная, молчаливая погоня по ночным улицам опьянила его. Он ускорил шаг..., но из робости не посмел оглянуться... Улица горела, прерываясь темнотой, снова горела, разливаясь блестящей черной площадью... - <...> - и Эрвин за ней, растерянный, бесплотный, опьяненный туманом огней, ночной прохладой, погоней...» «И вдруг деревья, весенние липы, присоединились к погоне: они шли и шушукались, с боков, сверху, повсюду; черные сердечки их теней переплетались у подножия фонаря; их нежный, липкий запах подбодрял, подталкивал».
Лирика ночи начинается со «знакомого сладкого сжатия, холодка под ложечкой». Буквально несколько строк назад ночь была обычная - «как вчера, небо кишело звездами». Ночь погони-игры, вся может быть - из «фантазии, трепета, восторга фантазии», вся из надежды, «прелести, теплоты и драгоценного сияния».
«Внезапно женщина остановилась...» - и какие тяжелые звуки: нарушили гармонию - чугунные (калитка), звякающие (связка ключей). «Как вам не стыдно... Подите прочь» - ее тихий голос звучал громче грохота хлопнувшей; калитки. «Эрвин остался один под умолкшими липами». Волшебная ночь смолкла. Дальше ее просто не существовало - Эрвин «повернул в темнотр>. Таким образом, если бы не было погони, не звучала бы ночь. «Сапожная рапсодия» - лирика ночной тишины, у набоковского Гоголя, и погоня - звучащая, «сказочная» рапсодия ночи.
Итак, Набоков «выдумал» Гоголя; своего рода Пьера Делаланда, и, очевидно, набоковский Гоголь присутствует в его макротексте так же неизбежно, как; «кровь Пушкина течет в жилах новой русской литературы»169, а «кровь Шекспира - в английской». Становится понятным, что имел ввиду Набоков, когда заканчивал свое эссе. «Отчаявшиеся русские критики, трудясь над тем, чтобы определить влияние и уложить мои романы на подходящую полочку, раза два привязывали меня к Гоголю, но поглядев еще раз, увидели, что я развязал узлы и полка оказалась пустой» (Н.Г., 134).
Для Набокова творчество Гоголя - это феномен языка, а не идей, поэтому слишком очевидные аллюзии, как, например, игра м-сье Пьера и Цинцинната в шахматы - на игру в шашки между Чичиковым и Ноздревым, с точки зрения иного, не набоковского понимания Гоголя воспринимаются как абсурд. (О чем подробнее смотри ниже).
«-А... как же мне знать ... Ну, например, я отметил - что дальше?
- Ничего,- сказала госпожа Отт. - Ваше чувство, ваше желание - уже приказ. Впрочем, для того, чтобы вы знали, что сделка совершена, что я согласна на тот или другой выбор ваш, я всякий раз вам дам знак: случайную улыбку самой женщины или просто слово, сказанное в толпе, - вы уж поймете» (Сказка, 472).
Разговор Эрвина с госпожой Отт как нельзя кстати. Как же знать наверняка, что набоковский Гоголь и есть Пьер Делаланд, влияние которого признавал Набоков? Может быть, Набоков даст знак - просто слово, его оттенок, интонацию, образную ассоциацию, ряд смысловых намеков, как он неоднократно делал позже в Комментарии к «Евгению Онегину». Наша задача - понять.
2. «Приглашение на казнь»: гоголевский подтекст.
«Приглашение на казнь» (1934) — роман, который очень дорог Набокову. Он был написан в одном «спонтанном» «вдохновенном порыве» всего «за две недели».170
Как уже было отмечено выше, в предисловии к английскому переводу «Приглашения на казнь» Набоков, касаясь темы литературных влияний, пишет, что на него оказал воздействие лишь один писатель. «Печальный, сумасбродный, мудрый, остроумный, волшебный и во всех отношениях восхитительный Пьер Делаланд, которого я выдумал.»171
Имя Делаланда под эпиграфом указывает на вероятную близость
1 ТУ
роману гоголевских образов, ведь Гоголя Набоков тоже «выдумал». Хотя его образ в художественной ткани эссе появился спустя десять лет, набоковский Гоголь существовал с тех пор, когда был впервые прочитан. Поэтому правомерно предположение о связи романа Набокова с гоголевскими произведениями. И прежде всего с поэмой, поскольку в эссе Набоков, делая акцент на повторе «дали» (Н.Г., 92), восстанавливает контекст звуковых реминисценций «Приглашения на казнь» и «Мертвых душ», которые предсказывают пародийно-игровой характер набоковских образов в пространстве его макротекста.173
Образ м-сье Пьера самый интересный для нас в силу своей многогранности. С развитием сюжетных линий романа образ господина французского пошиба надувается как «мыльный пузырь, пущенный чертом» (Н.Г., 90), играя переливами всех цветов радуги гоголевских персонажей. В конце романа насыщенный шар174 обнаруживает «изъян, дыру, через которую виден червяк, мизерный ссохшийся дурачок, который лежит скорчившись, в глубине пропитанного пошлостью вакуума» (Н.Г., 79), -«маленький палач, как личинка».175
М-сье Пьер появляется в романе инкогнито. Но его портрет*1 содержит множество намеков на суть образа и его развитие. «Херувимская щека» напоминает фразу из «Николая Гоголя»: «(пухлые щеки Чичикова, этого
мнимого херувима, всегда были гладкими, как атлас)» (Н.Г., 90). Параллель «херувимская» - «мнимого херувима» будет развита в романе ниже. А пока, м-сье Пьер схож с «восковой фигурой: матроска, лицо херувима и первые
длинные штаны» , ставшей причиной рождения на свет карлика в
«полосатых штанах» . Своим блеском, таянием в снопе солнечных лучей,
сахарностью, безбородостью, дивительной округлостью головы и пухлостью рук м-сье Пьер близок Чичикову, с его «недочеловеческим малопристойным телом, белым и жирным, как у гусеницы древоточца» (Н.Г., 90). «Длинные ресницы» и сквозящая между малиновых губ «белизна чудных ровных зубов» намечают развитие «линии Ноздрева». Мотив мнимости заложен в самом портрете м-сье Пьера на интертекстуальном уровне, в родстве с «набоковским» Павлом Ивановичем Чичиковым, «ибо Чичиков - фальшивка, призрак, прикрытый мнимой пиквикской округлостью плоти...» (Н.Г., 90) - Продолжение набоковской фразы в эссе предсказывает развитие образа м-сье Пьера, «который пытается заглушить зловоние ада (...) ароматами» (H.F., 90) (о чем см. ниже)
Недостаточность определения возраста - «лет тридцать» , и «старомодность» арестантской пижамки создает ощущение, что м-сье Пьер облачен в обновленные, «чистые свежевыглаженные» одежды, которые могли оказаться на господине Чичикове вследствие его «контрабандитского прошлого» (Н.Г., 90) Чичиков был взят под следствие, но «увернулся из под уголовного суда» (М.д., гл.11).
Обнаружение мнимости, иначе, превращение «херувима» (П.н.к., 78) в «мнимого херувима» (H.F., 90), обнаружение «подлинного лица» м-сье Пьера - зеркального отражения «набоковского» Чичикова, - начинается с мгновения, обманувшего Цинцинната. Вместо долгожданной Марфиньки, директор, «галантно, под локоток» ввел в камеру «толстенького полосатенького арестантика, который, прежде чем войти, остановился на половичке, беззвучно составил вместе сафьяновые ступни и ловко поклонился» (П.н.к., 92).
С навязчивой мнимо-дружеской интонацией Ноздрева*11 м-сье Пьер открывает «свою душу» Цинциннату. «С привычной прыткостью он вынул из грудного карманчика пижамной куртки разбухший бумажник», демонстрация содержимого которого напоминает «набоковское» «вскрытие души Чичикова» (H.F., 91), или «описание внутренности шкатулки» — «точной» модели округлой чичиковской души» (Н.Г., 90). Акцент Набокова в романе на слове «душа» имеет маниловские коннотации, поскольку маниловообразный Родриг Иванович (директор) просто души в нем не чаял: «Да вы, м-сье Пьер, душа общества; - проговорил он, плача; - сущая душа!» П.Н.К., 95).
Слащаво-назойливые интонации обращений м-сье Пьера к Цинциннату посылают к образам Ноздрева и Манилова одновременно: «-Все молчим да молчим, а усики у нас трепещут, а жилка на шейке бьется, а глазки мутные...»;
«Фу, какой бука... Смотрите, смотрите, - губки вздрагивают...Бука, бука!..». Сравним с обращениями Ноздрева к Чичикову (М.д., гл.4): «Ну, душа, вот это так! Вот это хорошо, постой же я тебя поцелую за это. (- Здесь Ноздрев и Чичиков поцеловались. — И славно: втроем и покатим!»), а также к зятю, просившемуся домой к своей «почтенной и верной» жене: «- Пустяки, пустяки, брат, не пущу.
Право, жена будет сердиться; теперь же ты можешь пересесть вот в ихнюю бричку. (- белокурый зять)
Ни, ни, ни! И не думай!» (М. д., гл.4).
Или: «Ба, ба, ба!» - вскричал он вдруг, расставив обе. руки при виде Чичикова..— Какими судьбами?» (М.д., гл.4). Заискивающее «бука, бука!» м-сье Пьра по логике ноздревской интонации: может превратиться в «такую дрянь!» (- говорил Ноздрев, стоя перед окном и глядя на уезжавший экипаж (зятя): «...Да ведь с ним нельзя никак сойтиться. Фетюк, просто фетюк!» (М.д., гл.4). Развитие ноздревской грани в образе м-сье Пьера мы наблюдаем в сцене игры в шахматы с Цинциннатом.
Интересно, что «бука, бука!» ассоциативно воспроизводит структуру фразы из набоковского рассказа «Обида»180 - «Ломака...Ломака»*111, что уже относится не к м-сье Пьеру, а к образу Цинцинната. «Обвиненный в страшнейшем из преступлений, в гносеологической гнусности, столь редкой и неудобосказуемой, что приходится пользоваться обиняками вроде: непроницаемость, непрозрачность...» испытывал в детстве то же самое, что и Путя: «...Неохота других детей принимать меня в игру и смертельное стеснение, стыд, тоска, которые я сам ощущал, присоединяясь к ним, заставили меня предпочесть этот белый угол подоконника, резко ограниченный тенью полуотворенной рамы...» (П.н.к., 103) Рассказ «Обида» пронизан диссонансом отношений между Путей и остальными людьми: «Путя сидел на козлах, рядом с кучером (он не особенно любил сидеть на козлах, но кучер и домашние думали, что он это любит чрезвычайно, Путе же не хотелось их обидеть, - вот он там и сидел, желтолицый, сероглазый мальчик в нарядной матроске» (Обида, 544). «<...> Путе было неловко, сидя с ним (кучером Степаном - Б.М.) рядом молчать; поэтому он пристально смотрел на постромки; на дышло, придумывая любознательный вопрос или дельное замечание» (Обида, 544-545). Близость образов - Цинцинната и Пути - подтверждается еще одной реминисценцией: «Путя подполз к многоцветному окну и замер у белого подоконника». «Белый подоконник» в «Обиде» «оттеняется» лежащей на нем «дохлой мухой» ' , -вот одна из деталей, насыщающих детскую игру тоской, досадой, обидой. Образ Цинцинната сложен и многогранен. Еще одну грань представляет его сходство с Картофельным Эльфом.
Вернемся к образу м-сье Пьера. Его походка, поза, жесты и даже дыхание напоминают нам «набоковского» Чичикова. Каждый шаг проворного толстячка является своеобразной копией с походки, свойственной «пошлякам и пошлячкам города NN» (Н.Г., 80). «Он ходил по камере, тихо, упруго ступая, подрагивая мягкими частями тела» (П.н.к., 112), «чуть вихляя задом» (Н.Г., 80), «пухлым задом», то есть «своим подлинным
лицом» (Н.Г., 78), оказавшимся на своем месте в (условно) «позитуре» «спрута»*у (П.н.к., 115). Дышал он по-чичиковски - «с легким присвистом... через нос». Сидел м-сье Пьер, по своему обыкновению, бочком к столу, с плотно скрещенными жирными ляжками» (П.н.к., 110), или «положив лапку на стол ладошкой кверху, точно предлагая Цинциннату мир» (П.н.к., 97) (... по-ноздревски -Б.М.). Закатанный рукав обнажал «под удивительно белой кожей» мышцу, переливающуюся, «как толстое круглое животное» (П.н.к., 115). Развитие образа м-сье Пьера более ощутимо (нежели в портрете*1) являет нам все прелести «недочеловеческого малопристойного тела, белого и жирного, как у гусеницы древоточца» (Н.Г., 90). Логика образа требует обнаружения мнимости, сквозившей «между малиновых губ» «белизны чудных, ровных зубов» (П.н.к., 78). Здоровые, «белые как снег зубы»*У1 оказываются «бульдожьей» (П.н.к., 116) челюстью: «М-сье Пьер поднимал крепко закушенный стул, вздрагивали натуженные мускулы, да скрипела челюсть. <...> Что-то хрустнуло. <...> Он тотчас прикрыл рот платком, быстро посмотрел под стол, потом на стул, вдруг увидел и с глухим проклятием попытался сорвать со спинки стула впившуюся в нее вставную челюсть на шарнирах. Великолепно оскаленная, она держалась мертвой хваткой. .<.. .>» (П.н.к., 116)
Интересная деталь, чичиковские прописи181 пошли на пользу письму м-сье Пьера: «барашком завитой почерк, лепота знаков препинания, подпись, как танец с покрывалом» (П.н.к., 116).
Линия Ноздрева развивается: все с большей интенсивностью: «... появилась плотная полосатая фигурка м-сье Пьера. Он шел приятно улыбаясь издали, чуть сдерживая, однако, шаг, чуть бегая глазами, как люди, которые попадают на скандал, но не хотят это подчеркивать, и нес шашечницу перед собой, ящичек, полишинеля под мышкой, еще что-то...» (П.н.к., 130). М-сье Пьер, облаченный в «полосатый архалук» Ноздрева (М.д.,
1 Я1}
гл.4), идет будто на бал к губернатору . Улыбка, бегающие глазки, случайное упоминание скандала, шашечница183, которую в «Мертвых душах»
принес «второстепенный» персонаж, полишинель - французский Петрушка (персонаж кукольного театра)184 - все это предсказывает суть важной сцены -игры м-сье Пьера и Цинцинната в шахматы (П.н.к., 134-136). Тем временем, походка м-сье Пьера несколько изменилась и стала походить на шаг «разбитного малого»: «- липко шлепая сафьяновыми туфлями, дрыгая полосатыми телесами , держа в руках шахматы , карты, бильбокэ...
- Симпатичному Родиону мое нижайшее, - тоненьким голосом
произнес м-сье Пьер и, не меняя шага, дрыгая, шлепая, вошел в камеру»
(П.н.к., 134).
Игра в «хлебные»-87 шахматы и «в гуся» «представляет собой
188'
очевидную аллюзию на игру в шашки между Чичиковым и Ноздревым» (М.д., гл.4)
Образ м-сье Пьера в этой сцене, как минимум, четырехгранен. Во-первых, утверждение «я не читаю чужих писем» и опровергающие его реплики в ходе монолога*vn напоминают нам Почтмейстера Шпекина из «Ревизора» (Д. 1, явл.2). Монолог м-сье Пьера передает ритмичность ходов («...я понимаю конечно... Вперед. Я это быстро... Хорошие игроки никогда много не думают. Вперед.») так же отчетливо, как в «Мертвых душах» диалог Чичикова и Ноздрева с повторяющимися репликами:
«- Давненько не брал я в руки шашек! - говорил Чичиков, подвигая тоже шашку.
- Знаем мы вас, как вы плохо играете! - сказал Ноздрев, выступая
шашкой» (М.д., гл.4).
Плутовские изощрения Ноздрева и ответные пререкания Чичикова*vni м-сье Пьер имитирует довольно интенсивно, причем реплики Чичикова или остаются как бы за кадром, но явно подразумеваются, или вложены в уста м-сье Пьера одновременно с ноздревскими.
«- Нет, погодите, я еще не решил, пойду ли так. Да, пойду. Как - мат? Почему - мат? Сюда - не могу, сюда не могу, сюда... Тоже не могу. Позвольте, как же раньше стояло? Нет, еще раньше. Ну, вот это другое дело.
Зевок. Пошел так» (П.н.к., 134-136). Образная двуликость м-сье Пьера ощущается в том, что он, одновременно, по-ноздревски» «нечаянно сбивает несколько фигур» и по-чичиковски смешивает фигуры. Только Чичиков в «Мертвых душах» делает это «хладнокровно». В м-сье Пьере взыграл темперамент Ноздрева, который не удержавшись, заглушил на время Чичикова. М-сье Пьер, что, вроде, раньше было ему не свойственно, «наливался малиной, топал, злился...» - вот очевидное развитие случайного упоминания о скандале.
Даже «игра в гуся» заключает в себе отсылку к мотиву скандала. «Гусь» - чичиковское словцо:
« - Эхе-хе! Что ж ты? - сказал Чичиков Селифану: - ты? - - Что? - сказал Селифан медленным голосом.
- Как что? Гусь ты! Как ты едешь? Ну же, потрогивай!» (М.д., гл.11)
Восстановленный контекст «Мертвых душ» содержит в себе образ Селифана, что очень важно для развития сюжетной линии романа.
Фраза Цинцинната «- Почему от вас так пахнет?» обнаруживает еще одну грань в образе м-сье Пьера. Не случайно он нес под мышкой Полишинеля - французского Петрушку. М-сье Пьер, господин французского пошиба, превращается в Петрушку, «угрюмого лакея» Чичикова с его «особенным воздухом» (Н.Г., 90). Контекст «Николая Гоголя» предусматривает развитие «запаха» в «зловоние ада», что, структурно проникая в метатекст, наблюдается в романе несколько позже.
«- Это у нас в семье, - пояснил он с достоинством, - ноги немножко потеют» (П.н.к., 136). До этой фразы контекст своеобразной семьи уже восстановлен - Чичиков, Селифан и Петрушка (два последние — «второстепенные» персонажи).
Чичиков в «Мертвых душах» сам потел, но поскольку «всякий... неприятный запах уже оскорблял его», он «клал себе в нос гвоздичку», когда «Петрушка приходил раздевать его и скидывать сапоги» (М.д., гл.11). Чичиков приговаривал Петрушке: «Ты, брат, черт тебя знает, потеешь, что ли. Сходил
бы ты хоть в баню.» От Селифана, видимо, пахло «мужиком, табаком,
чесноком».
Интересно заметить, что обаяние гоголевских персонажей, насыщающих образ м-сье Пьера, который играет здесь «первую скрипку», сообщается всей (условно) сцене шахмат. Аллюзия (по В. Л. Шохиной) очевидна прежде всего потому, что Набоковым сохранены сами гоголевские интонации, гоголевский дух и поэзия.
Развитие двух мотивов - мотива щек и мотива запаха - происходит в метатексте почти параллельно, что проявляется в соотнесенности с текстом эссе. Если раньше на родство щек м-сье Пьера и «набоковского» Чичикова указывало слово «херувимская», являющееся «общим:местом» для романа и эссе, то теперь оно развертывается в фразу: «(докучный сосед-арестантик) с наливным личиком, лоснящимся, как восковое яблоко» (П.н.к., 142), что делает восстановление контекста эссе более полным: «(пухлые щеки Чичикова, этого мнимого херувима, всегда были гладкими, как атлас)» (Н.Г., 90).
«Особенный воздух» «угрюмого лакея» упомянут в эссе в связи с Чичиковым, пытающимся «заглушить зловоние ада» (Н.Г., 90). Намек на «особенный воздух» м-сье Пьера вылился как продолжение в очевидную аллюзию: «М-сье Пьер <...> на мгновение, как бы невзначай, напряг руку, косясь на бирюзово-белый бицепс и распространяя свойственное ему зловоние» (П.н.к., 145).
Еще более интересным восстановлением контекста эссе «Николай Гоголь» являются соответствующие фразы (из сцены просмотра сюрприза, состоящего из огоньков в саду. Визит м-сье Пьера и Цинцинната к отцам города): «м-сье Пьер, со свистом вобрав воздух, схватил Цинцинната за кисть. Огоньки занимали все большую площадь: вот потянулись вдоль отдаленной долины, вот перекинулись...» (П.н.к., 164). Звуковая реминисценция гоголевских «вдали отдаленных» и повторная характеристика дыхания м-сье Пьера соседствуют в романе также, как
подобные явления в эссе и «Мертвых душах»: «и пересвистывались вдали отдаленные петухи (заметим повтор «дали» и дикое «пересвистывались», ведь Чичиков, засыпая, тоже свистел носом: <...>)» (Н.Г., 92).
Мотив «запаха» развивается параллельно с мотивом «отдушки», «тошнотворной и сладкой» (Н.Г., 90). Чичиков утром по воскресеньям... натирает одеколоном свое недочеловеческое, малопристойное тело,.<...> -тоже отдушка <...>» (Н.Г., 90). Явившийся «к вечеру, - как теперь завелось», м-сье Пьер бойко сказал:
« - Я их (ноги - Б.М.) сегодня припудрил, <...>так что прошу без жалоб и без замечаний. Давайте продолжим наш вчерашний разговор. Мы говорили о наслаждениях.» (П.н.к., 138).
Речь о «гастрономических наслаждениях» открывает еще одну грань образа м-сье Пьера. Прежде всего, сам эпитет отсылает к тексту эссе, где Набоков пишет об «окрашенном какой-то первобытной поэзией отношении Собакевича к еде». «...Если в его обеде можно найти некий гастрономический ритм, то размер задан Гомером» (Н.Г., 96). Как будущий «исполнитель приговора» (П;н.к., 154) м-сье Пьер делает акцент на «мяснике и его помощниках», которые «влекут свинью, кричащую так, как будто ее режут». По логике Собакевича «вся свинья разом» (Н.Г., 96), а не «солидный кусок белого сала» (П.н.к., 140) должна оказаться на тарелке. «Рыбка» м-сье Пьера перед «кусищами,, гигантскими ломтями» (Н.Г., 96), которыми Собакевич поглощает пищу, кажется извращенным гурманством. Таким образом, м-сье Пьер предстает перед нами еще и как ослабленный; вариант Собакевича.
Визит м-сье Пьера и Цинцинната к «отцам города» (П.н.к., 156) напоминает одну из сюжетных линий «Мертвых душ». «Было решено, что оные лица соберутся в пригородном доме заместителя управляющего городом» (П.н.к., 158). У Гоголя все свидетели чичиковской «покупочки» отправились к полицеймейстеру-чудотворцу: «ему стоит только мигнуть, проходя мимо рыбного ряда или погреба...(!)» «Все перешли в столовую
<. .>» (П.н.к., 159), «в ту комнату, откуда несшийся запах давно начинал приятным образом щекотать ноздри гостей и куда уже Собакевич давно заглядывал в дверь, наметив издали осетра, лежавшего в стороне на большом блюде» (М.д., гл.7). Слопаный Собакевичем осетр оказался в «Приглашении на казнь» «бесподобной рыбкой».190 Но более интересным приемом Набокова является оттенение образа м-сье Пьера путем введения в роман гоголевских «второстепенных» персонажей, а если быть более точными, - самих мертвых душ - и не только из одноименной поэмы. Ведь набоковская дама, попечительница учебного округа (что-то обобщенное из «Ревизора»: «попечитель богоугодных заведений» и «смотритель училищ») — не что иное как ожившая баба из реестра Собакевича . Набоков третий раз «воскрешает» Елизавету Воробей, так как уже у Гоголя «мертвые души оживают дважды: сперва при помощи Собакевича (который наделяет их своими тяжеловесными свойствами), а потом - Чичикова (с лирической помощью автора)» (Н.Г., 96). Серый сюртук мужского покроя- сродни мужеподобному имени «Елизаветь». Надвигающаяся на м-сье Пьера попечительница с медведеобразной*х генеральской спиной вынуждает его не по-чичиковски «крякнуть»: «Полегче, мадам, мозоли у меня не казенные». М-сье Пьер здесь не наделен чичиковской кротостью, хотя Родриг и восклицает в его адрес: «Кроткий!» (П.н.к., 154). «Природным украшением» от Собакевича является «ватрушка седого шиньончика», напоминающая проглоченные вслед за половиной бараньего бока «ватрушки, размером в большую тарелку» (Н.Г., 95).
Тем временем лицо м-сье Пьера все больше розовеет, скорее оттеняется «розовато-блондинистым», «с розовыми губками» (Н.Г., 99) Маниловым. «Общее внимание привлекала учтивая заботливость, с которой м-сье Пьер ухаживал за Цинциннатом, сразу меняя разговорную улыбку на минутную серьезность, пока бережно клал лакомый кусок ему на тарелку, -после чего, с прежним игривым блеском на розовом, безволосом лице, продолжал на весь стол остроумнейший разговор...» (П.н.к., 160). Набоков с
точностью до наоборот воспроизводит заискивающие приемы и обороты Манилова. Имеется в виду смена «заманчивой улыбки» *ХІ на «минутную серьезность», что говорит не о гротескном подражании как если бы это была пародия в традиционном смысле слова, а о гротескном переосмыслении. Слащавая улыбка не сходит с лица Манилова, в то время как сахарность (см. портрет1) м-сье Пьера «играет блеском» при контрастной серьезности и нарочитой суетливости.191
Но главным претендентом на роль Манилова является, конечно же, Родриг Иванович, представляя собой зеркальное искажение гоголевского
*ХП т-
персонажа. Его портрет содержит несколько деталей, позволяющих продолжить разговор о родстве образов Набокова и Гоголя. «Он был как всегда в сюртуке, держался отменно прямо, выпятив грудь, одну руку засунув за борт, а другую заложив за спину» (П.н.к., 49). Военная выправка напоминает осанку героя «Носа». И верно, директор словно «потерял свой нос также, как его потерял майор Ковалев» (Н.Г., 34). «Его без любви выбранное лицо, с жирными желтыми щеками и несколько устарелой системой морщин, было условно оживлено двумя, и только двумя, выкаченными глазами» (П.н.к., 49). Зато портрет судьи являет нам только нос: «на его крупном смуглом носу расширенные поры, одна из которых, на самом дуле, выпустила одинокий, но длинный волос» (П.н.к., 54),
напоминающий почему-то «шишку под самым носом у алжирского дея». Можно предположить, что слияние образов директора и адвоката в конце романа предсказано двумя портретами.
Совершенно исчезнувшие от радости глаза Манилова при встрече с Чичиковым (так, что остались только нос да губы на лице» (М.д., гл.7) искажаются в «воспаленные, лягушачьи глаза» Родрига. Хотя брошенный из-под бровей на м-сье Пьера взгляд - «влажен, как лобзание» «розовых губок» Манилова «среди плаксивыххш красот» (Н.Г., 99). Подобострастные193 интонации*Х1У, манера «галантно, под локоток» (П.н.к., 92) сопровождать м-сье Пьера или следовать за ним, почтительно уступая
ему первенство в продвижении, в речах, во всем» (П.н.к., 152) пародируют (пародия-игра) действия Манилова*ху.
Предложенная Цинциннату папироса*ХУІ, реплика «Табачок-то*ХУІ не крепковат?» (П.н.к., 51), а также замечание об отсутствии в камере
194 г "
пепельницы напоминают «быть может, самый выразительный символ — горки золы, которую Манилов выбивал из трубки и аккуратными рядками расставлял на подоконнике; единственно доступное ему художество» (Н.Г., 99-100). Кресло, в котором был
посажен директором Цинциннат - «зеленое, с антимакассаром195 <...>, стоявшее особняком в штофном полусумраке около складок портьер» (П.н.к., 150) - видимо, «затесалось» сюда-из «неряшливой обстановки, где мебель обивали шелком, но его недоставало, и поэтому два кресла «стояли обтянуты просто рогожею» (Н.Г., 90).
Интересно, что «штукенция» из лексикона Родрига имеет «игровое окончание кухонной латыни» (Н.Г., 88), тоже; что и превращенные «пики» в «пикенцию» у Гоголя.196
Вернемся к «розовому», «красиво подрумяненному» (П.н.к., 176) м-сье Пьеру, а именно к сцене приглашения Цинцинната на казнь (П.н.к., гл. 19).
Произнесенный «смешным тонким голосом» м-сье Пьера «экипаж» оказывается «старой облупившейся коляской», что создает сразу два фона действия. «Экипаж», несомненно, Коробочкин. Жаркий свет у ворот, золотивший рассыпанную солому, запах нагретой крапивы, да в стороне толпившаяся «дюжина сдержанно гагакающих гусей» (П.н.к., 180) напоминают увиденный Чичиковым из низкого окна двор Коробочки (М.д., гл.З). Более того, «лошадь» (она же и «гнедая кляча») «дернула, но не сразу могла взять и осела задом» - зеркально-искаженное движение падающих на передние коленки неподкованных лошадей Коробочки. *xvn - Не случайно «хлопали, хляпали копыта». Махающее «рукавом пугало в продавленном цилиндре» «среди подсолнухов и мальв» «в соседнем саду» похоже на водруженные в огороде «несколько чучел на длинных шестах, с
растопыренными руками». Тем более «на одном из них надет был чепец самой хозяйки» (М.д., гл.З).
Описание «старой, облупившейся коляски» *ХУШ содержит аллюзию на «колясчонку» Ноздрева, которая тащилась, беспрестанно отставая, пустая, влекомая какой-то длинношерстной четверней тощих обывательских лошадей с изорванными хомутами и веревочной упряжью197. Причем, целая четверня тощих убралась у Набокова в одной - «такой (!) тощей». - Отсюда такое богатство эпитетов. Реплики м-сье Пьера «-... но не стоит об этом вспоминать, люди моего нрава вспыльчивы, но и отходчивы. Обратим лучше внимание на поведение прекрасного**1* пола» (П.н.к., 182) сказаны, видимо,
тенью Ноздрева . Сброшенный Ноздревым «картуз с головы» на стол в придорожном трактире (М.д., гл.4) оказался едва не сбитым «картузом с головы» Романа, по дороге на казнь (П.н.к., 182).
Чичиковская грань образа м-сье Пьера проявляется здесь отчетливо1 9. Павел Иванович «занес ногу на ступеньку, и понагнувши бричку на правую сторону, потому что был тяжеленек, наконец поместился» (М.д., гл.З) (заметьте звуковое родство с «потеснился» - Б.М.). Но самым* забавным фокусом Набокова является вручение м-сье Пьеру фразы, которую думал про себя: гоголевский Чубарый: «Ты все-таки какой-то бессердечный, - сказал м-сье Пьер, вздохнув<...>» (П.н.к., 182).
«... Небось знает, где бить! Не хлыснет прямо по спине, а так и выбирает место, где поживее: по ушам зацепит или под брюхо захлыснет» -думал лукавый чубарый, припрядывая ушами: «Хитри, хитри! Вот я тебя перехитрю! — говорил Селифан, приподнявшись и хлыстнув кнутом ленивца. -Ты знай свое дело, панталонникты немецкий! <...>» (М.д., гл.З). Продолжение реплики м-сье Пьера*хх является реминисценцией гоголевской конструкции, кроме того содержит однородное с гоголевским фонетическое явление (см. далее).
Остановимся на образах Родрига и Романа. Директор и адвокат начинают сливаться в одно, что доказывает обращение к ним м-сье Пьера: « -
Но, но, полегче шуты» (П.н.к., 157). Следовавшие за м-сье Пьером (гл. 19) «еще двое, в которых почти невозможно было узнать директора и адвоката» <...> «оказались между собою схожи, и одинаково поворачивались одинаковые головки их на тощих шеях, головки бледно-плешивые, в шишках с пунктирной сизостью с боков и оттопыренными ушами» (П.н.к., 175-176). Более показательна речь «льстивого Романа», которая по сути своей свойственна Родригу. *XXI Эти двое неразлучны в двадцатой главе: «с разрешения; хозяина, пошли вперед - большими, довольными шагами, деловито размахивая руками, перегоняя друг друга, и с криком скрылись за углом» (П.н.к., 179). Директор и адвокат напоминают двух городских помещиков из «Ревизора» - Петра Ивановича Бобчинского и Петра Ивановича Добчинского. «Оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немного выше и сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского.»200 Набоковское зеркало превратило их в «осунувшихся, помертвевших, одетых в серые рубахи, обутых в опорки, - без всякого грима, без подбивки и париков, со слезящимися глазами, с проглядывающим сквозь откровенную рвань чахлым телом» (П.н.к., 175-176). Родриг и Роман влезли на козлы коляски м-сье Пьера, причем Родриг некоторое время «был за кучера». И тем, что «хлопнул длинным бичом», затем, «приподнявшись и наклонившись вперед», «стегнул по вскинутой морде», он становится похож на кучера; Селифана из «Мертвых душ». Сидевшие на козлах были совершенно одинаковы своими «тощими; серыми, согнутыми спинами». В конце последней: главы спустившегося с помоста Цинцинната «догнал во много раз уменьшившийся Роман, он же Родриг». «Цинциннат его отстранил, и тот, уныло крикнув; отбежал, уже думая только о своем спасении» (П.н.к., 186-187).
Важно проследить развитие мотива щек. Время от времени Родриг Иванович «производил такое движение отвислыми щеками и напудренным,
как рахат-лукум, подбородком, словно высвобождал их из какой-то вязкой, засасывающей среды» (П.н.к., 153). Движение трясущимися щеками имеет что-то бульдожье-общее с челюстью м-сье Пьера («бульдожьи следы» на стуле). Наблюдается подобострастное подражание Родрига манерам м-сье Пьера: «сидел в кресле<...>, опустив одну лиловатую лапу на подлокотник» (П.н.к., 153). Наконец, «надув щеки и выпустив со свистом воздух, повернулся к Цинциннату» (П.н.к., 92). У Цинцинната, кстати, были «колючие щеки» (П.н.к., 83) и длинные, светлые и пушистые, жидкие усы (П.н.к., 48) - детали; подчеркивающие его непрозрачность (ср. с «безбородостью» м-сье Пьера). Рука-тень, «важно расправляющая ус» (П.н.к., 164), как и длинные усы Цинцинната, напоминают «усы в аршин» гоголевского фельдъегеря.*5001 (М:д., гл.11)
WITT
Некоторые детали, связанные в набоковской конструкции с
образом тюремщика Родиона, отсылают как к тексту эссе, так и непосредственно к «Мертвым душам». Остановимся на трех реминисценциях образа Коробочки. Самая очевидная аллюзия - на часы Коробочки. «Слова хозяйки были прерваны страшным шипением, так что гость (Чичиков — Б.М.) было испугался; шум походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями; но взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипением тотчас же последовало хрипенье, и, наконец, понатужась всеми силами, они пробили два часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять спокойно щелкать направо и налево» (М^д., гл.З). «Захрипели перед боем часы» — вариация гоголевской конструкции; Но аллюзия на часы Коробочки была бы неполной; если бы отсутствовал: сам бой часов и движение маятника. Эти детали разбросаны друг от друга на расстоянии нескольких глав. Цинциннат советует своей матери обратить внимание на часы в коридоре тюрьмы. «Это — пустой циферблат, но зато каждые полчаса сторож смывает старую стрелку и малюет новую,. - вот так и живешь по крашенному времени, а звон производит часовой, почему он так и зовется»
(П.н.к., 128). Сравнительный оборот с глаголом в сослагательном наклонении («таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку»), реализован Набоковым в действие, реально возможное в его романе — «звон производит часовой». Отметим каламбур со словом «часовой», который предполагает потенциальное значение «стражник», может быть - «будочник» (не будем торопиться). Движение маятника, а вернее, «покойное» щелканье направо и налево, ощущается в романе посредством беззвучно вспыхивающего блика маятника, откалывающего крупные секунды. (П.н.к., 150). Итак, образ мнимых часов во всем романе («пустой циферблат», звон часового, «блик маятника») являет собой пародию (пародия-игра) на часы Коробочки.
Набоковская конструкция: «захрипели перед боем часы» — «затем, полагая, что Цинциннат спит, довольно долго смотрел на него, <...>» с точностью до наоборот воспроизводит часть фразы из «Мертвых душ». «Часы опять испустили шипение и пробили десять; в дверь выглянуло женское лицо и в ту же минуту спряталось, <...>» (М.д., гл.З). Выглянувшее лицо показалось Чичикову «как будто несколько знакомо». Это была Коробочка, коллежская секретарша.
В эссе Набоков цитирует огромный отрывок из поэмы Гоголя, прерывая его внутритекстовыми комментариями (Н.Г., 91-93). Внезапный приезд Коробочки, а именно «шум и визг от железных скобок и ржавых винтов, разбудили на другом конце города будочника (тут в самой отменной гоголевской- манере рождается еще один персонаж! )».Интересно заметить, что набоковский сравнительный оборот («опираясь на метлу, как на алебарду») возрождает гоголевского побочного персонажа - будочника, который, «подняв свою алебарду, закричал спросонья что стало мочи: «Кто идет?» - но увидев, что никто не: шел, а слышалось только издали дребезжанье, поймал у себя на воротнике какого-то зверя и, подошед к фонарю, казнил его тут же у себя на ногте. После чего, отставивши алебарду, опять заснул по уставам своего рыцарства» (H.F., 93 - М.д., гл.8). Очевиден
обратный порядок действия Родиона - сначала «долго смотрел», «опираясь на <...> алебарду», и только «неизвестно до чего додумавшись, он зашевелился опять». «Опять заснул» - «зашевелился опять» - набоковский повтор с точностью до наоборот.
Образы детей Марфиньки - Диомедона и Полины - напоминают двумя деталями детей Манилова. Имя первого - своим греческим происхождением (ср.: Фемистоклюс и Алкид). «Бедняжка» (Полина) «была обвязана салфеткой, - забыли видно снять после завтрака» П.н.к., 105). Вспомним, что «в столовой <...> слуга завязал детям» Манилова «нашею салфетки» (М.д., гл.2). У Набокова «два мальчика» Манилова объединились с детьми Добчинского - Ваней и Лизанькой (которым вскользь уделяется внимание в
#YYV
эссе ) - неслучайно у детей Марфиньки разные отцы.
Чичиковской деталью оттенен образ Цецилии Ц. «Его (Цинцинната — Б.М.) мать высморкалась с необыкновенным медным звуком, которого трудно было ожидать от такой маленькой женщины» (П.н.к., 127). Господин Чичиков «в приемах своих <...>имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба» (М.д., гл.1).
Набоковский прием насыщения образов романа отдельными чертами и главных и так называемых побочных персонажей Гоголя является элементом игры, позволяющим сложить множество неповторимых узоров в обширном и загадочном пространстве метатекста.
3. Гоголевский подтекст в прозе В, Набокова: фонетический аспект.
«Онегинский текст» Набокова и его функции в макротексте писателя
Истоки набоковской «реальности Пушкина»55 обнаруживаются в тексте парижской речи 1937 года «Пушкин, или Правда и правдоподобие» («Pouchkine, ou le vrai et le vraisemblable»56). Эссе сирийского периода относится к числу немногих франкоязычных произведений Набокова. Психологические и художественные причины обращения писателя к французскому языку в раннем пушкинианском тексте очевидны в более позднем высказывании Набокова - автора англоязычного «онегинского текста». В интервью Жану Дювиньо (X. 1959 г.) Набоков подчеркивает: «Моя либеральная в политическом плане и космополитическая семья приучила меня жить в интернациональном климате, где французский и английский языки занимали то же место, что и русский...» Однако далее писатель-полилингвист признается в более определенной литературной эмпатии: «Я очень близок к французской литературе, и я не первый русский писатель, который в этом признается!.. Я особенно люблю Флобера... Мне давно известно, что во Франции имеются «стендалисты» и «флоберисты». Сам я предпочитаю Флобера»57.
В лекции о «Госпоже Бовари» В. Набоков пишет: «Гоголь назвал «Мертвые души» поэмой; роман Флобера тоже поэма в прозе, но лучше построенная, с более плотной и тонкой фактурой. Чтобы сразу окунуться в суть дела, я прежде всего хочу обратить ваше: внимание на то, как Флобер употребляет союз «и» после точки с запятой. (Точку с запятой в английских переводах иногда заменяют просто запятой, но мы вернем правильный знак на место.) Пара «точка с запятой - и» следует за перечислением действий, состояний или предметов; точка с запятой создает паузу, а «и» завершает абзац, вводя ударный образ, живописную деталь — описательную, поэтическую, меланхолическую или смешную. Это особенность флоберовского стиля».
Любопытно, что Набоков употребляет флоберовский синтаксический прием - союз «и», следующий после точки с запятой - именно во французской речи о Пушкине, задолго до лекции. Причем функция этого приема совпадает с той, которую Набоков подмечает у Флобера - оба писателя таким образом выделяют «ударный образ». В эссе «Пушкин, или Правда и правдоподобие» Набоков пишет: «Те из нас, кто действительно знают Пушкина - поклоняются ему с редкой пылкостью и искренностью; и. так радостно сознавать, что плоды его существования и сегодня наполняют душу... Преклоняясь перед блеском его черновиков, мы стремимся по ним распознать каждый этап взлета его вдохновения, которым создавался шедевр. Читать все до одной его записи, поэмы, сказки, элегии, письма, драмы, критические статьи, без конца их перечитывать — в этом одна из радостей нашей жизни»5 .
Итак, парижская речь 1937 г., опубликованная как франкоязычный пушкинологический этюд, содержит стилистические реминисценции французской поэтической прозы. Кроме того, в нем создается стилизованный образ русского поэта с темпераментом француза. Он развивается в дальнейшем в Комментарии к «Евгению Онегину», где франкоязычная «цитатность» оригинального текста («плагиаты» Пушкина) нашла отражение в англо-французском переводе Набокова.
Пушкин не только творит под определяющим воздействием французской поэзии и французского литературного языка своего времени, но и сам оказывается человеком французского темперамента, своего рода французом на русской почве. В Комментарии Набоков, обращая внимание на опущенную поэтом строфу восьмой главы «Евгения Онегина» («Пушкин выбросил длинный рассказ о своей юности в Лицее», Комментарий, 521) и разбирая строки с «восхитительной звенящей аллитерацией» Когда французом называли / Меня задорные друзья..., объясняет прозвище юного Пушкина, полученное им «не в силу особенно глубоких познаний в языке, но благодаря... подвижности и необузданному темпераменту» (Комментарий, 524). Ключ к разгадке истинного значения прозвища Набоков видит в пояснении, которое было добавлено Пушкиным к своей подписи «Француз» 19 октября 1828 г. в Петербурге во время ежегодной встречи лицейских выпускников: «смесь обезьяны с тигром». Набоков так комментирует эту автохарактеристику поэта: «Я обнаружил, что Вольтер в «Кандиде» (гл. 22) характеризует Францию как... «страну, где обезьяны дразнят тигров», а в письме к мадам Дюдеффан... использует ту же метафору, разделяя всех французов на передразнивающих обезьян и свирепых тигров» (Комментарий, 524-525). Впервые к вольтеровско-пушкинской метафоре Набоков обращается в эссе «Пушкин, или Правда и правдоподобие», замечая: «Обезьяна и тигр таились в этом великом русском» 60. Таким образом, русский поэт представлен как идеальный француз, сочетающий в себе обе стороны национального характера: и обезьяний комизм, и свирепость тигра (по формуле Вольтера).
Все это объясняет, почему первоначально Набоков переводил Пушкина именно на французский язык. Своеобразным экспериментом является-перевод «онегинской» — четырнадцатистрочной — строфы из неоконченной поэмы Пушкина «Езерский». Однако, переведя несколько стихотворений на французский, Набоков в конце концов пришел к выводу о том, что перевод не способен передать музыку пушкинского стиха, «где слова совершенно простые сами по себе становятся как бы немного больше натуральной величины, словно от прикосновения Пушкина они вернули свою первозданную полноту, свою свежесть, .которую потеряли у других поэтов» . Пушкинские слова раскрывают свой смысл во взаимодействии друг с другом. Механика их взаимодействия основана на четком расположении рифм в онегинской строфе62 , которое невозможно воспроизвести (ни на французском, ни на английском языках) стремясь одновременно к точной передаче смысла. Во-первых, потому что онегинская строфа — стихотворная структура, пародийная по отношению к анакреонтическому сонету, единственное отклонение от которого «состоит в расположении рифм еесс во втором катрене, но отклонение это решающее. Один шаг назад от еесс к есес вернет онегинскую строфу в четкие рамки анакреонтического сонета»63. Во-вторых, так как английское понятие о рифме: не соответствует русскому (См. «Заметки о просодии»). Поэтому, переводя «Евгения Онегина», Набоков был вынужден отказаться от предоставления самого веского доказательства оригинальности романа - его мелодики, оправдывающей содержание как общераспространенных клише французской поэзии рубежа XVIII-XIX веков, так и конкретных ее образцов. Последнее обстоятельство повлияло на включение французской лексики в перевод пушкинского романа на английский язык. «Для того, чтобы передать на английском языке столь частые в русском подлиннике» слова «томность», «нега», «нежный», «умиление», «жар», «бред», «пламень», «залог», «досуг», «желание», «пустыня», «мятежный», «бурный», «ветреный» и т. д, отмечает Набоков, переводчику необходимо иметь в виду весь ряд французских аналогов - общих мест, условностей, штампов, посреднический: диктат которых неизбежен между идеальным английским переложением: романа. в стихах и оригинальным текстом.
Эссе В. Набокова «Николай Гоголь» как текст-медиатор
Таким образом, очевидно автобиблиографическое единство не только двух Комментариев (к гл. 8, XXXV и к гл. 2, XVI), но и библиографических предпочтений юного Ленского и юного лицеиста Пушкина130. Существует и более ощутимая связь образа юного Ленского с образами юных друзей Пушкина - эссе о Дельвиге внутри комментария к гл. 6, строфе XX, где «бедный. Ленский» накануне дуэли изображен «в лирическом жару, / Как Дельвиг пьяный на пиру». Однако наиболее виртуозным проявлением воображения комментатора является предположение Набокова о том, что именно в «Северных цветах» Дельвига на 1825 г., который «вышел в свет в рождественские дни 1824-го» (ведь Онегин зимой 1825 г. в гл. 8, XXXV читает журналы за ушедший год) наш «постаревший беглец» мог прочесть строфы (гл. 2, VII-X), посвященные «чистой душе юного идеалиста, которого он убил четырьмя годами ранее (14 янв. 1821 г. )» (С. 582). Именно это проявление явтж?библиографической «инициативы» Набокова нашло развитие в набоковском комментарии к гл. 8, XXXVI и XXXVII, 4 Свой пестрый мечет фараон. - «Великолепный образ игры в «фараон» заставляет нас вспомнить строфы о карточной игре второй главы, отвергнутые нашим поэтом. Мертвый юноша навеки запечатлен в сознании Онегина, в его мозгу всегда будут звучать страшные слова, небрежно брошенные Зарецким, и вечно будет таять снег того морозного утра под пролитой кровью и жгучими слезами раскаяния» (Комментарий, 585). Основа набоковского приема заполнения онегинской книжной полки, которую Пушкин оставил фантомной, прежде всего в педантичном отношении к временным срезам, к временным сдвигам; и шире - сдвигам реальностей. В комментарии к гл. 8, XXXV ш, 7-8 Набоков пишет о том, что Онегин «мог с улыбкой прочесть, испытывая смесь ностальгии и удовольствия, о самом себе, Каверине, Чаадаеве, Катенине и Истоминой в снисходительном рассказе своего старого приятеля о жизни молодого повесы в 1819 - 1820 гг.» получив первую главу «Е.О.» «в последнюю неделю февраля 1825 г.» (С. 582). На наш взгляд, Набоков связывает пушкинский прием зеркального отражения в конце романа его начала (так называемые «ласточкины хвосты» (С. 42) в структуре «Евгения Онегина») с приемом завуалированного авто-анонсирования XXII строфы 7 главы в статье «Литературной газеты»132 сквозной темой макротекста Пушкина - темой собственных произведений. Анонимная заметка в «Литературной газете» от 1 января 1830 г., анонсирующая будущий перевод «Адольфа» Вяземским, который в конечном итоге оказался «нескладным» и «неточным» (как справедливо критиковал Полевой - «влиятельный критик, который десятью годами ранее перевел «Адольфа», правда еще менее удачно» (С. 502)), содержит многозначительно-неопределенный текст строфы XXII, гл. 7 editio optima. Из статьи «Публикация «Евгения Онегина» (раздел «Вступление переводчика») мы узнаем, что XXII строфа была напечатана только вместе с первым отдельным изданием главы седьмой 18-19 марта 1830 г. (см. с. 78, 19-ый пункт статьи «Публикация «Евгения Онегина»). Видимо и тут «наш поэт» «под маской фиглярства», бравурной анонимности «протаскивает свою правду» - анонс строфы «Онегина», до выхода в свет которой (как и всей гл. 7) оставалось еще два с половиной месяца. Прием автоцитаты, аналогичный пушкинскому, применен Набоковым в «анонсирующих» интервью как организующий целостность макротекста.
Набоков рассматривает великолепную пушкинскую метафору игры онегинского воображения в «фараон» воспоминаний во взаимосвязи с библиографическим перечнем в строфе XXXV, 8 гл., который напоминает своей неопределенностью (неконкретностью) первый черновой вариант стихов 3-12, строфы XXII, 7 главы. На взаимосвязь двух Комментариев — к гл. 8, XXXV и к гл. 7, XXII - указывает статья «Структура «Евгения Онегина»» к гл. Г, XXXVII-XLIV: «Круг чтения Онегина, намеченный несколькими именами в гл.1, V и VI (Ювенал, два стиха из «Энеиды», Адам Смит), характеризуется в гл.1, XLIV обобщенно, без имен и названий, к нему будет вновь привлечено внимание в гл.7, XXII и 8, XXXV» (Комментарий, 47). Кроме того, Набоков отсылает к своему комментарию к гл. 8, XXXV, 2-6 , сопровождая примечаниями черновой перечень из четырнадцати имен (гл. 7), который явно превышает каталог из десяти книг Онегина -«постаревшего беглеца» и затворника зимы 18247 1825 г. в период любовной тоски по Татьяне. Почему Пушкин отказался от такой строфы в окончательном тексте седьмой главы и помещает аналогичную по неопределенности и многозначности в восьмой! Интуиция, подкрепленная исследовательской логикой, подсказывала Набокову, что список седьмой главы, где мы видим библиотеку в замке Онегина глазами Татьяны, не должен быть большим, чем в восьмой, поскольку онегинское «запереться и читать» «от нечего делать», убивая скуку134-— до гибели Ленского и бегства Онегина, как в прямом смысле (путешествие), так и в переносном - от себя -не тождественно «запереться и читать» в 8-ой главе, когда Онегину, по большому счету, в самом деле все равно, что читать. Как (?!) он читает? - в безумстве, весь в своих мыслях, мечущихся между строк перед глазами, глотая книги как воздух, он ищет в них спасения и не находит. Набоков исследует психологическое состояние Онегина-«читателя» в комментарии к 8-ой главе (XXXIV-XXXVII) и функциональную значимость пушкинского приема перечисления библиографических имен — так называемой «скороговорки фокусника»136. Теперь становится ясно, что пушкинская «забава» с рифмой, ямбом, библиографическим перечнем в варианте строфы XXII, гл. 7 обернулась в гл. 8, XXXIV-XXXVIII в стилистическую необходимость сюжета.
«Приглашение на казнь»: гоголевский подтекст
Эссе «Николай Гоголь» впервые было опубликовано в 1944 г. на английском языке155. Перевод на русский156 скрывает очень важную деталь, ускользающую из-за некоторого смещения языковых плоскостей: Дело в том, что переведен англоязычный текст В. Набокова, а гоголевский представлен во всем «великолепии оригинала» (собственно говоря, как же иначе?). Исследователю «Николая Гоголя» языковую трансформацию необходимо воплотить в абстракции: плотно цитируемый Набоковым гоголевский текст изначально существует в ином языковом измерении - в переводе.
Набоков не признавал оправданность перевода, претендующего на художественность, поскольку его неминуемый результат — «замученный автор и обманутый читатель»157. Вот мысль писателя с огромным опытом в области художественного перевода. Не намечается ли здесь какое-то несоответствие между мыслью и бытием? Что такое и чем оправдан набоковский перевод?
Перемещение русскоязычного Гоголя в иную языковую структуру -/ нглонабоковскуюр неизбежно ведет к появлению образа иного Гоголя, поскольку структура перевода художественна - это во-первых. Во-вторых, сама художественность этой структуры определяет образную суть. Гоголь в переводе - это Гоголь в одеждах набоковского английского языка, подобно тому,, как набоковское воображение одевает «черно-белого» Гоголя, запечатленного на дагерротипе, в жилет «бутылочно-зеленого цвета с оранжевыми и пурпурными искрами, мелкими синими глазками», который «в сущности напоминает кожу какого-то заморского пресмыкающегося» (Н.Г., 35-36). «Особенная раскраска и неповторимый узор» жилета «тут же удостоверят» личность художника-модельера. Мнимость «несоответствия» между мыслью и бытием позволяет нам говорить о переводе Набокова как особой художественной структуре, которая обуславливает появление образа (образа иного Гоголя). Этот перевод, как искусство и как действо, -восхитительный обман, который в рамках эссе превращен в языковую маску, с чего и начинается игра - взращивание уникального набоковского Гоголя, своего рода Пьера Делаланда.158
«Его (Гоголя - Б.М.) произведения .... - это феномен языка ... . Мои-переводы отдельных мест - это лучшее, на что способен мой бедный словарь; но если бы они были так же совершенны, какими их слышит мое внутреннее ухо, я, не имея возможности передать их интонацию, все равно не мог бы заменить Гоголя. Стараясь передать, мое отношение к его искусству, я не предъявил ни одного ощутимого доказательства его ни на что не похожей природы. Я могу лишь положа руку на сердце утверждать, что я не выдумал Гоголя. Он действительно писал, он действительно жил» (Н.Г., 131). Последние два утверждения: с нарочито чистосердечной интонацией заставляют насторожиться и преодолеть стремление поверить Набокову. Ряд смысловых намеков: «не выдумал» - «действительно — действительно», где усиление семантики происходит за счет возведения в квадрат, - дает ассоциативное воспроизведение оттенка слова «действительно» из ткани набоковского «Дара». Контекст, созданный Кончеевым вокруг «действительно», придает слову оттенок мнимости: « ... раз в жизни, только раз, я. поблагодарил критика, и он ответил: «Что ж, мне действительно очень понравилось» - вот это «действительно» меня навсегда отрезвило».159 Некоторые набоковские слова отличньъ своей семантикой от общеупотребительных. Например, «первоклассный» не значит прекрасный, дух пародии как игры отличен от пародии в,обычном значении?этого слова («гротескное подражание»). В слово «пародия» Набоков вкладывает «то особое значение беспечной, изысканной; шутливой игры, которое позволяет говорить о пушкинском «Памятнике» как о пародии на державинский».160 Поэтому правомерна опора на оттенки семантики набоковских слов, с учетом которых вся фраза принимает мнимо - внешне-правдивый смысл, а на широком фоне «беглых заметок о творчестве Гоголя» (Н.Г.,с. 123) - облик смыслового намека на суть образа Гоголя в рамках эссе.
Итак, логику образа набоковского Гоголя можно проследить следующим образом: его создание посредством перевода и развитие в художественной ткани «Николая Гоголя». Первое подтверждается тем; что цитируемые отрывки из «Шинели», «Ревизора» и, особенно, «Мертвых душ» велики по своему объему и, соответственно, накладывают отпечаток на методологию анализа. Набоков, делая акценты на важных для него деталях, создает необходимый ракурс восприятия отрывков за счет вкраплений в цитируемый текст.161 Сам метод анализа уже может рассматриваться как элемент развития образа набоковского Гоголя, созданного художественным переводом.
Развитию образа набоковского Гоголя подчинен стиль Набокова, который являет нам одну из граней стиля Набокова-писателя. Вот намечающаяся точка соприкосновения эссе «Николай Гоголь» с прозой Набокова и, следовательно, с его макротекстом в целом.
Гоголь в эссе Набокова «рыдает, пригнувшись к огню», «возле той печи, где были уничтожены плоды многолетнего труда», когда ему было ясно, что оконченная книга (второй том «Мертвых душ» - Б .М.) предавала его гений» (Н.Г., 123). И: только у Набокова «Чичиков, вместо того, чтобы набожно угасать в деревянной часовне среди суровых елей на берегу легендарного озера, был возвращен своей природной стихии - синим огонькам домашнего пекла» (Н.Г., 123). Гоголевская фраза - «корчится, рожая псевдочеловеческое существо» (Н.Г., 92). Огурцы Хлестаков «выращивает... в красноречивом описании своего идеала светской жизни: «На столе, например - арбуз - семьсот рублей арбуз» (а что это как не превосходная степень огурца!)» (Н.Г., 67). У Набокова: «Когда Хлестаков рассказывает о своих богемных и литературных связях, появляется чертенок, исполняющий роль Пушкина» (Н.Г., 65). Набоков пишет: «И пока Хлестаков несется дальше в экстазе вымысла,, на сцену, гудя, толпясь, и расталкивая друг друга, вылетает целый рой важных персон ... , эти сперматозоиды мозга, а потом все они разом исчезают в пьяной икоте...» (Н.Г., 65). У Набокова Гоголь, изображенный на дагерротипе в три четверти, «держит в тонких пальцах правой руки изящную трость с костяным набалдашником (словно трость - писчее перо)» (Н.Г., 35).
Гоголевский подтекст в прозе В. Набокова: фонетический аспект
Глава эссе под названием «Наш господин Чичиков» имеет небольшую подглаву, посвященную гоголевскому описанию сада Плюшкина (Н. Г., 88-90). Одну треть ее занимает цитата из «Мертвых душ». Для нас интересно то, на чем делает акцент Набоков, предваряя описание сада. Во-первых, гоголевские форма и цвет не являются «очертаниями, подсказанными рассудком». Более того, «фасеточный глаз становится единым, необычайно сложным органом», что очевидно в самих образах гоголевского описания: форма и цвет пронизывают друг друга, сливаются в одно и развиваются? вместе. Во-вторых, интересен набоковский акцент на таком удивительном явлении, как «дрожащий узор света и тени на земле под деревьями или цветовые шалости солнца на листве», которое живописует Гоголь. Последуем за Набоковым: еще раз прочтем «Описание сада Плюшкина» и обратим внимание на гоголевские образы описания. 1 (см. приложение к )
Вершины дерев - это зеленые облака и неправильные трепетолистные купола. Зеленые - трепетолистные. Облака - неправильные купола. Цвет и форма переплетаются, дают новые оттенки. Трепетанье зеленых листьев не может давать строго зеленый цвет. Трепетаньем создается дыхание, воздушность, нечеткое очертание границ оттенков одного цвета, подобно хроматической гамме, где разница между звуками в тон - полутон. Отсюда -облачность формы. Ассоциативно рожденная форма развивается в живую, «трепетолистную» (живущую, трепетную), насыщается,эпитетом «купола», который дает оттенок грандиозности размеров. Форма у Гоголя не константна. Подобно усиливающемуся звуковому потоку - крещендо, она набухает с каждым эпитетом; становится все шире (лежали— соединенные), все выше (на небесном) и шире (горизонте), и, наконец, являет собой такую мощь и грандиозность, которая дана только «возросшимся на свободе» и «возросшимся деревам».
Цвет и форма ствола березы сосуществуют не только сами с собой, но ив контрасте с предыдущими цветоформами. Форма колоссальная, и без того стремящаяся вверх, подымается (не «поднимается» - усиливается эпичность образа) и круглится на воздухе. Чувствуется, что форма не только округлая, а и вращающаяся, причем это ощущение усиливается сверкающей белизной и правильной мраморностью, стремлением вверх со скоростью света по скользящей снежно-ледовой колонне. Стремление формы преодолеть густоту и мощь цвета-краски как горизонтального уровня «зеленой гущи» вылилось бы в бесконечность с бешеной силой, если бы не «косой остроконечный излом» ствола, которым он «оканчивался кверху». Невероятного (!) качества излом (острый излом, косо-острый, косой излом, конечный - оканчивающийся кверху) усилен контрастной конечной темнотой (цвет через действие - «темнел»), поэтому стремящаяся гладкая белизна не могла не споткнуться, не превратиться «вместо капители» в «шапку или черную птицу».
Хмель как образ гоголевского описания «живет» сам по себе, и как истинный эгоцентрик считает, что созданные ранее «зеленые гущи» и «колоссальный ствол березы» для него - вездесущего и всеобъемлющего, всего лишь - «верхушки частокола» и «до половины сломленная береза». Хмель - самый подвижный, легкий, игривый и свободный, наиболее яркий представитель живой формы. Хмель — «глушивший внизу...» и «пробежавший потом на верхушке» «взбегал вверх», «обвивал», «достигнув середины», «свешивался вниз», «начинал цеплять» (будто задира) или же свободно, хаотично «висел на воздухе». Легкостью кудрявых «тонких цепких крючьев», «легко колеблемых воздухом» усиливается легкость формы до невесомости; Повтор: «висел на воздухе» - «легко колеблемые воздухом» сродни «косому остроконечному излому, оканчивавшемуся кверху», и, особенно, «воздушным эскадронам мух, поднятых легким воздухом» (Н. Г., 84); а также «пересвистывались вдали отдаленные петухи» (Н.Г., 92). Последние два - из других отрывков, но общая однородность повторов ощущается вследствие набоковской постановки акцента на них: «(один из тех повторов, свойственных стилю Гоголя, от которых его не могли избавить годы работы над каждым абзацем)» (Н.Г., 84) или «(заметим повтор «дали»... )». Далее мы вернемся к подобным «повторам» в несколько ином контексте.
Гоголевские «чащи» озаренно-солнечно-зеленого цвета, контрастируют с углублением невероятной (!) темноты. Его неозаренностью («неосвещенное») солнцем усугубляется его глубина - черная, «зиявшая, как темная; пасть». А огромность теневой глубины чувствуется при мелькании («чуть-чуть мелькали»), всего того, что ее составляет («бежавшая узкая дорожка .... , и, наконец, молодая ветвь клена...»). Сама структура этой фразы - бегущая, мелькающая, как будто образы фиксируются в сознании ребенка, бегущего по узкой дорожке и вот, наконец, наткнувшегося на молодую ветвь клена, что поразила его огромными лапами-листами, один из которых был прозрачно-огненного, чудно сиявшего цвета на фоне зиявшей темноты.
Последний образ гоголевского описания наиболее интересен своей насыщенностью начальными образами. В «осинах» «колоссальный ствол» не подымается и оканчивается малой шапкой или черной птицей, а, слившись в несколько, подымают огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины (на трепетолистные купола-вершины). «Купола» и «гнезда» сосуществуют в своем развитии. Изящный хмель переплелся с «отдернутыми и не вполне отделенными ветвями, висевшими внизу вместе с иссохшими листьями». Прием синтеза образов для нас будет важен в связи с влиянием набоковского Гоголя на прозу Набокова, столь же разнообразно, вдохновенно, синкретично и красочно выстроившего свой непостижимо-энигматичный макротекст.
Акцент В. Набокова на «удивительном явлении», которое живописует Гоголь, важен нам как прием восстановления контекста собственной набоковской прозы. Иначе говоря, Набокову важны у Гоголя «дрожащий узор света и тени на земле под деревьями или цветовые шалости солнца на листве» постольку, поскольку это важно для его прозы. В данном случае, ассоциативно воспроизводится контекст автобиографии «Другие берега». Может быть, потому, что Набоков; обронил детское слово «шалости» (солнца). Но это, скорее, лишь намек, знак, от которого в большей степени зависит то, как будет прочитан текст набоковского Гоголя. Образы гоголевского описания, их огромность и живая насыщенность цвето-световыми оттенками, синкретизм цветоформы присущи восприятию ранне-детскому. Да и сама быстротечность мелькающей гоголевской фразы звучит детскими шажками, отзвуки которых доносятся «из смехотворной дали» в «солнечном течении тропы»: «шел я, то упруго семеня, то переступая с подковки на подковку солнца и опять семеня, посреди дорожки». Логика набоковского образа превращает дубы в дубки, в чем очевидна смена ракурса восприятия. «Лопастые (какая огромность в слове!) дубовые листья» велики потому, что запечатлены в памяти: ребенка. Теперь же, «из смехотворной дали», дубы видятся дубками, которыми когда-то была обсажена одна из аллей парка. Ассоциативно-пространственные параллели в набоковском макротексте очевидны: «обширную деревню» - «в деревне летом»; «бежавшая узкая дорожка» — «на пестрой парковой тропе», «солнечное течение тропы», «одну из аллей, длинную, прямую»; «старый, обширный; тянувшийся позади дома сад» - «огромного парка в нашем петербургском имении». Этот ассоциативный ряд лишь подтверждает родство образов двух описаний; Сравним «зеленые лапы-листы молодой ветви клена» и «лопастые дубовые листья», а именно «лапы-листы» и «лопастые». Ощущается звучащее родство: [лап(ы-л и)ст(ы)] и [дЛп(а)ст(ьуь)]. Но важно заметить, что набоковские образы даже на; звуковом уровне демонстрируют свою индивидуальность, проявляющуюся в разноударности созвучных слогов: [лап] и [лЛп]. Звуковые реминисценции носят скорее пародийно-игровой, нежели подражательный характер. Следовательно, при ощутимом родстве образов сохраняется их индивидуально-авторская актуальность.