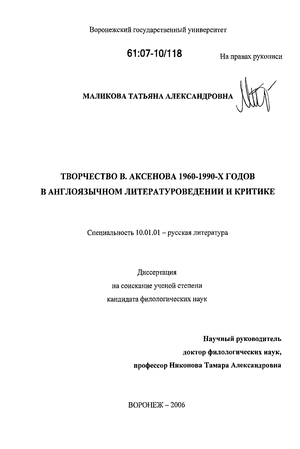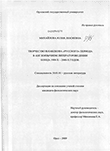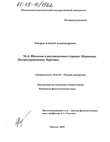Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Англоязычное литературоведение о русской советской литературе второй половины XX века 17
1.1. Литература «оттепели» 28
1.2. «Молодежная проза» 44
1.3. Литература 1970-х годов 65
1.4. Литература постсоветского периода 76
1.5. Эволюция гетероимиджей русской и русской советской литератур в англоязычном литературоведении 1960-1990-х годов 79
ГЛАВА II. Эволюция «оттепельного» сознания в. аксенова в оценке англоязычного литературного поля 93
2.1. Проблемы интерпретации до-эмигрантских произведений В. Аксенова англоязычной аудиторией 1980-х годов 96
2.2. Проблемы интерпретации эмигрантских произведений В. Аксенова англоязычной аудиторией 1980-1990-х годов 110
2.3. Гетероимидж русской литературы в англоязычной критике 1980-1990-х годов на примере творчества В. Аксенова (гетероимидж-РК) 124
2.4. Гетероимидж советской эмигрантской литературы в англоязычной критике 1980-1990-х годов на примере творчества В. Аксенова (гетерои-мидж-Э) 125
2.5. Особенности вхождения произведений В. Аксенова в американское литературное поле 139
Заключение 152
Список использованной литературы 157
Приложение 1 187
Приложение 2 195
- Литература «оттепели»
- Эволюция гетероимиджей русской и русской советской литератур в англоязычном литературоведении 1960-1990-х годов
- Проблемы интерпретации до-эмигрантских произведений В. Аксенова англоязычной аудиторией 1980-х годов
- Проблемы интерпретации эмигрантских произведений В. Аксенова англоязычной аудиторией 1980-1990-х годов
Введение к работе
Одной из актуальных проблем современного литературоведения является осмысление опыта русской литературы XX века и выявление тех ее закономерностей, которые определят художественную стратегию нового, XXI столетия. Для решения этой многоаспектной задачи необходимо обращение к реальному историко-литературному процессу, его непредвзятое осмысление в двойной перспективе - как нашего недавнего прошлого и как основания будущего развития.
В настоящее время кажется бесспорным утверждение, что мировой литературный процесс XX века противоречив, многосоставен, открыт влиянию общественно-политических условий, нередко оказываясь ареной ожесточенной идеологической борьбы. В конце прошлого столетия уже невозможно было кого-либо убедить в том, что политика и эстетика взаимно исключают друг друга, что эстетические категории не зависят от политической конъюнктуры и что позиция абсолютно независимого художника довольно часто оказывалась не больше, чем риторической фигурой. Художественный опыт XX века убедительно продемонстрировал практически беспредельное расширение сферы эстетического, включение в него общественно-политических, идеологических реалий, т.е. всего, что является содержанием человеческой жизни. В настоящее время совершенно очевидно, что литературный процесс завершившегося столетия складывался не только под влиянием литературных факторов. Он определялся многими составляющими, которые современники не всегда могли оценить с должной беспристрастностью. И если при рассмотрении отдельного художественного явления теоретически возможно оставаться в рамках эстетического анализа, то осмысление литературного процесса в целом, постижение его динамики, упущенных возможностей, обретений и перспектив по необходимости должно учитывать высокую степень политизированности культуры XX века, ее ангажированность различными идеологическими системами. Как и во всяком завершившемся историческом явлении, в литературном процессе прошлого столетия должно быть осознано главное и второстепенное, определено
4 соотношение общего и частного в новых исторических условиях, осмыслено традиционное и новаторское. На сегодняшний день принципиально важно исследовать художественные поиски этико-эстетического направления литературы второй половины XX века, предложенные периодом «оттепели» и получившие развитие в произведениях «самиздата» и «тамиздата», в творчестве писателей третьей волны русской эмиграции.
В истории русской литературы XX века первая «оттепель» конца 1950-х-начала 1960-х гг. оказалась временем, когда требование новизны стало осмысляться как непременное условие движения вперед, когда сама мысль о возвращении к старому воспринималась многими художниками как едва ли не отказ от будущего. Подобные этические и эстетические позиции по сути дела заложили основание мировоззрения современных русских писателей, ориентированных на эксперимент с формой и содержанием, предлагаемый модернизмом. В период первого постсталинского десятилетия они оказались перед непростым выбором - сосредоточиться на развитии национальных традиций или на освоении достижений мировой литературы. Однако именно в эти же годы они смогли приблизиться к тем рубежам, преодоление которых стало истинным прорывом к новому мышлению. Мысль о том, что мир не только полярен, но и един, что литература каждой страны неповторима, национальна в своей основе, но в то же время является частью мировой общечеловеческой культуры, получала разные художественные решения, обретала подтверждение в традиции. Так закладывались основания для межкультурного диалога, воспринимаемого современным литературоведением и культурологией как одно из важных условий художественного развития.
Как известно, сущность любого явления раскрывается во всей полноте лишь в диалектическом сопоставлении с другим явлением. Дополнить картину истории национальной литературы способен научный взгляд извне, определяющий границы названного объекта, опирающийся на представления о литературе своей страны и об изучаемой литературе. Заданным условиям отвечает имагология, или сравнительная имагология, - «наука об имаготипических сие-
5 темах (имиджах. - Т.М.) и элементах, их генетической и функциональной роли, нашедшей отражение в художественном тексте и при его влиянии в социальном дискурсе, а также литературной критике, истории и теории литературы» (54: Миры образов 2003 с. 9). Эта область исследования появилась во Франции 1950-е гг. в связи с развитием компаративистики, а в 1966 г. немецкий исследователь Хуго Дизеринк в своей работе «К проблеме "имиджей" и "миражей" и их исследования в рамках сравнительного литературоведения» заложил фундамент для «АхенскоЙ программы» по имагологии.
Родоначальником сравнительного литературоведения в России стал в последней трети XIX века А.Н. Веселовский, а советская наука заинтересовалась компаративистикой именно с середины 1950-х гг., то есть с начала рассматриваемого нами периода. Среди работ отечественных литературоведов отметим «Сравнительное литературоведение. Восток и Запад» В.М. Жирмунского, «Восток-Запад; Исследования. Переводы. Публикации. Вып.4» В.Н. Топорова, «Запад и Восток» Н.И. Конрада.
Европейским сравнительным литературоведением вопросы влияний и заимствований, а также типологических схождений рассматриваются со времени окончания первой мировой войны (основоположниками французской школы стали Ф. Бальдансперже (1921), П. ван Тигем (1948)), в Америке компаративистика начала развиваться по окончании второй мировой войны такими исследователями, как В. Фридерих и Р. Веллек (1953).
В России имагология еще не получила широкого распространения, однако в последние годы отечественными исследователями предпринимаются попытки ответить на вопрос о соотношении национальной идентичности и художественного сознания. М.К. Попова объясняет усиление интереса «ко всему комплексу проблем, связанных с национальной идентичностью как в ее гражданско-правовом, так и в этико-культурном аспекте» современным процессом глобализации (63: Попова 2004 с. 159). Таким образом, активные изыскания, начавшиеся в рамках социологии (П.Н. Шихирев и др.), продолжились в психологии (Д.В. Ольшанский и др.), литературоведении (М.К. Попова, Т.Г. Струко-
ва, Н.П. Михальская, ДА. Олицкая), межкультурной коммуникации (С.Г. Тер-Минасова, Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова, И.А. Стернин).
В нашем исследовании для получения более полной характеристики русской литературы второй половины XX века мы обращаемся к анализу критических позиций англоязычных специалистов о соотношении русского и мирового литературных процессов. В данном случае речь идет о группе исследователей, объединенных не по национальному, а по языковому принципу, который представляется «более долговечным, чем принадлежность к определенной нации» (54: Миры образов 2003 с.34). Это утверждение как нельзя более соотносится с теорией лингвистической относительности американских ученых Сепира и Уорфа, согласно которой «грамматические категории и лексика языка определяют мышление индивида, этим языком пользующегося» (Цит, по: 42: Кузнецов 1994 с. 244), и находит подтверждение в исследованиях отечественных лингвистов: «Язык отражает мир и культуру и формирует носителей языка» (69: Тер-Минасова 2000 с. 134).
Необходимость введения новой теоретической основы для изучения мирового литературного процесса была обусловлена стремлением расширить спектр проблем, решаемых компаративистикой. Традиционно сравнительное литературоведение изучает типологическую и генетическую сущность литературного явления (художественные средства и техника, произведения, авторы, литературные школы, жанры, стили и др.), исследует внутренние закономерности, которые характеризуют литературные явления в исторической обусловленности и вне ее. Так или иначе, компаративистика сталкивается с проблемой альтеритарности, которая и становится основополагающей в имагологии (или сравнительной имагологии). Последняя видит своей задачей исследование в литературе «образа другой страны», «образа инонациональной культуры», стремясь объяснить его происхождение, а также обнаружить факторы, вызывающие модификацию этих образов в процессе литературного восприятия (М. Фишер). Основными понятиями, которыми оперирует имагология, являются понятия ау-то- и гетероимиджа. Аутоимидж составляют образные представления, которые
7 индивид или группы индивидов (в нашем случае, англоязычные исследователи и критики, объединенные на основании языковой общности) развивают о самих себе и воплощают в литературных текстах (Э. Менэрт). Гетероимидж представляет собой образ «осознанного другого» (А. Вирлахер), чужого в противоположность своему. Связь ауто- и гетероимиджей является диалектической, поскольку они взаимно объясняют друг друга: «свое» определяется по контрасту с «другим» и наоборот. Важно отметить, что речь идет о «восприятии ("мир 2"), изображении ("мир 3") чужого по этнической или языковой принадлежности», а «свое» «осознается как результат идентификации по этнической и языковой принадлежности ("мир 2") и изображается ("мир 3")» (54: Миры образов 2003 с.60). Таким образом, литературоведческая имагология действует как «особый вид сравнительного исследования взаимоотношений» (М. Фишер).
Исходя из положения имагологии о том, что «имиджи представляют собой сущности восприятия культурного своеобразия и различий, которые относятся к странам и народам как временно осуществленным в пространстве истории ментальным моделям» (К.У. Синдрам), предполагается, что литературные имиджи, будучи связаны с конкрентым временем и местом, обладают собственной историей. Следовательно, их анализ требует принятие во внимание как локальных, так и исторических аспектов: влияние «политических (в особенности культурно-политических) отношений между народами, языковыми группами» в определенный период; «образов стран, распространяемых при помощи средств массовой коммуникации, а также посредством науки и искусства» (54: Миры образов 2003 с.62,63).
Понять механизм формирования национальных ауто- и гетероимиджей в процессе литературного восприятия позволяет теория, предложенная французским социологом П.Бурдье в 1980-е гг. Согласно ее основным положениям, поле литературы находится внутри поля власти и занимает по отношению к нему подчиненную позицию, будучи подвержено «действию <таких. - Т.М.> законов окружающего поля», как «стремление к прибылям, экономическим или политическим» (22: Бурдье 2000 с.25). Таким образом, мы можем сказать, что поле
8 власти способствует становлению нелитературных имиджей, которые в свою очередь «взаимодействуют» с литературными имиджами. Вместе с тем национальные стереотипы являются «интертекстуальными конструкциями» на том основании, что «условности и общие места, унаследованные от уже существующей текстовой традиции, совершенно заслоняют собственный опыт» (120: Leerssen). Следовательно мы должны говорить и об особой роли истории поля литературы в сохранении и передаче ранее сложившихся представлений об инонациональной культуре.
Имагология и теория П. Бурдье помогают в открытии закономерностей в формировании национальных представлений, касающихся соотношения контактных и генетических связей национальных литератур в историко-культурном контексте. Творчество В. Аксенова 1960-1990-х годов, на наш взгляд, дает возможность рассмотреть концепцию литературного развития указанного периода. Проза писателя несла в себе сознательную авторскую установку на разрушение прежних стереотипов и именно в этом качестве принималась современниками. Отклик, который получали произведения писателя у своего читателя, в значительной мере уникален: В. Аксенов был не только точным медиатором своего поколения, но и культовой фигурой советского поля литературы. Его проза формировала мировосприятие «шестидесятников», будучи неотъемлемой частью их сознания, чутко улавливая потребности времени, которые были и личностным поиском автора. Общее и частное в прозе В. Аксенова 1960-х годов наглядно объединились, став частью современной литературы, и, одновременно, продолжили русскую традицию. Так воспринимала отечественная и англоязычная критика его «оттепельные» произведения «Коллеги», «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», «Пора, мой друг, пора», зеркально отразившие надежды и разочарования русской советской литературы периода «оттепели». В годы внутренней, а затем и фактической эмиграции В. Аксенов реализовывал те идеи, которые не смогла предложить своим читателям в советской печати литература периода «застоя». Собственно «московский» этап творчества В. Аксенова, с нашей точки зрения, заканчивается романом «Новый
9 сладостный стиль» (1996), в котором уже становятся очевидны предпосылки эволюции проблематики и стилистики последующих произведений писателя, связанные со сменой аксеновского читателя-адресата. После долгих лет эмиграции им наконец стал современный российский интеллигент, определивший стратегию художественного эксперимента В. Аксенова в произведениях, написанных после 2000 г., и потому в данной работе творчество писателя этого периода не рассматривается.
Материалом нашего исследования явился обширный ряд англоязычных литературно-критических работ, посвященных литературе периода «оттепели», «застоя», а также произведениям третьей волны русской эмиграции. Особое место в них занимает модернистская линия развития, начало которой было положено «молодежной» прозой - наиболее динамичной и открытой для нового мировоззрения, вызванного социо-культурными преобразованиями постсталинского десятилетия.
Материал собран нами в результате ознакомления с англоязычными изданиями библиотеки Стэнфордского Университета и Библиотеки Конгресса (США), которые мы объединяем в следующие группы:
Монографии и литературоведческие журналы по славистике - Canadian Slavonic Papers, Russian Studies in Literature, Slavic Review, The Russian Review, The Slavic and East European Journal;
Другие литературоведческие журналы - Comparative Literature, MELUS, New Literary History, Pynchon Notes, The Modern Language Journal, The Modern Language Review, The Virginia Quarterly Review;
Литературные обозрения для широкой аудитории - San Francisco Review, The Atlantic Monthly, The New Criterion, The New York Review of Books, The Review of Contemporary Fiction, The Times Literary Supplement, World Literature Today;
Реферативные издания для библиотек и книготорговцев - Booklist, Choice, Library Journal, Publishers Weekly;
Общественно-политические журналы - America, Wilson Quarterly, среди них консервативные: Commentary; либеральные: Harper's Magazine, Maclean % Partisan Review, The Nation; левоцентристские: New Statesman; левые: The New Leader; центристские: The New Republic;
Новостные журналы - Newsweek, The Christian Science Monitor, US News and World Report, Time;
Журналы моды и развлечений - Vogue;
Газеты - The New York Times, The Washington Post.
Отметим, что наибольшее число исследователей занимались научной деятельностью в многочисленных ВУЗах США (более 30 специалистов), а также в научных центрах стран Британского Содружества (более 10 специалистов в Великобритании, по несколько славистов в Канаде, Новой Зеландии), один - в ЮАР. Среди выдающихся ученых, изучавших русскую советскую литературу второй половины XX века, необходимо назвать американцев Деминга Брауна (Университет Мичигана), Эдварда Брауна (Стэнфордский Университет), Катерину Кларк (Йельский Университет), Джона Глэда (Институт Кеннана для углубленного изучения русистики), англичан Джеффри Хоскинга (Школа славистики и изучения Восточной Европы), Макса Хейуорда (Оксфорд), Арнолда МакМиллана (Лондонский Университет), канадцев Н.Н.Шнейдмана (Университет Торонто), Пера Далгарда (Университет Альберты), русских эмигрантов Марка Слонима, Виктора Эрлиха, Льва Лосева, Ефима Эткинда, а также русских исследователей, работавших за рубежом: Марка Липовецкого, Михаила Эпштейна, Бориса Гройса и др.
«Оттепельные» авторы и тексты определили отбор материала для анализа литературы периода «застоя», который мы рассматриваем как период латентного развития тенденций литературы 1960-х годов, сохранявшихся не только в «самиздате», в зарубежных публикациях, но даже в официально допускаемых текстах. Литература о войне, «деревенская)) проза, «тихая» лирика, несмотря на цензурные ограничения и идеологические заслоны, продолжала медленное движение в сторону восстановления русской традиции, подготавливая пере-
смотр ключевых моментов советской истории, разрабатывая мифологическую поэтику, обращаясь к национальным истокам.
«Молодежная» проза как яркая составляющая литературного процесса прекратила свое существование в силу того, что ее авторы в большинстве своем оказались либо в эмиграции, либо стали представителями андеграунда, обозначив собой протестное крыло «шестидесятничества» по политическим соображениям. Именно они в 1970-1980-е годы привлекли внимание англоязычной критики, которая продолжила начатые советским литературоведением «отте-пельные» тенденции. В западной славистике ведущие позиции заняли эмигранты из Советского Союза, профессиональный опыт которых позволил выйти к содержательным историческим параллелям, предложить новые литературоведческие решения, которые не могли быть приняты советской литературной наукой.
Особенности русского литературного процесса последней четверти XX века, когда русская литература существовала не только в метрополии, но и за рубежом, требуют изучения специфики творчества и интерпретации текста в рамках инонационального литературного поля. Необходимой составляющей комплексного анализа является изучение представлений англоязычных исследователей и рецензентов о русской и русской советской эмигрантской литературах, что позволило бы не только выявить механизмы рецепции эмигрантской литературы, но и проследить динамику художественной эволюции автора в новых условиях.
Проблема соотношения в интерпретации текста субъекта создателя и воспринимающего субъекта, находящаяся в центре внимания герменевтики, оказывается на качественно ином уровне, будучи перенесенной на текст в инонациональном литературном поле. Традиционные споры ученых о доминанте читателя (А.А. Потебня, Р. Барт) или автора (А.П. Скафтымов, И.А. Ильин) в формировании смысла обретают перспективу быть разрешенными, во всяком случае, в отношении произведений, воспринимаемых инонациональной аудиторией. Мы можем с полной уверенностью предположить, что интерпретация
12 произведения инонациональной аудиторией происходит в форме «ассоциативных представлений и чувств» читателей, которые группируются вокруг «стержня» произведения, заданного художником (55: МукаржовскиЙ Я. 1994 с. 219, 240). Актуальным становится вопрос о возможностях автора предвидеть спектр ассоциативных представлений, которые его произведение способно породить у инонациональной аудитории. Здесь уместно вспомнить «концепцию адресата» (19: Белецкий 1989 с. 117-119) и задаться вопросом, насколько автором учитывался закладываемый им в текст «потенциал воздействия» (Х.РЛусс, В.Изер) на своего инонационального читателя. Если подобное действительно имеет место, то мы может говорить об опосредованном текстом межкультурном диалогическом общении читателя и автора, которое обладает высоким смыслообразующим потенциалом благодаря конфликтному соединению «авторской программы воздействия с восприятием, осуществляемым на базе горизонта читательских ожиданий» (74: Хализев 1999 с. 117. Курсив наш. -Т.М.).
Очевидно, что, будучи переведенными и изданными по-английски после эмиграции В. Аксенова, его произведения стали предметом рецензий и тем самым оказались «помещенными в историю поля, т.е. в исторически конституированное пространство сосуществующих, и, следовательно, соперничающих произведений. Взаимоотношения между уже существующими произведениями очерчивают пространство возможных манифестаций: продолжение предшествующего, разрыв, вытеснение в прошлое» (22: Бурдье 2000 с. 46). Бесспорно, войдя в англоязычное литературное поле, произведения В. Аксенова должны были оцениваться, исходя из внутренних законов данного поля. Степень автономности последнего по отношению к полю власти определяла четкость границы между двумя его полюсами: суб-полем ограниченного (элитарного) производства и суб-полем широкого (массового) производства. «В элитарном субполе, фундаментальным законом которого является независимость от требований извне, экономика практик основывается ... на инверсии фундаментальных принципов экономического поля и поля власти. Она исключает преследование
13 материальных выгод и не гарантирует соответствия между вложениями и денежной прибылью» (22: Бурдье 2000 с. 26). В то же время в суб-поле массового производства успех измеряется «при помощи показателей коммерческого успеха (таких, как тираж книги <...>) или известности в обществе (таких, как награждения, заказы), первенство отдается авторам, которых знает и признает "широкая публика"» (22: Бурдье 2000 с.26).
Рассматривая принципы вхождения произведений писателей-эмигрантов в инонациональное литературное поле, мы сможем анализировать механизмы влияния на художника своей и чужой культур, а также взаимодействие отдающей и принимающей культур в рамках межкультурного и шире - межцивили-зационного диалога. Исследование условий, определяющих рецепцию произведений автора в инонациональной среде, крайне актуально, принимая во внимание возможности и вызовы сегодняшнего дня, связанные прежде всего с глобализацией средств массовой информации. Перспективным представляется анализ динамики литературного творчества в инонациональном поле, особенностей и степени взаимодействия художника и инонациональной аудитории. Исследование этих проблем позволяет не только уточнять границы национальных традиций, но и глубже осмысливать мировой литературный процесс.
Актуальность исследования диктуется необходимостью осмысления инонациональной рецепции творчества В. Аксенова в межкультурном диалоге, в становлении тех закономерностей развития отечественного литературного процесса, которые, возможно, будут определять художественную стратегию XXI столетия. Это значимо для создания/дополнения современной истории русской литературы XX века, что явлется насущностной потребностью российской литературной науки.
Новизна диссертации заключается в освоении материала англоязычного литературоведения и критики, впервые вводимого в научный оборот и посвященного русской советской литературе эпохи «оттепели» (1960-е гг.), периода «застоя» (1970-1980-е гг.) и третьей волны русской эмиграции (1980-1990-е гг.). Работы по данной проблематике в отечественном литературоведении носят
эпизодический и информативный характер (см. Список использованной литературы). Они, как правило, посвящены конкретным литературным явлениям и находятся на периферии научного исследования. А между тем современная литературно-критическая ситуация тяготеет к пересмотру сложившейся в прежние годы концептуальной системы как отечественной, так и мировой литературы. Это требует введения нового материала, существенно корректирующего устоявшуюся точку зрения, проверки теоретических новаций и рождающихся доктрин фактическим материалом, добросовестной работой историка литературы.
Объектом нашего исследования стала русская литература 1960-1990-х гг., источником становления которой явилась «молодежная» проза периода «оттепели», и творчество В. Аксенова как иллюстрирующее основные тенденции этого процесса в оценке англоязычного литературоведения и критики.
Предметом исследования явились имиджи русской литературы второй половины XX века, выявленные при изучении рецепции творчества В. Аксенова 1960-1990-х гг. англоязычным литературоведением и критикой.
Таким образом, цель нашей работы состоит в выявлении литературных и экстралитературных составляющих творчества В. Аксенова в сопоставлении с гетероимиджами русской литературы второй половины XX века и аутоимид-жем западной (англоязычной) литературы в англоязычном литературоведении и критике 1960-1990-х гг.
Цель работы обусловливает постановку следующих задачи:
выявление условий становления и эволюции имиджей русской литературы второй половины XX века в англоязычном литературоведении и критике на примере текстов В. Аксенова 1960-1990-х гг.;
определение комплекса характеристик творчества В. Аксенова рассматриваемого периода, которые сформировали интерес англоязычных исследователей и критиков к представляемой писателем линии развития русской литературы;
3) установление сферы воздействия принимающей англоязычной культуры и читателя на творчество В. Аксенова в англоязычном литературном поле. Методологическую основу работы составляют дескриптивный и сравнительно-исторический методы, используемые имагологиеи и призванные установить условия и предпосылки влияния существующих имагологических систем в историческом контексте (М. Фишер).
Теоретическая база работы определена трудами П. Бурдье, исследованиями, посвященными имагологии (Э. Менэрт, Дж. Лирсен, М. Фишер, X. Ди-зеринк), сравнительному литературоведению (А.Н. Веселовский, В.М. Жирмунский, В.Н. Топоров), рецептивной эстетике (Х.Р. Яусс, В. Изер); герменевтике (М.М. Бахтин, Я. Мукаржовский, Ф. Шлейермахер, Л.С. Выготский). Положения, выносимые на защиту:
Эмиграция для писателей третьей волны сопровождалась столкновением принимающей и отдающей культур, которое вызвало становление новых художественных форм, вошедших в русский литературный процесс постсоветского периода.
В основе рецепции произведений русской литературы советского периода англоязычным литературоведением и критиками СМИ лежат гетерои-миджи русской и русской советской литературы, существенно корректируемые аутоимиджем англоязычной литературы.
Эволюция поэтики текстов В. Аксенова с точки зрения проблематики и фактурного материала отражает внутренние процессы русского литературного поля 1960-1970-х гг., а также иллюстрирует особенности перехода его произведений в англоязычное литературное поле 1980-1990-х гг., связанные с изменением читателя-адресата.
Творчество В. Аксенова 1960-1990-х гг. является примером борьбы писателя с влиянием поля власти: в плане идеологическом - в Советском Союзе, в плане коммерческом (массовом) - в эмиграции.
Структура работы определяется логикой решения поставленных задач. Диссертация состоит из Введения, двух глав, Заключения, Списка использованной литературы, а также Приложения 1 с краткой информацией об англоязычных литературоведах и Приложения 2 с краткой информацией об англоязычных печатных изданиях.
Апробация результатов работы проводилась на международных конференциях «Мир идей и взаимодействие художественных языков в литературе нового времени» (Воронеж, 2003), «Русская словесность в мировом культурном контексте» (Москва, 2004), «Классические и неклассические модели мира в отечественной и зарубежной литературах» (Волгоград, 2006); всероссийских научных конференциях «Филология и журналистика в начале XXI века», посвященной 95-летию со дня рождения Е.И.Покусаева (Саратов, 2004), XI Ше-шуковские чтения «Историософия в русской литературе ХХ-ХХІ веков: традиции и новый взгляд» (Москва, 2006), ежегодных научных сессиях Воронежского госуниверситета (2003-2006).
По теме диссертации опубликовано 6 работ.
Литература «оттепели»
Первым аспектом литературного процесса ранней «оттепели», обратившим на себя внимание западных исследователей, стала переоценка мировоззренческих позиций, произведенная советскими писателями в этот период, Среди аксиологических проблем, волновавших художников середины 1950 -начала 1960-х гг., особый интерес англоязычных литературоведов вызвало соотношение коллективных и индивидуальных ценностей в жизни человека. Как замечал Э. Симмонс, в произведениях этих писателей «исключительно индивидуалистическое восприятие реальности» вытеснило коллективизм (151: Simmons Е. 1964 р.261-262). Вслед за ним К. Кларк сформулировала «дух времени», подчеркнув, что «пятидесятые увидели растущий культ не "маленького человека" - "винтика" или "болтика" в огромной общественной машине, а скорее обычного человека - индивида» (90: Clark 1985 р. 215). Важной вехой того периода Э. Браун считал появление многочисленных статей и книг, «раскрывавших существование и утверждавших права индивида с его собственными уникальными и особенными чувствами, мыслями и ответственностью» (88: Brown Е. 1982 р. 17). Как добавлял М. Хейуорд, одну из черт «оттепельного» мировоззрения составляла уверенность в том, что «необходимая составляющая любого человеческого общества, достойного так называться, мистическим образом присутствовала в душе или характере его отдельных членов» (108: Hayward 1983 р.305). Кульминацией наблюдений за эволюцией «оттепельного» мышления стало заявление исследователя, что А. Солженицын и его «оппоненты» предложили альтернативу традиционному русскому отношению к закону. Если традиционным для русской культуры было отношение к закону как к бессмысленному феномену (это обстоятельство М. Хейуорд считал причиной отчуждения России и Запада со времен татаро-монгольского ига), то «шестидесятники» выдвинули на первый план веру «в первостепенную важность закона для любого общества, независимо от устройства» и не желали «лелеять утопическую фантазию о "лучшем" способе организации человеческого существования (human affairs)» (108: Hayward 1983 р.ЗОЗ).
Другой пласт аксиологических проблем был связан с диалектикой коллективного и индивидуального и рассматривал понятия правды и гражданской ответственности. По мнению Д. Брауна, авторы «оттепели» утверждали существование «множественных и различных легитимных путей к правде» и признавали несостоятельность веры в конечность и непреложность любой системы (86: Brown D. 1978 р.182). Дж. Хоскинг также считал иронический, отчужденный (detachment) и неуверенный тон авторов «оттепели» свидетельством пришедшей к ним убежденности в том, что не существовало «единой монолитной объективной правды, которая понималась всеми одинаково, что, скорее, было несколько подходов к правде - возможно, даже несколько правд - и что личность, которая воспринимала их, являлась важным фактором интерпретации. Другими словами, правда, по крайне мере отчасти, субъективна» (111: Hosking 1980 р. 27). В целом исследователь охарактеризовал этот период как «время быстрых перемен, когда пусть не уничтожались, но отодвигались барьеры, задавались новые вопросы, поднимались новые проблемы» и шел отказ от «самоограничения, интеграции существующего общества, подчинения гражданскому контролю и послушного приукрашивания действительности» (111: Hosking 1980 р, 19-22), т.е. формировалась понятная Западу позиция релятивизма.
Важным вопросом на повестке дня «оттепельной» литературы, привлекшим внимание англоязычных исследователей, являлся вопрос о человеке и истории, а также человеке в истории. В частности, исследователи заявили, что произведения конца 1950-начала 1960-х гг. способствовали раскрытию тиранической сущности советской власти (107: Half-way 1963), противостояли (в русле классической русской литературной традиции) существовавшему положению вещей (139: Rogers 1972 р. 292).
В развитие этой идеи М. Хейуорд отмечал растущее сомнение молодых писателей в «гибкой, "диалектической" этике марксизма-ленинизма, например, в соотношении средств и целей», их «нарастающую заботу о судьбе родины», а также тему сталинизма, которая не особенно мучила писателей-прозаиков младшего поколения, но лежала «слишком большой тяжестью на национальном сознании, чтобы ее можно было игнорировать» (108: Hayward 1983 р.146). По замечанию исследователя, в советской «оттепельной» литературе «доминировала» «неуверенность в прошлом, настоящем и будущем» (108: Hayward 1983 р. 148). Подобные размышления были близки и Дж.Хоскингу, который назвал важным этапом «оттепельного» периода возвращение И. Бабеля, М.Зощенко, Ю. Олеши, М Булгакова, А. Платонова, чье творчество «содержало задатки глубокой критики самого советского строя» и генетически восходило к традиции социальной критики, представляемой такими писателями XIX века, как Н. Гоголь, Н. Некрасов, Л. Толстой, А. Чехов (112: Hosking 1989 р. 523).
Фиксируя развенчание соцреалистического канона, исследователи, однако, осознавали ограниченность «оттепельного» протеста. Так, М. Слоним подчеркивал, что, реагируя «на хвалебную ложь и "лакировку" действительности» сталинской литературы, в произведениях «оттепели» «старые и молодые писатели соревновались друг с другом в разоблачении конкретных недостатков системы, лишь иногда их камни падали на основы режима» (152: Slonim 1964 р.ЗОЗ). Как считал исследователь, они, будучи гуманистами и выступая против догмы и тоталитаризма, оставались верны идеалам социализма и продолжали верить в его триумф над капитализмом (152: Slonim 1964 р.337). По наблюдению Э. Симмонса, «прогрессивные писатели из числа молодых с нетерпимостью относились к партийному патронажу и лозунгам соцреалистической доктрины» (151: Simmons Е. 1965 р. 261), в то же время стремились выразить свою верность «творческой спонтанностью»: «... так называемые "рассерженные молодые люди" (знакомое западному читателю определение распространилось на представителей советской «молодежной» прозы. - Т.М.) не только были преданы стране и партии, но и отвергали западные обвинения в "регламентировании занятий искусством"» (151: Simmons Е. 1965 р. 260). Рассматривая эволюцию женских характеров в литературе соцреализма разных исторических периодов -с 1917 до 1964 г. - К. Гасиоровска отметила, что «перемены в советской литературе были ограничены деталями и никогда не влияли на ее основы....
Эволюция гетероимиджей русской и русской советской литератур в англоязычном литературоведении 1960-1990-х годов
Любое исследование культурного сообщества опирается на исторически обусловленные представления - имиджи. Формирование имиджей не только тесно связано с особенностями общественно-политических отношений между странами, накоплением и передачей культурой представлений об инонациональном, но и опирается на саморефлексию культуры, порождающую образ себя (аутоимидж) и образ другого как непохожего на себя (гетероимидж). Поскольку аутоимидж западной литературы сформировался у англоязычных славистов в первую очередь по отталкиванию от представлений о русской и русской советской литературах, он нами специально не рассматривается.
Следует сказать, что среди англоязычных славистов были распространены две точки зрения на русскую и русскую советскую литературы, в соответствие с которыми сформировались две пары гетероимиджей (гетероимиджи-P1/CI и гетероимиджи-Р2/С2), сопоставлявшиеся с единым и целостным ау-тоимиджем.
Основу гетероимиджа-Р1 (деформационного образа русской литературы в англоязычном литературоведении) определяет представление о «чужом», не свойственном западным стандартам и оттого особенно отчетливо ощущаемом «со стороны». Ангажированность русской литературы позиционировалась западной аудиторией как внелитературный фактор (113: Hunter Blair 1966 р.ПЗ; 165: Ziolkowski 1998 рЛ72). Так, Р. Хингли разъяснял, что литература всегда функционировала в русском обществе как источник, «из которого читатели ожидали не просто получить удовольствие, но и узнать, как нужно проживать жизнь» (109: Hingley 1979 p.xi). По мнению Р, Марш, «русские писатели XIX века считали себя хроникерами и совестью нации, и эта традиция была унаследована многими русскими писателями XX века» (125: Marsh 1995 р.1)1.
Исследователи назвали в качестве причины формирования этой традиции особые отношения между писателем и читателем, связанные с «собственным видением писателем своей роли» и «общественными ожиданиями в отношении писателя» (144: Russian writing 1977 рЛО), терпимостью и даже поощрением русской аудиторией «настойчиво исторических стремлений» русских писателей (165: Ziolkowski 1998 рЛ 72).
Помимо особых отношений между читателем и писателем, русская литература, указывал Р. Милнер-Галланд, выделялась из числа прочих европейских (sic!) литератур традиционно оказывавшимся на нее «социальным и политическим давлением», в соответствии с которым или против него писатель мог действовать (144: Russian writing 1977 рЛО). Так, Дж. Гаррард подчеркивал исторически сложившуюся ограниченность русских в культурной и политической свободе, способствовавшую тому, что «русская литература формировалась, несмотря на существующие власти, а зачастую и вопреки им», а цензура применялась «со все возрастающей суровостью начиная с момента установления московского государства (since the Muscovite state was established)» (143: The Russian novel 19S3 p.5). Кроме того, исследователь указал в качестве фактора, определяющего своеобразие русской литературы, особую роль русской православной церкви в жизни общества и литературы, обусловившую традицию исторической вовлеченности русского романа в теологические дебаты, считающиеся на Западе прерогативой теологов (143: The Russian novel 1983 р.5). Таким образом, заключал Дж. Гаррард, русская литература - «самая "религиозная" из всех современных литератур» - обращается к христианским образам и символам «в качестве фона для оценки деяний людей» (143: The Russian novel 1983 р.6). В то же время она, по мнению исследователя, «открыла иную мифологию внутри самой литературы» - постоянные аллюзии к произведениям других писателей не только в авторском тексте, но и в речах героев (143: The Russian novel 1983 р.6). Р. Борден связывал это обстоятельство со стремлением писателей «сохранить для потомков свои собственные произведения в рамках своей культурной традиции посредством аллюзий, цитирования или заимствования у предшественников»1 (84: Borden 1999 р.186). М. Хейуорд считал, что «гений традиционной русской литературы всегда выражался в ее понимании моральной и психологической двойственности человека» (108: Hayward 1983 р.148). Р. Борден добавлял к списку отличительных черт русской литературы «"хвастанье" большим числом поэтов, самопровозглашенных гениев или непризнанных Пушкиных" (84: Borden 1999 р.161).
Необходимо отметить, что образ русской литературы в англоязычном литературоведении не в последнюю очередь был сформирован под влиянием представлений русских литературоведов об отечественной литературе. Например, Е. Эткинд выразил мнение многих специалистов о природе специфики русской литературы: « ... повсеместно она является вербальным искусством, состоящим из определенных форм и жанров. И все же структура вербального искусства отличается на Западе и на Востоке. Различные отношения обрели форму между государством и автором, автором и читателем, автором и его произведением, читателем и книгой, и, наконец, между отдельными частями литературы как таковой» (Цит. по: 163: Writers in exile 1983 p. 360). Совершенно естественно умозаключение Дж. Глэда, суммирующее мнения большинства западных исследователей, что было бы «наивным ожидать, что столь отличная культура (русская. - Т.М.) могла произвести мировоззрение, идентичное типичному западному, либеральному» (105: Glad 1999 р.399).
Главное положение гетероимиджа-С1 (деформационного образа русской советской литературы в англоязычном литературоведении) заключается в том, что феномен соцреализма явился творением политического давления, прервавшим развитие модернизма и его связь с постмодернизмом (98: Eshelman 1997 р.14). Наиболее четко эту точку зрения сформулировал М. Липовецкий: « ... суверенитет ценностной системы модернизма на Западе был результатом органического процесса, в то время как в России ценой возникновения института соц-реалистического канона стало разрушение органической культуры»1 (121: Lipovetsky 1999 р. 234). Поскольку поле власти выступило в качестве «заказчика» нового типа литературы, то отличительной чертой появившегося в результате соцреализма стала, по мнению англоязычных исследователей, выполняемая им уникальная функция распространения идеологии, не свойственной ни дореволюционной русской, ни западной литературам (149: Shneidman 1979 р.З),
Указывая причины формирования отличительных характеристик советской литературы, Р. Хингли отмечал, что для мира в целом «литературный и социальный фон Советского Союза мог казаться даже более незнакомым и таинственным, чем литературный и социальный фон давно исчезнувшей Российской империи», связывая такое положение вещей с тремя причинами: степенью социальных потрясений; продолжительностью и жестокостью иностранных вторжений, голода и уголовно-репрессивных мер собственного правительства; давлением политики на повседневную жизнь (109: Hingley 1979 р.7). Об «аномальности русской (советской. - Т.М.) литературы» говорил и американский специалист Г.С.Морсон, указывая на ее социальные, исторические и политические отличия, главным образом, от американской литературы (147: Shepherd 1992р.193,194).
Проблемы интерпретации до-эмигрантских произведений В. Аксенова англоязычной аудиторией 1980-х годов
Начиная с 1964 г. и вплоть до 1999 г. произведения В. Аксенова переводились на английский язык и издавались как самостоятельно, так и в составе сборников произведений советской литературы. Невозможно переоценить важность данного обстоятельства для развития карьеры писателя в американском литературном поле, и это подтверждается замечанием рецензента из Choice о том, что В. Аксенов «занял собственное особое место в западной литературе благодаря многочисленным переводам своих произведений» (261; Choice 1988 р.1562). Наряду с переводами, в США издавались и оригинальные тексты большинства произведений автора, адресованные, естественно, огромной аудитории русскоговорящих эмигрантов. Кроме того, В. Аксенов попробовал писать по-английски. Результатом этого эксперимента стал роман «Желток яйца», не получивший в Америке признания и оставшийся неопубликованным, однако позже изданный во Франции с пометкой «перевод с американского» (130: McMillin 1994 р.419). По признанию автора, он предпринял попытку написания этого произведения с целью улучшения знания английского языка (Цит. по 130: McMUHn 1994 р.419). К моменту эмиграции В. Аксенова в США среди изданных по-английски его произведений были: 1, «Коллеги» (повесть) - пер. Алека Брауна, (Putnam: London, New York City, 1962). 2, «Звездный билет» (повесть) - пер. Алека Брауна, (Putnam: London, 1962); перевод Эндрю Р. МакЭндрю, (New American Library: New York City, 1963). 3, «На полпути к Луне» (рассказ) - перевод Р. Хингли, журнал Encounter, (Apr., 1963); сборник "The New Writing in Russia" (под ред. Т. Уитни), (Michigan, 1964); в одноименном сборнике рассказов советских писателей (под ред. П. Блейк и М. Хэйуорда), (Holt, Rinehart and Winston, 1964) сборник "Four Soviet Masterpieces " - перевод А. МакЭндрю, (New York, 1965). 4. «Папа, сложи!» (рассказ) сборник "The New Writing in Russia " (под ред. Т. Уитни), (Michigan, 1964); сборник "Modern Russian Short Stories" (под ред. Г.Г. Бирн), (London, 1968). 5. «Пора, мой друг, пора» (повесть) - перевод Олива Стивенса, (Macmillan: London, New York City, 1969); (Aurora Publishers: Nashville, 1970). 6. «Поэма экстаза» - перевод В. Дукас, сборник "Twelve Contemporary Russian Stories", (London, 1973). 7. «Сюрпризы» (рассказ в составе сборник рассказов советских авторов "Russian Writing Today", под ред. Р. Милнер-Галланд, (Penguin Books, 1977). 8. «Стальная птица» (рассказ) в составе одноименного сборника рассказов В. Аксенова, который включает «Победа», «На полпути к Луне», «Маленький Кит, лакировщик действительности», «Завтраки сорок третьего года», «Японские заметки», «Жаль, что вас не было с нами», «Перемена образа жизни», «Рыжий с нашего двора», «Апельсины из Марокко» - перевод Рэ Слонек и др., (Ardis: Ann Arbor, 1979); сборник "Contemporary Russian Prose" (под ред. K.P. Проффера и Э. Проффер), (Michigan, 1982). Начиная с 1982 г. в английском переводе появляются произведения В. Аксенова, написанные в период «застоя»: 1. «Четыре темперамента» (пьеса, Альманах «Метрополь») - (Norton: New York City, 1982). 2. «Остров Крым» (роман, написан 1977-1979) - перевод Майкл Генри Хайм, (Vintage Books: New York City, 1983). 3. «Ожог» (роман, написан 1969-1975) - перевод Майкл Гленный, (Random House and Houghton Mifflin: Boston, 1984). 4. Сборник рассказов В. Аксенова «Затоваренная бочкотара» (под ред. и пер. Джоел Уилкинсон и Слава Ястремски), (Ardis, 1985). 5. Сборник рассказов «Поиски острова», (Farrar, Straus: New York City, 1988). 6. «Золотая наша железка» (повесть) - перевод Рональда Э. Питерсона, (Ardis, 1989). И, наконец, ряд произведений были написаны автором непосредственно в эмиграции: 1. «В поисках грустного бэби» (роман) - перевод Хелм и Антонина У. Бой, (Random House: New York City, 1987). 2. «Скажи изюм» (роман) - перевод Антонина У. Бой, (Random House, 1989). 3. «Поколения зимы» (роман) - перевод Джон Глэд, (Random House, 1994). 4. «Герой зимы» (роман) - перевод Джон Глэда, (Random House, 1996). 5. «Новый сладостный стиль» - перевод Кристофер Моррис, (Random House, 1999). Опираясь на концепцию рецептивной эстетики об имплицитном читателе, мы можем предположить, что в каждый период своего творчества В. Аксенов тонко ощущал настроения и потребности современной аудитории, в то же время адресуя свои произведения «своему» читателю. Созданное им в «молодежный» период не получило широкого резонанса в англоязычной прессе и, следовательно, не может анализироваться с точки зрения инокультурной читательской рецепции. Кроме того, совершенно очевидно, что эти произведения предназначались для советских современников, а потому на художественную эволюцию писателя влияла только внутренняя советская рецепция.
Исключением можно считать рассказ В. Аксенова «На полпути к Луне», перевод которого на английский выдержал пять переизданий в период с 1963 по 1979 гт., что является свидетельством особого интереса к нему англоязычной аудитории. Этот феномен объясняется наблюдением американского исследователя Д. Лоуи, отмечавшего, что «городская» проза (рассказ, несомненно, можно отнести к этому направлению), «в которой мужчины и женщины сталкивались с дилеммами, порожденными конфликтующими требованиями семейной жизни и карьеры», оказалась близка иностранным читателям (124: Lowe 1987 р. 47). И это совершенно ожидаемо, поскольку, как уже было отмечено ранее, антропологическая проблематика составляла основу современной западной литературной традиции (см. Главу 1).
Учитывая, что после эмиграции В. Аксенова в 1980 г. по-английски были изданы два романа и ряд произведений других жанров, написанных в СССР в конце 1960-х - 1970-х гг., представляется необходимым охарактеризовать аудиторию «застойного» периода и тем самым определить возможные трудности, с которыми столкнулись англоязычные читатели, интерпретируя эти произведения.
В первой главе нами были изложены качества советской литературы, воспринимаемые англоязычными исследователями в качестве отличительных, среди которых первенство, несомненно, принадлежит «эзопову языку». Именно он составлял основу гетероимиджа русской советской литературы эпохи «застоя».
Проблемы интерпретации эмигрантских произведений В. Аксенова англоязычной аудиторией 1980-1990-х годов
Одним из главных на конференции в Лос-Анджелесе в 1980 г. был вопрос о том, "две литературы или одну" составляли русская литература в СССР и за рубежом. Подавляющее большинство писателей-участников настаивали, что литература была одна, у которой была одна культурная основа, один язык, один читатель (А. Синявский, В. Аксенов, Ю. Алешковский, Д. Бобышев, С. Довлатов, А. Гладилин, В, Некрасов, С. Соколов, А. Цветков). Позже эту мысль как уже бесспорную подтвердили Петр Вайль и Александр Генис, также утверждавшие, что утрата русской эмигрантской литературой читателей, социальных институтов, культурных и образовательных центров и, самое главное, преемственности поколений, позволяла считать ее дополнением официальной советской литературы. Уже упоминавшийся Б. Хазанов замечал, что любая эмигрантская литература "более или менее антинацистская, более или менее антисоветская" есть "литература протеста; протестом она и держится", но в остальных аспектах она является частью "нормальной" литературы (114: Interview 2001 р. 138).
С мнением эмигрантов согласились и западные слависты. К. Проффер посчитал своим долгом отринуть термин «эмигрантская литература», отметив, что последний «предполагал нечто ограниченное, узкое, местническое, возможно, интересное на какое-то время, но лишенное надежды войти в постоянную культуру языка», вроде литературы любого меньшинства: женской или гей-литературы (136: Proffer С. 1984 р.81). Не совсем точным назвал определение литературы третьей волны как «эмигрантской» Дж. Хоскинг, указывая, что «проблемы, волновавшие этих писателей, были советскими, а их связи с родиной гораздо теснее, чем у предыдущих поколений изгнанников» (112: Hosking 1989 р. 539).
Совершенно естественно, что и сами эмигранты, и западные слависты были единодушны, считая основной аудиторией писателей третьей волны советского читателя (31: Две литературы или одна 1984 р.34). Они справедливо замечали, что многие авторы, которые когда-то публиковались в самиздате, а затем начали публиковаться в русскоязычных эмигрантских журналах «Континент», «Время и мы», «Грани» в надежде, что те попадут к русским читателям не только из числа «эмигрантской общины по всему миру», но и в СССР (161: Woll 1983 p. xli; 112: Hosking 1989 р. 521; 84: Borden 1999 р.13-14). Такую позицию писателей-эмигрантов объяснил В. Некрасов, отметивший, что иностранных читателей мало волновали русские проблемы (163: Writers in exile 1983 р.336).
На конференции в Лос-Анджелесе участники высказывали соображения о проблемах, подстерегавших писателей-эмигрантов в инонациональной среде. Редактор эмигрантского журнала «Ковчег» Н. Боков указал на лингвистические трудности, обусловленные как потерей собственной языковой среды, позволявшей «утончать свое умение, делать его все более виртуозным, создавать фразу, которая сама по себе несла эстетический элемент только потому, что эти слова соединены вместе», так и утратой квалифицированного читателя эзопова текста, который мог слышать их «виртуозную игру» (31: Две литературы или одна 1984 р.35-37). По утверждению американского специалиста Марка Стрэн-да, «поэты являются и должны быть частью континуума, который называется язык», между тем изгнание нарушает этот континуум, вызывая потерю писателем связи «с тем самым пространством, в котором развивается его творчество» (99: Evelein 2002 р.20). Американский исследователь, занимающийся изучением феномена эмиграции как таковой, Йоханнес Эвелин, считал, что процесс адаптации к новой лингвистической обстановке порождает третье измерение изгнания, которое «разъедает выразительность и отчуждает язык (писателя. -Т.М.) от того, что Фейхтвангер называет "живое течение (living flow) родного языка"» (99: Evelein 2002 р.20).
Другой проблемой Д. Браун назвал языковой барьер, считая перевод «в лучшем случае не удовлетворительным средством» и называя «затруднительной» задачу творить в обстановке, где русский язык - язык меньшинства (85: Brown D. 1984 р.67). В подтверждение мнения исследователя Дж. Глэд указал, что практически никто из представителей третьей волны не стал писать по-английски: В. Аксенов и Э. Лимонов предпринимали такие попытки, однако, «убедились, что им лучше не расставаться с русским» (105: Glad 1999 р.427). Отметим вместе с тем высказывание Э, Лимонова: «... люди везде одинаковые», а «язык - ничто» (Цит. по: 105: Glad 1999 р, 428). С таким утверждением едва ли согласятся в большинстве своем эмигранты. Так, окончательно покинув Америку и ее литературное поле, В. Аксенов констатировал: «Я связан языком. Другое дело художник, он нарисует и везде, так или иначе, может найти людей, которые будут смотреть на это. Или музыкант. А тот, кто работает со словесным материалом, не может быть понят лучше, чем в своей родной языковой среде, ни в одной стране» (Из беседы с автором настоящей работы, Москва, 2004).
Таким образом, главная преграда на пути произведений авторов к инонациональной аудитории - особенности воспринимающего сознания. Так, причины трудности общения эмигрантских писателей с рядовым американским читателем докладчик конференции в Лос-Анджелесе Эшбел Грин увидел в малочисленности серьезной американской аудитории, «которая не увеличивается с ростом населения и числа выпускников вузов» и оказывается еще меньше в случае с переводной литературой (106: Green 1984 р.244). Не меньшей проблемой, по мнению исследователя, является замкнутость американского народа: «Мы можем заглядывать за пределы нашего горизонта, но нам нравиться иметь знакомого гида. Исключения типа Пастернака и Солженицына могут быть столь же результатом рекламы, сколь и литературы» (106: Green 1984р.245).
Как полагал Э. Грин, для писателя-эмигранта многое определял его образ жизни, самореклама, необходимость «продвигать себя», выступать с лекциями в университетах, знакомиться с членами факультетов английского и славянских языков, поскольку чтение в США не считается популярным времяпрепровождением, а, скорее, является обязательной частью образовательного процесса (106: Green 1984 р.246). Вместе с тем в этом «самопродвижении» было важно не потерять себя. Писатель-эмигрант, настаивал исследователь, «должен быть верен своему ремеслу и чувствам (craft and sensibility).... Нелегко писать о том, что он помнит, по мере увеличения разлуки с родиной. Но маловероятно, что серьезный писатель преуспеет в Америке, если он поддастся искушению, как многие американские писатели, писать популярно для аудитории, а его талант не даст возможности адаптироваться к требованиям этой аудитории» (106: Green 1984 р.246).