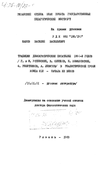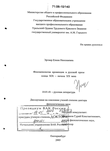Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Стилизация в прозе начала XIX века: книжная и устная стилевая доминанта 22-80
1.1. Стилизаторские опыты в русской прозе эпохи романтизма: от западноевропейской традиции - к национальному фольклору 22-43
1.2. Образ русской старины в творчестве А.Ф.Вельтмана: опыт книжной стилизации в романе «Кощей бессмертный» 44-56
1.3. Первые опыты сказа в прозе О.М. Сомова 56-68
1.4. Пути синтеза устного и книжного слова в цикле Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 69-80
Глава 2. «Образ достоверности» в прозе 60-70-х годов XIX века (стилизация устной и книжной речи) 81-117
2.1. Правдоподобие устного слова 81-87
2.2. Фольклорное, книжное и сказовое в дилогии П.И.Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах» 87-106
2.3. Книжное, сказовое, иконописное в стиле повести Н.С.Лескова «Запечатленный ангел» 106-117
Глава 3. Стилизация и синтез искусств в прозе рубежа ХIХ-ХХ вв. 118-187
3.1. Объединение «Мир искусства» в культуре серебряного века 118-130
3.2. Скульптура, мозаика, картина в романах Д.С.Мережковского 130-145
3.3. Картина и гравюра в романе В .Я. Брюсова «Огненный ангел» 146-154
3.4. Древнерусская книжность и иконопись в зеркале стилизации (A.M. Ремизов и Н.К.Рерих) 154-169
3.5. Проза М.А.Кузмина: театральное начало как стилизациониая призма 169-182
3.6. Пародийное осмысление рубежной культурной эпохи в рассказах А.Н.Толстого 182-187
Глава 4. Своеобразие воплощения мифа и сказки в прозе начала XX века 188-259
4.1. Миф и мифотворчество в эстетике символизма 188-203
4.2. Специфика воссоздания мифа и обряда в малой прозе А.М.Ремизова: функция поэтического начала 203-237
4.3. Сказка, миф, метафора в малой прозе А.Н.Толстого 238-248
4.4. Образ мифологической картины мира в прозе В.Хлебникова 248-259
Глава 5. Стилизация сказа в повестях А.М.Ремизова и А.Белого 260-312
5.1. «Крестовые сестры» А.М.Ремизова и «Серебряный голубь» А.Белого в контексте эпохи 261-282
5.2. Сказовое и поэтическое в повестях А.М.Ремизова и А.Белого 282-312
Глава 6. Стилизация в прозе 1920-х гг.: традиции серебряного века 313-349
6.1. Культурные приоритеты пореволюционной эпохи 313-320
6.2. Е.И.Замятин и Б.М.Кустодиев: Русь купеческая в прозе и живописи 321-333
6.3. Стилизация архаичных форм: апокриф в стиле Е.И.Замятина 333-340
6.4. Библейское и публицистическое в стиле Н.А.Клюева 340-349
Заключение 350-354
Библиография 355-380
Приложение 381-391
- Образ русской старины в творчестве А.Ф.Вельтмана: опыт книжной стилизации в романе «Кощей бессмертный»
- Фольклорное, книжное и сказовое в дилогии П.И.Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах»
- Древнерусская книжность и иконопись в зеркале стилизации (A.M. Ремизов и Н.К.Рерих)
- Специфика воссоздания мифа и обряда в малой прозе А.М.Ремизова: функция поэтического начала
Введение к работе
В литературоведении понятие «стилизация» в высшей степени емко и неоднозначно. С одной стороны, стилизация существует в литературе (как и в других видах искусства) не одну сотню лет – к стилизации обращались виднейшие поэты, прозаики и драматурги. Более того, определенные культурно-исторические периоды охарактеризовались особым интересом к стилизации. Яркий пример подобного повышенного интереса – русская культура начала ХХ века; именно в это время Е.В.Аничков назвал стилизацию «молодой, прекрасной сестрой» «старушки»-традиции. С другой стороны, не только в обиходно-бытовом понимании, но и в литературоведческих исследованиях стилизации подчас сопутствует некая негативная «аура»: исследователи упрекают авторов в стилизации или замечают, что тому или иному писателю удалось ее благополучно избежать. Очевидно, что в работах исследователей речь идет если не о разных явлениях, то, во всяком случае, о разных гранях одного и того же феномена, имя которому – стилизация.
Самым непосредственным образом стилизация связана с подражанием. Подражание же, в свою очередь, ассоциируется с чем-то, по меньшей мере, вторичным. Однако подобное суждение далеко не во всех случаях верно. Согласно концепции Аристотеля (и еще раньше – Платона), на подражании зиждется все искусство; А.Ф.Лосев отмечает: «Отношение произведения искусства к действительности в классической античности обозначалось термином “мимесис”, который обычно переводится как “подражание”». И далее: «…мимесис имеет в античной эстетике универсальное значение. Внутрикосмические вещи подражают космосу в целом, космос в целом есть подражание надкосмическому уму, а этот ум, в свою очередь, есть подражание сверхбытийному первоединству».
Анализируя сложное понятие мимесиса в «Поэтике» Аристотеля и предостерегая от прямолинейного его толкования, А.Ф.Лосев уточняет, что «…предметом подражания оказывается у Аристотеля только бытийно-нейтральная область. Искусство, по Аристотелю, есть подражание именно такой области и творческое воспроизведение вовсе не того, что есть или было, но того, что могло бы быть с точки зрения вероятности или необходимости». Иными словами, А.Ф.Лосев обращает внимание на то, что подражание в аристотелевском учении соотнесено с самой основой творчества: «Подражание, о котором учит Аристотель, есть не только сущность искусства, но и такая его сущность, которая делает его вполне автономной сферой человеческого творчества».
Однако подражание может не предполагать художественную вторичность и тогда, когда осуществляется подражание другому стилю. Как отмечает Ю.И.Минералов, «творчески подражающий художник, разумеется, отличается внутренней убежденностью в нормальности и целесообразности своих миметических действий – эпигон боится упреков в «подражании» и подражает спонтанно, как бы помимо собственной воли» (Курсив автора). Водораздел между разными типами подражаний, таким образом, проходит именно по линии «осознанное-неосознанное», «творческое-механическое». Творчески же подражают стилям друг друга выдающиеся мастера слова, причем далеко не только на этапе ученичества. Пожалуй, самый яркий пример подобного рода – стиль А.С.Пушкина. По замечанию В.В.Виноградова, «оригинал является для пушкинских подражаний лишь исходным моментом для вполне самостоятельного творчества».
Конкретные пути и цели подражания стилю могут быть весьма различны. Ю.И.Минералов, рассуждая о творческом подражании, объединяет все его виды под термином «парафразирование». Как отмечает исследователь, «стилевой мимесис есть процесс парафрастический как в музыке и живописи, так и в литературе». Стилизация является одним из видов подобных парафрастических опытов. В определении сути явления продуктивно отталкиваться от самой формы слова, которая недвусмысленно отсылает к стилю; действительно, «стилизация предполагает стиль». Стиль же, в расширительном понимании, несводим лишь к узкой трактовке понятия (стиль как слог). Согласно определению А.Ф.Лосева, стиль – это «принцип конструирования всего потенциала художественного произведения на основе его тех или иных надструктурных и внехудожественных заданностей и его первичных моделей, ощущаемых, однако, имманентно самим художественным структурам произведения». В контексте настоящего исследования актуальным представляется также классификация стилей, предложенная Е.В.Аничковым: «…можно установить три степени стиля. Начиная с наиболее общего, получим: во-первых – стиль эпохи, народа и пр., во-вторых, стиль школы, в-третьих, стиль личный».
В самом общем виде стилизация – это воссоздание с определенными художническими задачами чужого стиля или его элементов через внешние, узнаваемые черты. При этом дистанция между собственным стилем и стилизуемым подчеркнуто акцентируется (в отличие от, например, стилевого иллюзионизма – мистификации); соответственно, маркеры «чужого» могут быть несколько укрупнены (но не комически гиперболизированы, как, например, в пародии). Именно с воссозданием внешних, наиболее репрезентативных, черт стиля порой связывается представление о стилизации как о чем-то поверхностном, неглубоком. Например, Вяч. Иванов писал, что художник, «не определив себя как лицо, создает не стиль, а стилизацию. Стилизация же относится к стилю, как маниеризм к манере». В «маниеризм» же, по мысли Вяч. Иванова, превращается «окоснелая манера».
Можно предположить, что негативное восприятие стилизации возникает в том случае, когда образ стиля, воссозданный через формальные признаки, не обнаруживает понимания стилевого стержня стилизуемого объекта, ибо, как отмечал П.Н.Сакулин, «формальные ингредиенты, “принципы” построения стилей – подвижны: могут переходить из одного в другой. Но чтобы возник стиль как таковой, повторяемость элементов должна соединяться с новотворчеством стилевого синтеза». В то же время, художник-стилизатор может намеренно изменять стилевой стержень в соответствии с собственной художественной задачей, при сохранении внешних признаков стиля (в случае нетворческого подражания этого стержня просто нет, есть лишь «оболочка»). Иными словами, конкретное воплощение стилизации тесно связано с художническими задачами автора, и воссоздание внешних элементов стиля далеко не всегда указывает на поверхностность.
Актуальность исследования обусловливается тем, что стилизация в русской прозе по сей день в значительной мере недооценена и недостаточно литературоведчески исследована как важное художественно-функциональное явление.
Предмет исследования – проза русских писателей XIX – начала XX в.: А.А.Бестужева-Марлинского, А.Ф.Вельтмана, О.М.Сомова, Н.В.Гоголя, П.И.Мельникова-Печерского, Н.С.Лескова, Д.С.Мережковского, В.Я.Брюсова, М.А. Кузмина, А.М.Ремизова, А.Белого, В.Хлебникова, А.Н.Толстого, Е.И.Замятина, Н.А.Клюева и др.
Объект исследования – формы стилизации в индивидуальных писательских стилях указанного периода.
Цель исследования – выявление специфики стилизации в различные историко-литературные периоды.
Задачи:
– определить содержание понятий: стилизация, сказ, подражание, стиль, слог, художественный синтез и других; проследить изменение трактовок данных понятий на разных культурно-исторических этапах;
– выявить связь стилей культурных эпох со спецификой доминантных форм стилизации, востребованных в ту или иную эпоху;
– рассмотреть особенности стилизации явлений внелитературной реальности: стиля эпохи, фольклора, устной речи;
– охарактеризовать черты индивидуального стиля писателей, наиболее интенсивно обращавшихся в своем творчестве к различным формам стилизации;
– проанализировать специфику объектов, целей и способов стилизации в индивидуальных стилях рассматриваемых авторов;
– определить соотношение стилизации и синтеза искусств в разные культурно-исторические периоды;
– проследить, как именно в формах стилизации отразилась ориентация эпохи на книжную или устную традицию;
– выявить пути наследования, но и переосмысления стилизаторских традиций XIX в. в начале века ХХ.
Методология. Используемые в диссертации методы: сравнительно-сопоставительный, историко-генетический, а также культурно-исторический и структурно-типологический.
Методологическая основа работы – академическая традиция отечественной филологической науки (труды А.А.Потебни, А.Н.Веселовского, П.Н.Сакулина, А.Ф.Лосева, Д.С.Лихачева и других), а также сложившаяся в ее русле теория художественного стиля (П.Н. Сакулин, Г.Н. Поспелов, Г.О. Винокур, В.В. Виноградов, П.А. Николаев, Ю.И. Минералов и др.).
Положения, выносимые на защиту:
1. Конкретное воплощение стилизации тесно связано с авторскими художническими задачами. Для понимания принципов стилизации необходимо представлять, какой стиль в конкретном случае является объектом воссоздания (стиль эпохи, направления, стиль индивидуальный и т.д.); какие узнаваемые внешние проявления этого стиля избраны художником-стилизатором и, наконец, какова художественно-функциональная цель стилизации, какова мера привнесения в чужой стиль своего.
2. Эпоха первой трети XIX века ознаменовалась появлением стилизаторских опытов отечественных прозаиков. Стилизация в этот период явилась прежде всего способом восприятия и преломления на русской почве западноевропейской традиции, при этом доминировало творческое подражание и ученичество. Объектами стилизации становились как индивидуально-авторские стили выдающихся мастеров слова (Гете, Байрон, Скотт, Гофман и пр.), так и иноземный колорит в целом.
3. Важное направление стилизаторских устремлений прозаиков первых десятилетий XIX века было связано с попытками воссоздания национального фольклора и – шире – отечественной старины, запечатленной в слове. Причины интереса к этим сферам были связаны как с историческими событиями (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов 1825 г.), так и с объективной логикой историко-литературного развития. В устном народном творчестве виделись свежие истоки, способные обогатить и стилевую, и тематическую палитру отечественной словесности.
4. 60–70-е годы XIX века отмечены взлетом интереса к стилизации устной речи. Этот интерес был обусловлен ориентацией литературы данного периода на создание «образа достоверности», на изображение «реального факта»; повествование же от лица очевидца успешно способствовало этому. Интерес к устному слову представителей средних классов был обусловлен также выходом на литературную авансцену писателей-разночинцев. В русле устремлений эпохи пребывали, в частности, П.И. Мельников-Печерский и Н.С. Лесков. Оба автора по-разному синтезировали в своей прозе сказ, фольклорную стилизацию, а также стилизацию церковного книжного слова. Художнические открытия этих прозаиков, в том числе в области стилизации, оказались востребованы на новом культурном витке, в начале ХХ столетия.
5. На рубеже XIX-XX вв. стилизация обретает особые, до этого не востребованные черты. Обновление стилизации шло не только по линии способа обращения с объектом, но и по линии расширения спектра этих объектов. Особую актуальность приобретает стилизация не индивидуально-авторских стилей, но стилей определенных эпох, как правило, давно минувших. Мысленно устремляясь в прошлое, художники, с одной стороны, воспринимали и воссоздавали эпоху именно с позиции стилизации, через характерные внешние атрибуты, с другой — стремились найти в отдаленных эпохах ответы на волнующие вопросы современности.
6. Стилизаторские «находки» грани этих веков не были абсолютно новыми, но брали свои истоки в достаточно отдаленном прошлом, в частности, в культуре начала XIX века с ее весьма созвучной духу серебряного века акцентированной «литературностью», театральностью, устремленностью к художественному синтезу.
7. Объектом стилизации на разных культурно-исторических этапах выступало несловесное искусство — прежде всего, живопись, музыка. Наиболее последовательно подобные опыты осуществлялись в отечественной словесности в начале ХХ столетия; именно в этот период особую актуальность приобретает идея (и конкретно-художественное воплощение) синтеза искусств, который нередко представлял собой определенную стилизацию словесно-литературного текста под живопись, иконопись (понимание литературы как «словесной живописи»), под музыку («Симфонии» А. Белого), и т.д. Однако, несомненно, предпосылки этого явления обнаруживаются и много раньше — в частности, в литературе XIX века. Вообще же понятие синтеза (в более широком смысле слова) неотделимо от стилизации, как, впрочем, и от других стилевых миметических явлений: «Миметический синтез – естественное условие, принцип реализации феномена парафразирования».
Новизна диссертации заключается в том, что явление стилизации последовательно рассмотрено в разных культурно-исторических этапах, в контексте стиля соответствующих эпох, с одной стороны, и с другой – в ее преломлении в конкретных произведениях, в индивидуальных писательских стилях.
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут быть использованы при последующем сравнительно-историческом изучении русской литературы XIX – начала XX годов, а также при дальнейшей разработке понятия стилизации. Материалы и выводы работы могут использоваться при чтении общих и специальных вузовских курсов по истории русской литературы.
Апробация. Результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на межвузовских научных и научно-практических конференциях: «Мировая словесность для детей и о детях» (1999-2009, МПГУ), «Синтез в русской и мировой художественной культуре» (2001-2009, МПГУ), «Гуманитарные науки и православная культура (Пасхальные чтения)» (2004-2009, МПГУ), «Филологические традиции и современное литературное и лингвистическое образование» (2002-2009, МГПИ), «Наследие И.А.Бунина в контексте русской культуры» (2001, Елец), «Национальный и региональный «Космо-Психо-Логос» в художественном мире писателей русского Подстепья (И.А.Бунин, Е.И.Замятин, М.М.Пришвин)» (2006, Елец), «Наследие Д.С.Лихачева в культуре и образовании России» (2006, МГПИ).
Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, библиографии и приложения.
Образ русской старины в творчестве А.Ф.Вельтмана: опыт книжной стилизации в романе «Кощей бессмертный»
Отношение критиков и читателей к творчеству А.Ф.Вельтмана с самого начала было неоднозначным. В.Г.Белинский находил в его произведениях «странность и вычурность в вымыслах», «археологический мистицизм», «туманность и неопределенность»112; по его мнению, талант Вельтмана -«талант отвлеченный, талант фантазии, без всякого участия других" способностей души, и при этом еще талант причудливый, капризный, любящий странности»113. А.А.Бестужев-Марлинский, напротив, высказывался-восторженно: «Но Вельтман, чародей Вельтман, который выкупал русскую старину в романтизме, доказал, до какой обаятельной прелести может доцвесть русская сказка, спрыснутая мыслию»114. В словах Марлинского («выкупал русскую старину в романтизме») содержится хоть и образное, но вполне точное указание на характер восприятия отечественной истории и фольклора в творчестве писателя. Белинский, упоминая «археологический мистицизм», говорит, по сути дела, о том же самом. Иными словами, Вельтман, осмысливал национальное прошлое сквозь книжно-романтическую призму, пребывая в русле устремлений эпохи.
Одним из ярких примеров подобного стилизаторского опыта является роман «Кощей Бессмертный, былина старого времени» (1833). Исследователи придерживаются различных взглядов на стилевую доминанту этой вещи. Несмотря на то, что само название вельтмановского произведения недвусмысленно отсылает к фольклору, многие ученые склоняются к тому, что «Кощей Бессмертный» - исторический роман. Такой точки зрения придерживается, например, Б.Бухштаб115, справедливо замечая в то же время, что исторический роман в современную Вельтману эпоху понимался расширительно, как любое повествование об отдаленном прошлом. Еще одно распространенное жанровое определение «Кощея...», а также некоторых других произведений писателя (в частности, «Светославич, вражий питомец: Диво времен Красного Солнца Владимира») - фольклорно-исторические романы116. Помимо этого, многие исследователи справедливо усматривают в «Кощее...» пародийное начало. По мнению А.В.Чернова, «Кощей Бессмертный» - это роман-пародия»117; Б.Бухштаб полагает, что это роман «насквозь иронический» .
Однако, думается, что понятия «исторический роман», «фольклорно-исторический роман» не являются исчерпывающими. Ввиду наличия разнообразных стилевых объектов воссоздания и подчеркнутой иронии над исторической достоверностью, вести речь об историческом романе не вполне корректно. В определении же «фольклорно-исторический» видится некая оксюморонность, скорее затемняющая суть дела.
Безусловно, нельзя не учитывать пародийно-иронического начала в стилизаторских опытах Вельтмана. Как отмечал Ю.Н.Тынянов, «стилизация близка к пародии. (...) Но в пародии обязательна невязка обоих планов (...) При стилизации этой невязки нет, есть, напротив, соответствие друг другу обоих планов: стилизующего и сквозящего в нем стилизуемого. Но все же от стилизации к пародии - один шаг; стилизация, комически мотивированная или подчеркнутая, становится пародией»119. Комическая мотивация в известной мере присутствует в романе Вельтмана, однако обнаруживается преимущественно в авторских комментариях. Сам же слог - летописный, фольклорно-сказочный - будучи вводимым в повествование, пародийно трансформируется очень редко, чаще именно стилизуется. Ирония обнаруживает себя в точке зрения автора, в его отстранении, акцентируемой условности: «...если б я не последовал исступленной моде писать романы и не подражал Апулею, Петронию, Клавдию Албинию, Папе Пию 11-му, Гелиодоту и всем, всем древним, средним и новым романистам.
Бедный читатель! Кто не пользовался твоею слабостью, твоей доверчивостью! Кто не водил тебя по терниям слога, по развалинам предмета, по могилам смысла, по пучине несообразностей?»120
Или: «Рассмотрев все летописи, простые и харатейные, все древние сказания и ржавые Ядра Истории, я не нашел в них ни слова о событии, которое предаю потомству. Это упущение особенно должно лежать на душе Новгородского летописца» (С. 38, курсив А.Ф.Вельтмана).
В некоторых случаях, правда, затруднительно с точностью определить, что перед нами - образец пародии или все же стилизации (учитывая отмеченную Тыняновым тонкую грань между этими явлениями): «В лето 6728-е, говорит неизвестный летописец, Ива Иворович иде Славенскою землею во Иерусалим и негде у торга Чернавца пленен бысть Айдамаками Угорскими и обыцьствован и вмале не убиен, и убежа, и вбежа в торг Роман, идеже, жалости ради, взят бысть Урменским купцом и везен в Дичин (вер. Диногетия, Галиц) и далее... А далее в летописи ничего нет...» (С. 84-85, курсив А.Ф.Вельтмана). Думается, что начало пародийное даже здесь не доминирует (хотя и присутствует), акцент же смещен прежде всего на стилизацию лексики, слога и событий летописи.
Сам Вельтман кстати с иронией пишет о жанровой принадлежности своего произведения, намеренно смешивая целую череду определений: «моя длинная речь, слово, песнь, повесть, сказание, история, быль, вымысел, поэма, ядро, роман». Ключ к стилевой доминанте произведения видится в подзаголовке - «Былина старого времени». Действительно, произведение Вельтмана являет собой воссоздание некоего древнего сказания, и через него — образа национального (что было важно и актуально для эпохи) прошлого сквозь призму книжного текста. В этой связи опорными источниками для Вельтмана являются летописи (прежде всего «Повесть временных лет») .-и - шире -древнерусская книжность вообще, когда колорит времени передается иногда через одно слово или словосочетание в древнерусской орфографии. Как отмечает А.П.Богданов, «мы находим в тексте и удачную стилизацию этих исторических - Г.3 источников, а также разрядных записей XVI-XVII вв, "Домостроя", ... княжеских докончальных грамот и т.д. - все служит материалом для введения читателя в исторический мир, в реальную жизнь и быт вымышленных героев»121. Фольклорно-сказочное начало также присутствует, но, как будет показано далее, и оно дается скорее как книжный текст, а не как устное народное творчество.
Фольклорное, книжное и сказовое в дилогии П.И.Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах»
Устремления эпохи в полной мере отразил Н.С.Лесков, обращаясь в своих произведениях к изображению жизни недворянских сословий и различными путями создавая установку на достоверность (точнее - образ достоверности). Помимо обращения к соответствующим жанрам (очерка, романа-хроники), свидетельствовать с позиции очевидца о быте, укладе, строе мышления людей самых разных слоев общества писателю позволяло воссоздание устного слова конкретного рассказчика, то есть - сказ. Действительно, сказ помогает акцентировать «невыдуманность», «правдоподобие» текстов; в этом плане творчество Лескова пребывало, как уже было отмечено, вполне в стиле означенного культурного периода. В то же время литературная судьба писателя наглядно свидетельствует о том, что он не был безоговорочно принят своей эпохой. Напротив, Лескову были знакомы периоды непризнания, «отлучения» от литературы. Безусловно, причины, по которым это происходило, порой носили и внелитературный характер (реакция на известную статью о петербуржских пожарах в «Северной пчеле»). Однако свою роль сыграло и настороженное отношение к стилевой специфике Лескова, которая не только современниками, но и потомками воспринималась как весьма экстравагантная.
Ф.М.Достоевский в статье «Ряженый» («Дневник писателя», 1873) упрекал Лескова в искусственности слога и неправдоподобии: «Читатели хохочут и хвалят, и, уж кажется бы, верно: дословно с натуры записано, но оказывается, что хуже лжи, именно потому, что купец али солдат в романе говорят эссенциями, то есть как никогда ни один купец и ни один солдат не говорит в натуре»140. А вот показательное суждение П.П.Бажова, чей творческий расцвет пришелся уже на первую треть XX века: «... в свои юношеские годы относился к этому писателю отрицательно, не зная его. Понаслышке он был известен мне, как автор реакционных романов, поэтому, видимо, я и не тянулся к произведениям Лескова»141. В прочитанных в зрелые годы лесковских произведениях Бажов отмечает «большое словесное переигрывание» и «перехлестывание в словесную игру».
Вместе с тем, следует отметить, что в начале XX столетия стилевые находки Лескова «отозвались» в прозе целого ряда писателей (А.Ремизова, А.Белого, Е.Замятина, позднее - М.Зощенко и др.). Серебряный век и последующие 20-30-е годы заново открыли Лескова, который (как и Гоголь) пришелся «впору» эпохе начала XX века. Именно «эссенции» Лескова, его «перехлестывания» и «переигрывания» оказались востребованы и в стилевом отношении перспективны в силу того, что являлись отнюдь не орнаментальным «украшением», но внешним проявлением самобытного, целостного художнического стиля.
Чуть раньше Н.С.Лескова в литературу входит Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский), произведения которого (прежде всего, венец его творчества - дилогия «В лесах» и «На горах»), отвечая запросам времени, были самым непосредственным образом ориентированы на этнографический «факт». Характерно, что перу Мельникова, корреспондента Археологической комиссии и члена Русского географического общества, принадлежит целая серия исторических и этнографических очерков. Кроме того, специалист по истории раскола, Мельников оставил немало профессиональных исследований русского старообрядчества142.
Несомненно, научные разыскания послужили основой для художественных произведений, однако переоценивать роль документалистского, этнографического компонента, в частности, в упомянутой дилогии, было бы некорректным. Как справедливо отмечают современные ученые, «сам этот мир созданный писателем - Г.3. есть художественный образ российской реальности, а не эта реальность как таковая - вопреки многочисленным, идущим от современной автору критики утверждениям об "этнографической точности" построений Мельникова-Печерского»143. Действительно, не вызывает никаких сомнений тот факт, что задачи ученого-историка и художника слова принципиально различны (при том, что предмет исследования/изображения может быть одним и тем же): Мельников-писатель воссоздавал прежде всего образ этнографической достоверности. В числе прочего, созданию художественного эффекта «правдоподобия» способствовала и апелляция к устному слову.
Н.С.Лесков считал П.И. Мельникова своим учителем: их объединял интерес к старообрядчеству. Несмотря на частные расхождения в отношении к расколу («В мельниковском превосходном знании раскола была, неприятная чиновничья насмешливость, и когда эта черта резко выступила в рассказе «Гриша», я возразил моему учителю в статейке, которая была напечатана, и Павел Иванович за нее на меня рассердился»)144, в целом Лесков называл себя последователем «мельниковской» школы, отмечая: «Мельникову, а после и мне поставили в вину, что мы писали иначе, и на нас тогда было ожесточенное гонение, (...) Словом, я нес одинаковое с Павлом Мельниковым отвержение. Помимо интереса к расколу, писателей роднит установка на воссоздание устного слова и интерес к самым разным граням национальной старины. Однако, повторим, интерес этот - интерес художнический, а не научный. В этой связи важно понять меру условности, художественной опосредованности в создании образа быта и уклада, образа языка определенного сословия и т.п.
Часто используемые понятия «мельниковский этнографизм» и «лесковский сказ» скорее затрудняют путь к пониманию индивидуальной специфики писателей, так как характеризуют самый внешний, поверхностный стилевой пласт.
Показателем продуктивности стилевых исканий писателей является продолжение их традиций прозаиками начала XX века. Парадокс состоит в том, что Лесков в начале века воспринимался как писатель, что называется, «второго ряда»; Мельников же тем более пребывал на периферии читательского и исследовательского внимания. Вместе с тем, стилевое влияние обоих авторов и на символистскую прозу, и на более поздние вещи - периода «сказового бума» 1920-1930 годов - несомненно. О специфике этого подспудного влияния упоминает А.М.Ремизов, рассуждая, в частности, о собственных литературных «истоках»: «"В лесах" и "На горах" Мельникова-Печерского - первые из прочитанных книг, а попались случайно и за дешевку - на Сухаревке. Чувство мое было горячее, горящее — читал и не мог начитаться.
Древнерусская книжность и иконопись в зеркале стилизации (A.M. Ремизов и Н.К.Рерих)
Особая область прошлого, привлекавшая художническое внимание на рубеже веков - средневековая русская культура. 1910-е годы отмечены нарастающим интересом именно к отечественной старине. Произведения не только словесные, но и живописные (а также иконописные) становились предметом исследования, воссоздания и стилизации.
Показательно, что начало XX века ознаменовалось появлением целого ряда философских и культурологических работ, посвященных иконописи, причем их авторами были не только философы и священники, но и выдающиеся литераторы эпохи. Так, в 1903 году появляется статья А.Белого «Священные цвета»261, где говорится о постижении Божественного Начала через цвет. Статья написана в русле символистских исканий, и причислять ее к исследованиям православной иконописи было бы неправомерно, но уже в 1914 году М.Волошин в сходном ключе и не без влияния Белого рассуждает о символике цвета в статье, название которой говорит само за себя - «Чему учат иконы?» . Несмотря на то, что объектом внимания Волошина являются иконы, его подход, безусловно, далек от богословского, что, впрочем, вполне естественно. Зато в 1922 году появляется работа священника, о. Павла (Флоренского), «Иконостас». Формально это уже не серебряный век, однако начало работы соотнесено с 1916 годом, а замысел возникает и того раньше.
Так что, безусловно, эта книга принадлежит рубежной эпохе. В ней также, помимо прочего, речь идет о символике цвета, но уже в контексте богословском, изнутри православного видения. Можно упомянуть и «Три очерка о русской иконе» Е.Н. Трубецкого (1917) — «Умозрение в красках», «Два мира в древнерусской иконе», «Россия в ее иконе».
Интерес к иконописи обнаружился не только в философско-культурологических работах, но и в художественной практике русских живописцев. Так, М.Врубель на рубеже веков пишет фрески в храмах, его кисти принадлежат четыре иконы; Н.Рерих начинает с изучения иконописи, расписывает церковные стены. Однако, по всей видимости, не стоит идеализировать серебряный век в плане духовном (точнее - православном). Рубежная эпоха отмечена, прежде всего, духовными противоречиями, полярными метаниями; во многом интерес к древнерусской живописной и книжной культуре не уступал интересу к альтернативным философским и религиозным течениям, типа антропософии, теософии и т.д. Художественная практика уже упомянутых представителей культурной эпохи - яркий пример противоречивых тенденций. Творческий путь того же Врубеля прошел, как известно, от икон к откровенно демонической тематике (известен целый ряд картин на эту тему, последнюю же, «Демон поверженный», художник перерисовывал сорок раз /ускользающая демоническая личина!/ и хотел назвать «Ikone»). Творчество Николая Рериха, (правда, преимущественно позднее) достаточно тесно связано с восточной религией и культурой и в целом с реалиями, имеющими с русской православной традицией мало общего. Тем не менее, начинал Рерих как истовый приверженец древнерусской иконописи. К русскому средневековому искусству также испытывал особый интерес А.М.Ремизов.
Ощущавший особую связь со своим почти полным тезкой, царем Алексеем Михайловичем, Ремизов со всей тщательностью воссоздавал «скоропись» древнерусского письма и «на свой лад и голос» пересказывал старинные русские повести. Рерих пишет о царе Алексее и его эпохе в своих новеллах, носящих скорее документально-исторический, а подчас публицистический характер, хотя также по-своему воссоздающих колорит того времени. Таковыми являются его новеллы из достаточно объемного цикла «О старине моления». Сами названия целого ряда произведений («Иконный терем», «Иконы») указывают на интерес к вполне определенной сфере древнерусского искусства - к иконописи. Это в какой-то мере естественно: сама личность Рериха ассоциируется в первую очередь с его живописным творчеством, а лишь потом - с литературным. Однако, как отмечают исследователи, работа над словом у Рериха шла параллельно работе с кистью, а иногда опережала ее. Любопытно, что Рерих-писатель заявил о себе раньше, чем Рерих-живописец .
Знакомство Ремизова и Рериха состоялось 11 октября 1905 года на квартире у секретаря редакции «Вопросов жизни» Г. И. Чулкова. Впоследствии Ремизов скажет о Рерихе: «Н. К. Рерих знает всю доисторическую историю, 200000 лет смотрят через его каменные глаза»264. Рерих, в свою очередь, вспоминал: «Особые отношения были с A.M. Ремизовым. С одной стороны, мьь как будто и не часто встречались, но зато внутреннее ощущение было особо задушевное. Вспоминаю его "Жерлицу Дружинную". Вспоминаю и последнюю встречу в Париже, записанные им сны».
Не удивительны воспоминания художника о «Жерлице» - именно в этом цикле Ремизов воссоздал восемь картин Рериха: «Город строят», «Зловещие», «Град обреченный», «Дела человеческие», «Сокровище ангелов», «Ункрада», «Прокопий Праведный за неведомых плавающих молится», «Покорение Казани». Сам Рерих также часто создавал почти одноименные картины и художественные произведения (картина «Твердыня духа» - прозаический сборник «Твердыня пламенная», картина «Жемчуг исканий» - одноименный сборник и т.д.)266. Важно, что оба они пребывали в русле эпохи, сходно видя пути воссоздания образов прошлого. С одной стороны, оба были эрудированными знатоками старины, в частности, древнерусской, с другой, -выражаясь словами Е.Н. Аничкова, художники стремились «не увлечься подобием, а выразить то сложное, что родилось внутри». В известной статье «Без божества, без вдохновенья» (1921) А. Блок писал, что Рерих и Ремизов выносят на поверхность «родную старину», причём «это - признаки силы и юности»267. Об актуально-стилизаторском (в духе эпохи) воплощении образов древности в живописи Рериха пишет Л.Силард: «...развивая традиции В.Васнецова, Рерих стилизацию перевел в мифотворчество в плане концепции символизма» .
Ремизов отмечал: «Старинная русская повесть для меня не только пересказ, а выражение моих чувств»269. Точно так же Рерих «изучает приемы древнерусских мастеров, усваивает их достижения». Однако, «сходство художественных средств иконописца при достижении мощного живописного эффекта, немногословие красок, виртуозное владение локальным цветом, выразительность линий - все это открывает ему пути для дальнейшего развития своего стиля» (курсив мой - Г.З.)270. «Древнерусская культура воспринимается им не как изолированное, замкнутое явление, а как взаимодействие, стык многих культур»271.
Специфика воссоздания мифа и обряда в малой прозе А.М.Ремизова: функция поэтического начала
Совершенно особый интерес обнаружила эпоха начала XX века к искусству театра. Как и прочие искусства, театр в означенный период находился в напряженном поиске новых путей воплощения. Новое виделось в обращении к условности, повышенной абстракции, символике (возникает понятие «условный театр», связанное, прежде всего, с именем В.Э.Мейерхольда). Параллельно с этим на театральную сферу, равно как и на другие виды искусства, распространилось увлечение образами прошлых эпох («Старинный театр» Н.Н.Евреинова, ставивший литургические драмы, миракли, моралите и фарсы). Подобные искания не были, конечно, прерогативой исключительно театра. Деятелям других искусств - литераторам, художникам - были близки и понятны подобные устремления, ввиду их «универсальности», общности для культурной эпохи (например, живопись, как уже было отмечено, точно также обращается от реализма к условности и старине). Интерес к путям развития театра нового столетия проявило большинство авторитетнейших поэтов, писателей и художников своего времени. В 1909 году Вяч. Иванов писал о «новом театре», усматривая в его обновлении образ будущих глобальных культурных изменений: «Тема о возможностях нового театра — тема о наступающей культурно-исторической революции, очагом которой является борьба за сцену».
Годом раньше А.Блок и А.Белый также пишут статьи о современном театре. Тема неизбежного обновления театра, невозможности его существования в прежних формах, а также тема взаимоотношения театра и литературы - вот то, что объединяет размышления обоих поэтов-символистов. А.Блок обращает внимание на обострившуюся вражду «литературы с театром, писателя с актером», которая имеет «свои глубинные, реальные причины»295. По мнению А.Блока, в современную ему эпоху «старый театр остановился, перевел дух и умер»296, а «прямое или косвенное презрение писателя к сценическому воплощению своих произведений дошло до апогея»297. Прежний тип актера уже не отвечает запросам времени, но появляется (должен появиться) актер новый - «уже не масочный герой, а человек, страдающий с другими вместе, человек эпохи "крушения индивидуализма"» . Обновление театра Блоку виделось в отходе от эстетизации, столь востребованной искусством рубежной эпохи («И может быть, вся наша борьба есть борьба за цельность жизни, против двойственности эстетики. Это - как бы новое "разрушение эстетики"»299), и в обращении к «народному театру» и «народному» же зрителю. Характерно, что в этом обращении к народу, «который ни в чем не согласован с "интеллигенцией", оторван от нее, не может подойти к ней так же, как и она никогда не соблаговолит "снизойти до него"»300 поэт провидчески угадывает наступление чаемой юной эпохи, рано или поздно приходящей на смену эпохе прежней, эстетствующей — старческой. Смена театральной публики, наступление новой театральной эры мыслится Блоком символически-расширительно, соположенно приходу новых времен вообще: «Не сегодня-завтра постучится в двери наших театров уже не эта пресыщенная толпа современной интеллигенции, а новая, живая, требовательная, дерзкая. Будем готовы встретить эту юность. Она разрешит наши противоречия, она снимет груз с наших усталых плеч, окрылит или погубит» (разрядка А.Блока).
Ощущение трагического надлома «старческой» эпохи - эпохи «раскольнической, мучительной, переходной» дано было Блоку, кажется, в большей степени, чем другим его современникам. И более, чем другие (и ранее других) предугадал он необходимость притока «новой крови» именно из народной среды. Симптоматично, что размышления эти «вписались» в контекст размышлений о перспективах развития театра. Это еще раз подчеркивает концептуальную важность театрального искусства в означенный период - через него во многом смотрели и на искусство вообще, и подчас на саму жизнь. К подобному - жизнестроительному - пониманию театра склонялся Андрей Белый. По его мнению, «последняя цель драмы — содействовать преображению человека в таком направлении, чтобы он стал сам творить свою жизнь, населяя ее событиями роковыми. В таком случае жизнь человека — это данная ему роль, и от него зависит понять эту роль и осветить ее творчеством» . И далее: «Драма, оставаясь формой искусства, изменяет направление русла и развития искусства. Она стремится стать жизнью, но жизнью творчества» .
Действительно, наряду с обновлением театра как такового, он, помимо прочего, как бы расширяет свои границы, объемля собой и другие искусства, и данеє саму жизнь. Как отмечает А.В. Вислова, «не отражение жизни на сцене, а привнесение элементов театра в жизнь, артистическое жизнетворение становятся решающими для художников «серебряного века»305. Театр действительно занимал важное место в процессе творческого синтеза искусств, а также искусства и жизни («В драме ощупывается как бы основной ствол, от которого во все стороны растянулась пышная крона многообразных форм искусства» ). Несомненное влияние театральное искусство, как уже было сказано выше, оказывало на живопись; творчество Сомова и Бенуа - яркий тому пример. Причем, речь может идти о вполне определенном жанре - о комедии дель арте с ее маскарадом, условностью, «кукольностью».
Искусство слова также не могло не испытывать на себе влияние театра; как и живописное искусство, театр становился для поэтов и прозаиков (а не только драматургов) той стилизационной призмой, сквозь которую они воссоздавали образы отдаленных эпох. Яркий пример такого воссоздания -проза М.Кузмина, в частности повесть «Приключения Эме Лебефа». Повесть написана в 1907 году и посвящена «дорогому Сомову» - художнику, также своеобразно ассимилировавшему театральное начало (хотя, несомненно, нельзя не учитывать и личный момент, а именно - романтические отношения Кузмина и Сомова).