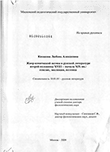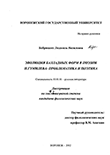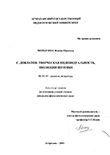Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Статус наивной словесности и литературного примитивизма в рамках поля литературы 36
1. Специфика примитива в ряду типологически и генетически сходных феноменов 36
2.Генезис наивной словесности в контексте «третьей культуры» 40
3. Примитив и примитивизм во взаимопротивопоставлении и соотнесении с «дилетантизмом» и «провинциализмом» 46
4.Современная наивная словесность и «производители литературной нормы» 56
Глава II. Русская наивная поэзия в контексте литературного процесса 65
1 . Поэтическая практика в субкультурах, пограничных с примитивом 65
2.Профессионализация наивных поэтов: от примитива к литературному процессу 74
3.«Классики» наивной поэзии в маргинальных зонах словесности 93
Глава III. Поэтический примитивизм как художественное переосмысление феномена наивной поэзии 104
1 .«Стихийный примитивизм»: ранний Николай Гоголь и Велимир Хлебников как неконвенциональные фигуры 104
2.«Поэзия персонажей» и «поэзия под маской» как модели примитивистского текстопорождения 112
3.Примитвизм как литературная позиция 118
Заключение 135
Библиография 143
- Специфика примитива в ряду типологически и генетически сходных феноменов
- Примитив и примитивизм во взаимопротивопоставлении и соотнесении с «дилетантизмом» и «провинциализмом»
- Поэтическая практика в субкультурах, пограничных с примитивом
- .«Стихийный примитивизм»: ранний Николай Гоголь и Велимир Хлебников как неконвенциональные фигуры
Введение к работе
Насущной задачей литературоведения является построение такой историко-литературной системы, которая была бы четкой и непротиворечивой в теоретическом аспекте. В этой связи принципиальным является исследование феноменов, во-первых традиционно считающихся маргинальными (этот предрассудок современная гуманитарная мысль с успехом преодолевает) и, во-вторых, не выделенных в рамках строгой научной конвенции из ряда смежных явлений.
Такой областью, лишенной строгих дефиниций в рамках
литературоведения, предстает набор понятий «наивное», «примитивное»,
«примитивистское», «инфантильное», «детское», «дилетантское»,
«графоманское», «любительское», «провинциальное», «субкультурное», «девиантное», «аутсаидерское» и т. п. в применении их как к текстам, так и к типам творческого сознания и поведения.
Мы полагаем необходимым вычленить из этого набора понятийный ряд «примитивное», «примитив» (= «наивное», «наив») — «примитивистское», «примитивизм», и рассмотреть его соотношение со смежными, типологически или генетически близкими феноменами — и литературным пространством в целом. В данной работе эти термины понимаются как тождественные и используются контекстуально. Их параллельное существование в эстетике и искусствознании обусловлено исторической традицией: «... термин primitif в отношении искусства стал в XVIII в. конкурирующим к naif, а потом уже — в XIX столетии — и господствующим, хотя не сразу» [Турчин 2001:213]1; исходя из этого, речь идет об особом типе искусства, которое «терминологически неопределимо, и <мы> можем называть его "наивным" или "примитивистским"» [Там же] (в цитируемой работе дается краткий, но информативный очерк истории понятий «наивное» и «примитивистское» в
1 Здесь и далее сначала указывается автор работы и год ее написания, затем, после двоеточия - номер страницы. При ссылках на ЛЭТП указываются номера столбцов.
эстетике и искусствознании). Здесь следует отметить, что, во-первых, В.Турчин смешивает понятия «примитив» и «примитивизм», а во-вторых, некоторые искусствоведы и эстетики разделяют понятия «наив» и «примитив» как несинонимичные. Так, А.В. Лебедев, чья искусствоведческая концепция во многом лежит в основе нашей работы, полагает термин «наив» более узким, нежели термин, нежели «примитив»: «Мне кажется, что наивом мы можем назвать ту часть примитива, которая находится ближе к народной почве» [Задачи... :100]. Впрочем, в литературоведческом анализе подобные разделения представляются нам нерелевантными. Само собой разумеется, что используемые термины лишены тех негативных коннотаций, которые присущи их нетерминологическим омонимам в обыденном языке.
В целом, мы солидаризируемся с высказыванием Роже Кайуа: «... расхожим приемом стало уподоблять друг другу мифическое, поэтическое, детское и психопаталогическое мышление. При этом в лучшем случае обходятся смесью из кое-каких мистических деклараций, поэтических прозрений, формул, взятых у гг. Леви-Брюля, Пиаже или Фрейда, — словно не замечают, что в этих условиях для общей феноменологии воображения куда полезнее уточнять различия, чем утверждать далекие аналогии». И далее: «Только при этом условии — четко обозначать базовые специфические качества разных проявлений воображения в жизни — становится возможным наметить более или менее полную классификацию всех рассматриваемых фактов, поместить их в рамки систематической конструкции, которой нам до сих пор недостает и потребность в которой иногда болезненно ощущается» [Кайуа 2003:36].
Вместе с тем, предлагая некоторую теоретическую конструкцию, мы преследуем, в первую очередь, историко-литературные цели. Интересующие нас феномены рассматриваются в контексте истории русской литературы (преимущественно конца XIX — XX вв., но с необходимым экскурсом в более раннюю эпоху).
Понятия «наивное», «примитивное» имеют давнюю историю, на протяжении которой значение их менялось и корректировалось. Сложность анализа феноменов, скрывающихся за данными понятиями, усугубляется разницей подходов, выработанных различными гуманитарными дисциплинами.
Если пренебречь смыслами рассматриваемых понятий, присущими обыденному языку, то следует прежде всего остановиться на традиции анализа «наивного» в философской эстетике. Понятие «наивное» разрабатывается на исходе XVIII в. И.Кантом («Критика способности суждения», 1790) и Фр. Шиллером («О наивной и сентиментальной поэзии», 1796). Оба мыслителя, находясь на подступах к диалектике художественной формы, демонстрируют весьма неоднозначный характер категории «наивного».
По Канту, «наивность» есть «вспышка некогда естественной для человеческой природы искренности, противостоящей тому, что стало второй натурой человека, — искусству притворства. Над простотой, которая еще не умеет притворяться, смеются, радуясь одновременно простоте природы, которая становится здесь препятствием этому искусству. Ожидали повседневной привычки к искусственности выражения, предусмотрительно рассчитанного на красивую видимость, а перед нами внезапно оказалась неиспорченная невинная натура, встретить которую мы никак не ожидали и которую тот, кто ее проявляет, совсем не собирался обнаруживать. Что красивая, но ложная видимость, которая обычно столь много значит в нашем суждении, здесь внезапно превращается в ничто и что в нас самих как бы обнажается притворщик, вызывает душевное движение, которое идет по двум противоположным направлениям, что также целебно сотрясает тело. Но то, что бесконечно превосходит все привычные обычаи, чистота мышления (по крайней мере ее задатки), которая еще не совсем исчезла в человеческой природе, привносит в эту игру способности суждения серьезность и глубокое уважение. Однако поскольку это лишь кратковременное явление и покров притворства вновь заслоняет его, к этому примешивается и сожаление, нежная
умиленность, которая в качестве игры легко соединяется с добродушным смехом и обычно действительно с ним соединяется, вознаграждая того, кто дал для этого повод, за его смущение, вызванное тем, что он еще не умудрен жизненным опытом. Поэтому искусство быть наивным есть противоречие: однако представлять наивность в вымышленном лице возможно и являет собой прекрасное, хотя и редкое искусство. Но с наивностью не следует смешивать чистосердечную простоту, которая лишь потому не привносит искусственность в природу, что не ведает, что есть искусство человеческого общения» [Кант 1994:209-210]2.
Интуиции Канта систематизируются в работе Шиллера. Кантовская «чистосердечная простота» * может быть сопоставлена с шиллеровским «наивным нечаянного», а собственно «наивность» — с «наивным образа мыслей»; в первом случае «личность должна быть морально способной на отречение от природы», во втором — «она не должна быть такой непременно, но и не должна мыслиться физически неспособной на это, иначе она не будет воспринята как наивная» [Шиллер 1957:390-391]. Противопоставление «наивности» и «притворства» (оба понятия у Канта носят очевидный оценочный характер) заменяется Шиллером на дихотомию «наивное» vs. «сентиментальное» (оба члена которой лишены негативных коннотаций).
Если Кант говорит об общеэстетической категории, то Шиллер впервые рассматривает понятия «наивного» и «сентиментального» в применении к поэзии: «Поэзия может быть бесконечностью по своей форме, изображая предмет во всех его границах, индивидуализируя его; она может быть бесконечностью по материалу, освобождая предмет от всех границ, идеализируя его, — другими словами, она может быть бесконечностью либо как абсолютное изображение, либо как изображение абсолюта. Первым путем идет наивный, вторым — сентиментальный поэт. Первому достаточно быть верным природе, которая всегда и везде ограничена, то есть бесконечна по
2 Здесь и далее курсив, полужирный шрифт и пр. выделения в цитатах, кроме особо оговоренных случаев, принадлежит цитируемым авторам.
форме, — и он не отклоняется тогда от своего содержания. Второму же природа с ее постоянной ограниченностью препятствует, ибо он должен вложить в предмет абсолютное содержание» [Шиллер 1957:442-443].
Относя к «наивной поэзии» значительную часть античной литературы, а к «сентиментальной» — новой, Шиллер, тем не менее, не абсолютизировал границу (в т. ч. историческую) между этими категориями (и даже постулировал возможность их соединения в одном тексте). По сути дела, «наивное» и «сентиментальное» выступают как синонимы реализма и идеализма, которые «полностью соответствуют вышеупомянутым поэтическим видам и представляют собой их прозаические подобия»3.
Нельзя не отметить, что определения, данные Кантом и Шиллером, совмещают эстетическое измерение с психологическим и этическим4; в дальнейшем подобный подход к проблеме «наивного» получит повсеместное распространение и породит тот клубок методологических проблем, распутыванию которого отчасти посвящена настоящая работа.
Разработанное Кантом и, особенно, Шиллером понятие «наивного» прочно входит в эстетический обиход5, подвергаясь переосмыслению в работах А.Шлегеля, В. фон Гумольдта, Ф.Шеллинга и др. авторов. Так, Фридрих Шлегель сопрягает «наивность» с романтической иронией, сомневаясь в возможности абсолютной не-намеренности: «Наивно то, что естественно, индивидуально или классично либо кажется таковым вплоть до иронии или до постоянной смены самосозидания и самоуничтожения. Если это только инстинкт, то он детский, ребячливый или глуповатый; если это только намерение, то возникает аффектация. Прекрасная, поэтическая, идеальная наивность должна быть одновременно намерением и инстинктом. Сущность намерения в этом смысле — свобода. Сознание — это еще не намерение.
3 Из письма Шиллера к В. фон Гумбольдту от 9 января 1796 г.; цит. по [Асмус 1957:707].
4 «... различие это в ряде случаев не связано в сущности с эстетикой. Шиллер выводит его не из самого
искусства, как такового, а из различий двух основных этических, а не эстетических типов человеческого
характера Но различия эти в свою очередь становятся основой для различия соответствующих этим характерам
видов, или типов искусства» [Асмус 1957:707].
Существует известное влюбленное созерцание собственной естественности или ребячливости, которое само бесконечно ребячливо. Намерение не обязательно требует глубокого расчета или плана. И наивное у Гомера — это не только инстинкт: в нем по крайней мере столько же намерения, как в грации милых детей или невинных девушек. Если у него даже и не было намерений, то они есть у его поэзии и ее подлинной созидательницы — природы» [Шлегель 1983 Т.1:291-292].
Говоря о стиле прозы Сервантеса, Шлегель находит в нем «архаичное, простое, наивное, строгое, детское, полностью погружающее нас в дух поэтической древности» [Шлегель 1983 Т.2:100]; пожалуй, с этого выказывания можно начинать отсчет смешения этих и других типологически близких, но отличных феноменов. Вместе с тем именно романтическое переосмысление «наивности» (параллельно с идеями Ж.-Ж. Руссо о «естественном человеке») представляется нам, именно за счет его проблематичности, более актуальным, нежели схемы Канта и Шиллера, «спрямляющие» рассматриваемый феномен.
Своеобразный итог классической эстетической традиции рассмотрения «наивного» мы находим в «Диалектике художественной формы» А.Ф. Лосева. В его классификации видов художественной формы «наивное» определяется как категория, противоположная иронии. Иронию, по Лосеву, можно определить как «утверждающую себя своим уничтожением в образе идею». Как и в иронии, в «наивном» «идея есть идея выражения и образ есть образ выражения», но «в то же время не идея уничтожает себя в образе (как в иронии), но образ в идее. <...> Идея превосходит образ, но не образ поглощает в себе эту превосходящую его идею и тем насыщается до степени иронии, но идея поглощает в себе уступающий ей по силе образ, так что выражение оказывается слабым и малоговорящим (в противоположность иронии), но зато идея и содержание выражения насыщаются от неспособности выразиться, а так как идея еще мыслится превосходящей образ, то это насыщение производит
5 Показательно, что в таком авторитетном справочнике, как Л ЭТО, термин «наивное» появляется лишь в связи с вышеуказанной статьей Шиллера и ее переосмыслением в немецкой классической эстетике [ЛЭТП:603-604].
впечатление недоступности, высоты, глубины, чистоты, величия и т. д.» [Лосев А. 1995:139]. Противопоставляя «наивное» иронии, Лосев, по сути дела, полемизирует с романтическим представлением о «наивном». Это полемическое противопоставление представляется весьма плодотворным. Его можно считать абстрактной моделью интересующей нас дихотомии «примитив» vs. «примитивизм».
В искусствознании, теснее всех других гуманитарных дисциплин связанном с общей эстетикой, понятия «наивное искусство», «примитив», «примитивный» и ряд смежных с ними, начиная с XIX в., в зависимости от исследовательского волюнтаризма, получают различный объем: «Термин "примитив" был делегирован в прошлые века, как только началось систематическое изучение истории искусства и были признаны нормативными эталоны художественного мастерства, созданные античностью и Ренессансом. Первоначально, в XIX столетии, этот термин прилагался к творчеству итальянских художников раннего Возрождения. Преклонение перед искусством Высокого Возрождения порождало противопоставление его достижений искусству предшествующего времени, примитив вошел в историю искусств как антипод мастерства, учености в искусстве. Ныне к Джотто и художникам его эпохи термин "примитив" уже не прилагают. Область его значений переместилась» [Богемская 2001а:41]; «... сущность примитива такова, что в круг его попадают в первую очередь явления, возникающие в момент смены одной большой стилевой системы другой, когда привычная кодификация ослабевает, процесс нового формообразования как бы разливается в ширину, прихотливо ломая и трансформируя прежние структуры, рождая новые сочетания, функционирующие теперь на уровне анонимного интегрированного искусства. Таким периодом и была <...> эпоха перехода от Средневековья к Новому времени» [Тананаева 1983:34]; «Искусство примитива в девятнадцатом столетии было достоянием этнографов — если речь шла о так называемом
11 традиционном искусстве — и психиатров, коли обнаруживалось непрофессиональное наивное творчество» [Богемская 2001а:3]; «В научной литературе термин "примитив", "примитивный" используется в двух значениях — расширительном и конкретно-историческом. "Примитивным" в первом значении называют всякое (в том числе — художественное) сознание, в рамках которого мир и человек неотделимы друг от друга <...> Им обозначают искусство древних внеевропейских цивилизаций, первобытное, средневековое, народное искусство, традиционное искусство Азии, Африки, Америки и Океании, детское творчество, иногда искусство душевнобольных. Под "примитивом" во втором значении понимают творчество мастеров, не прошедших профессиональной выучки академического толка, однако вовлеченных в общеевропейский художественный процесс XVII - XX веков» [Лебедев 1996:25].
Общая проблема искусствознания, а именно тотальная описательность, особенно ярко проявилась в разбросе интерпретаций понятия «наивное искусство» (и смежных с ним). Тем не менее, следует признать: именно в искусствознании на сегодняшний день разработаны надежные методы анализа художественного примитива. Этого нельзя сказать о литературоведческом анализе наивной словесности. Истоки широкого интереса к примитиву связаны с модернизмом и авангардом, как в изобразительном искусстве, музыке, театре, так и в литературе; между тем, массовое, а не только профессиональное внимание завоевали образцы именно художественного, а не литературного примитива. Мы полагаем, что это связано с различным устройством художественного и литературных полей, с их различной степенью коммерциализации, с разницей статусов профессионального авторства.
Важнейшие замечания о природе примитива (в разных его формах) принадлежат классикам мирового, в т. ч. русского модернизма и авангарда, таким как Г.Аполлинер, А.Арто, А.Бретон, Д.Бурлюк, П.Гоген, Н.Гончарова, М.Дюшан, А.Жарри, И.Зданевич (Ильязд), К.Зданевич, В.Кандинский, П.Клее,
А.Крученых, МЛарионов, К.Малевич, Ф.Марк, В.Марков (Матвейс), Ф.Пикабиа, А.Скрябин, Т.Тцара, В.Хлебников, Д.Хармс, К.Швиттерс и мн. др.. Проще назвать значительного автора конца XIX — первой половины XX вв., который бы не высказался о примитиве, наивном искусстве. В этот период появляются важнейшие искусствоведческие работы, описывающие «примитивизм как общий компонент различных художественных течений» [Богемская 2001:151], такие как «Примитивизм в современном искусстве» Р.Голдуотера [Goldwater 1938]. Наивные художники (А.Руссо, Л.Серафин, А.Бошан, К.Бомбуа, Н.Пиросманишвили, Э.Хикс, «матушка» Мозес, И.Генералич, В.Денисов, Е.Честняков и многие другие) становятся признанными фигурантами экспозиционных проектов.
Дальнейшее развитие искусствоведческой мысли в применении к проблеме примитива ознаменовалось вычленением ряда параллельно существующих и взаимопересекающихся явлений. Так, выделяются6:
Ар-брют (Art Brut, т. е. «грубое, жестокое искусство») — это «спонтанный психический "выплеск" из глубин разума и сознания, запечатленный на бумаге или воплощенный в материале» [Яркина 1999:89] . Термин введен в 1945 г. французским художником Жаном Дюбюффе;
Новый вымысел (Neuve Invention) — «термин, применяемый для обозначения работ, сравнимых по силе и изобретательности с Ар-брют, но созданных авторами, находящимися в большем контакте с "нормальным" социумом и сознающими свою причастность к искусству» [Яркина 1999:91];
Искусство аутсайдеров (Outsider Art) определяется либо как работа художников, творящих «для себя или своего ближайшего окружения» и не осознающих себя художниками «до тех пор, пока коллекционеры или эксперты не утвердят их в мысли о том, что создаваемые ими произведения относятся к искусству» [Яркина 1999:91], либо, в иных контекстах, как творчество
6 Мы следуем классификации, приведенной в [Яркина 1999].
7 На эту тему см. [Cardinal 1972], [Тевоз 1995].
девиантов, душевнобольных . Термин был введен Р.Кардиналом в 1972 г. в качестве английского аналога Ар-брют, но затем приобрел самостоятельное значение;
Современный Фольк-Арт (Folk Art I Contemporary Folk Art) — декоративное искусство европейских крестьянских общин;
Маргинальное искусство (Narginal Art, Art Singulier) — искусство самоучек;
6) Интуитивное искусство (Visionary Art, Intuitive Art) — «наиболее общий
термин, охватывающий почти все произведения, имеющие художественную
ценность в рассматриваемой нами области» [Яркина 1999:92];
Интуитивная среда (Visionary Environments) — особая категория произведений, подобных инсталляциям, разного рода сооружениям, скульптурам и пр. объектам, создаваемых интуитивными художниками;
Наивное искусство (Naive Art) — «термин, относящийся к работам непрофессиональных художников, отображающих в своем творчестве сцены с людьми, животными и другими аспектами реального мира, иногда объединяемыми с вымышленными образами. Они часто стремятся к статусу профессиональных художников, черпая из академизма сюжеты и технику исполнения произведений. Наивные художники порой могут рассматриваться как искушенные любители, граничащие с профессионализмом» [Яркина 1999:92-93].
Приведенная классификация А.Яркиной, созданная на основе западной искусствоведческой практики и несколько отличающаяся от принятой в отечественном искусствознании терминологии, — не единственная в своем роде и не может не вызвать споров. Она не слишком последовательна и структурно аморфна, к тому же, с очевидностью, носит интуитивный характер. Тем не менее, данная классификация имеет большой практический смысл для первоначальных эмпирических наблюдений, и мы периодически будем
8 Из классических работ на эту тему следует отметить [Prinzhorn 1984]. В отечественной литературе известна книга [Карпов 1923], сыгравшая роль в истории русского послевоенного примитивизма в андеграундной
обращаться к ней в поисках аналогий для обозначения тех или иных явлений в словесности, относящихся к ряду «примитивное», «примитив» (= «наивное», «наив») — «примитивистское», «примитивизм».
В большей степени, однако, мы опираемся в нашей работе на оригинальные исследования отечественных искусствоведов и эстетиков: В.Н. Прокофьева [Прокофьев 1981, 1983], Н.М. Зоркой [Зоркая 1976], Д.В. Сарабьянова [Сарабьянов 20006], А.В. Лебедева [Лебедев 1994, 1995, 1996], Э.Д. Кузнецова [Кузнецов 1983, 1984], А.С. Мигунова [Мигунов 1991, 1999, 2001], Б.М. Соколова [Соколов Б. 1999], Г.С. Островского [Островский 1983а, 19836, 1990], М.А. Некрасовой [Некрасова М. 1983], К.Г. Богемской [Богемская 1996, 2001а, 20016], Л.И. Тананаевой [Тананаева 1979, 1983], З.Н. Крыловой [Крылова 1994], Н.А. Хренова [Хренов 1999, 2001, 2002], Н.Е. Григоровича [Григорович 2002], О. Балдиной [Балдина 1994, 2001] и др.
В особенности принципиальной представляется нам классическая работа В.Н. Прокофьева «О трех уровнях художественной культуры Нового и Новейшего времени (к проблеме примитива в изобразительных искусствах)» [Прокофьев 1983]. В этой работе исследователь постулирует существование т. н. «третьей культуры» (в другой терминологии — «промежуточной культуры» [ИКСУ: 153]), «однажды возникшей, исторически развивавшейся в изменчивых и зыбких, но все же уловимых границах между фольклором и учено-артистическим профессионализмом, постоянно взаимодействовавшей и с тем. и с другим, порой рискуя в этом взаимодействии потерять собственное лицо, но в конечном счете обладая где-то в глубине прочным центром самотяготения» [Прокофьев 1983:8]. Концепция Прокофьева, чрезвычайно плодотворная, оказала значительное влияние не только на историю и теорию искусства, но и на социологию и историю литературы. Мы полагаем очень важным и то, что работа Прокофьева во многом параллельна другой классической работе, статье Ю.М. Лотмана «О содержании и структуре понятия «"художественная
литературе; см. [Савицкий 2002:12-113].
литература"» [Лотман 1992а]. Несколько корректируя предложенные обоими учеными концепции, мы во многом исходим из них в нашей работе.
Принципиальной, хотя и требующей корректировки, представляется нам концепция искусствоведа и философа Бориса Гройса, изложенная в работе «О новом» и ряде статей [Гройс 1993]. Гройс выделяет в культуре сферы «архива» (включающего канонизированные, конвенциональные культурных образцы) и «иного», «профанного»; волюнтаристический акт художника изымает из сферы «профанного» (т. е. фонда потенциальных образцов) те или иные артефакты; этот акт «валоризации»9 преобразует «профанное» в художественно ценное; «валоризованный»10 артефакт включается в «архив» на правах произведения искусства [Гройс 1993:143 и след.]. Подобная ситуация иллюстрируется Гройсом на примере ready-made'ов11 Марселя Дюшана «Мона Лиза» (испорченная репродукция картины Леонардо) и «Фонтан» (обыкновенный писсуар, помещенный в экспозиционное пространство галереи) [Гройс 1993:157-170] . Для нас в концепции Гройса, помимо прочего, представляется ценной возможность транспонирования дихотомии «архив» vs. «профанное» на дихотомию «примитивизм» vs. «примитив». Впрочем, без учета тех социологических идей, о которых мы скажем ниже, гроисовская концепция не позволяет надеяться на непротиворечивое вычленение интересующих нас феноменов из ряда типологически сходных.
9 От французского «valorisation», «valoriser» — 'придание большего значения1, 'поднимать ценность'.
10 См. предыд. прим.
11 Термином «реди-мейд» (англ. «ready made», т. е. 'вещь промышленного производства') изначально, с подачи
М.Дюшана, означались «готовые объекты», т. е. промышленные изделия, «которые художник без всяких
изменений демонстрировал на выставках» [Бобринская 1994:<215>]. Впоследствии этот термин стал
применяться ко всяким формам художественного присвоения, в т. ч. и таким, при которых валоризованный
объект подвергается деформации. О реди-мейдах в литературе см., напр. [Байтов 2003].
12 Схожих с Б.Гройсом взглядов придерживаются сторонники эстетической школы институционализма (см.,
напр., [Дики 1997]); в кратком (и несколько утрирующем оригинал) пересказе Б.Дземидока их концепция
формулируется следующим образом: «искусство — это то, что в мире искусства считается искусством, а
произведением искусства является то, что миром искусства за такое произведение принято» [Дземидок
1997:221]. При всем редукционизме Дж. Дики и его последователей (гораздо более радикальном, нежели у
Гройса), их концепция соответствует некоторым фактам культурной практики, в т. ч. ряду прецедентов в
истории литературы (особенно авангардной). Таким образом, теория институционализма предстает своего рода
моделью одного из типов авангардного поведения (что, разумеется, снижает методологическую ценность
данной теории).
Несмотря на отмеченную выше слабую разработанность проблемы «наивной словесности» в литературоведческой науке (да и в критической практике13), нельзя не отметить то, что уже сделано в данной области.
Довольно многочисленны исследования наивных и / или примитивистских субстратов в творческом наследии,.интенций в художественном поведении тех или иных авторов. В этой связи с разной степенью подробности и внятности рассматривались такие писатели, как Н.В. Гоголь14, И.З. Суриков и поэты-«суриковцы»15, B.C. Соловьев16, A.M. Ремизов17, М.А.Кузмин18, В. Хлебников19, Д.Д. Бурлюк20, М.М. Зощенко21, А.П. Платонов22, Н.М. Олейников23, Н.А. Заболоцкий , Д.И. Хармс и А.И. Введенский , E.JI. Кропивницкий , И.С. Холин27, О.Е. Григорьев28 и др. В работах М.Н. Айзенберга [Айзенберг 1997], В.Г. Кулакова [Кулаков 1999], И.С. Скоропановой [Скоропанова 2000а, 20006], Д.В. Кузьмина [Кузьмин 2000, 2001а, 20016], И.В. Кукулина [Кукулин 2002а, 2003], ряда других исследователей и критиков рассматриваются (как правило, мельком) наивные, примитивистские и смежные с ними явления в актуальной литературе. Тем не менее, ни одна из этих работ не может претендовать на
реперезентативность в рамках интересующей нас темы .
13 «Наивная живопись давно стала предметом эстетического любования. По отношению к "наивному письму"
такое отношение не сложилось» [Козлова 1999:138].
14 [Марков 19946].
15 [Калмановский 1966], [Добренко 1999].
16 [Вишневецкий 1993].
17 Например, [Гурьянова 1994], [Молок 1994], [Синани-Мек Лауд 1994], [Rosenthal 1996].
18 [Синявский2003]
19 Например, [Степанов 1975], [Дугано в1990], [Janicki 1992], [Жолковский 1994], [Марков 1994а], [Полякова
1997], [Леннквист 1999], [Винокур 2000], [Баран 2002].
20 [Красицкий 2002].
21 Например, [Ходасевич 1991], [Сарнов 1993].
22 Например, [Макарова 2000], [Меерсон 2001], [Толстая 2002].
23 Например, [Полякова 1997], [Герасимова 1988], [Гинзбург 2000а, 20006].
"Например, [Македонов 1987], [Герасимова 1988, 1993], [Сарнов 1993], [Эткинд 2000], [ВанБаак2003].
25 Например, [Герасимова 1998], [Иванов А. 1997], [Кобринский 2000].
26 [Орлицкий 1993,2000], [Иванов А. 1997], [Маурицио 2003].
27 [Иванов А. 1997], [Кулаков 1999].
28 [Литягин 2003].
29 Впрочем, в известной работе [Жолковский 1994] на отечественном историко-литературном материале были
намечены пути дальнейшего изучения наивной словесности и литературного примитивизма.
Попытка целостного анализа русского литературного примитивизма
предпринята в диссертационной работе А.В. Иванова30. Исследователь
совершенно верно основывает свои рассуждения на важнейшей для данной
темы дихотомии «примитив» vs. «примитивизм», он точен, хотя и несколько
прямолинеен, в дефинициях: «Примитив представляет особый тип культуры,
имеющий собственную эстетику и граничащий с фольклором и учено-
артистичеким искусством»31; «Примитивизм — это система художественных
приемов упрощения и снижения, сознательно используемая
профессиональными художниками и литераторами для решения определенных
эстетических задач» [Иванов А. 1997:4]. К сожалению, мы не можем
удовлетвориться историко-литературной, т. е. основной частью работы
Иванова. Рассматривая три достаточно замкнутые группы — «обэриутов»
(поздних авангардистов), «лианозовцев» и концептуалистов
(«неоавангардистов»), автор не считает необходимым описать литературный и культурный контекст, в котором сформировалась присущая этим группам поэтика примитивизма. Для проделанного Ивановым анализа характерно неразличение стилистических и идеологических пластов, характеристики идиостилей в этой работе представляются порой произвольными, наконец, наличествуют и фактические ошибки . Но наиболее принципиальный недостаток работы Иванова заключается в том, что, озвучив антиномичность «примитива» и «примитивизма» автор не счел нужным наложить теоретическую схему на историко-литературный процесс; в результате описываемая им картина литературного процесса оказывается монополярной, и, следовательно, весьма далекой от действительности. Таким образом, в работе Иванова нам предъявлен редукционистский конструкт, мифологизирующий
30 Иванов А.В. Поэтика примитива в русском авангарде XX века (обэриуты и неоавангард 60-80-х годов).
Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. Минск: БГУ, 1997.
31 Это определение почти дословно воспроизводит определение «третьей культуры» в [Прокофьев1983].
32 Так, к концептуалистам отнесен Александр Еременко, чье позиционирование в рамках литературного
процесса связанно с пусть эфемерной, искусственно созданной в манифестах М.Н. Эпштейна и К.А. Кедрова,
зато четко противопоставленной концептуализму группой с «плавающим» названием «метафористы»,
«метаметафористы» или «метаболисты»: см., например, [Эпштейн 1988:166-169], [Кедров 1989:234-266],
[Кукулин 2003:364-365].
историю русской литературы и культуры XX в. Тем не менее, заслугой автора является само обращение к малоисследованной теме.
В наследии таких классиков филологической и критической мысли,
принадлежащих к разным исследовательским школам, как Ф. де Соссюр, А.А.
Потебня, Ю.Н. Тынянов, В.Б. Шкловский, P.O. Якобсон, Б.М. Эйхенбаум, Ян
Мукаржовский, Д.П. Святополк-Мирский, Б.В. Томашевский, Л.Я. Гинзбург,
Д.С. Лихачев, Р. Барт, Ю.М. Лотман, X. Блум, У. Эко, Х.Р. Яусс, Вяч. Вс.
Иванов, рассматриваются различные аспекты интересующей нас проблематики,
однако проблема собственно наивной словесности как правило затрагивается
косвенно, через смежные и типологически близкие явления: детское
творчество, массовая литература, эпигонство, графомания и т. д. В целом ряде
вопросов мы исходим из общих методологических установок, характерных в
той или иной степени для ОПОЯЗа, Московского и Пражского
лингвистических кружков, Тартуско-московской семиотической школы, в ряде
же других случаев корректируем эти установки (как «справа», с позиций
постструктурализма, так, в большинстве случаев, «слева», с позиций
социологизирования). Занимаемая нами, скорее вынужденно, нежели
добровольно, метапозиция, обусловленная характером исследуемого
материала, не позволяет принимать какую-либо литературоведческую методологию в полном объеме.
Это связано с тем, что схемы, выглядящие убедительными в общей эстетике, будучи перенесенными в частные дисциплины, порождают методологическую и терминологическую путаницу. Множество ценных наработок литературоведения и искусствознания требуют четкого и последовательного структурирования, что может быть достигнуто «выходом за пределы» этих дисциплин. В этой связи представляется, что необходимыми для изучения примитива и примитивизма, в т. ч. в словесности, оказываются такие дисциплины, как психология, антропология и социология. Их особенная роль в изучении ряда «примитивное», «примитив» (= «наивное», «наив») —
«примитивистское», «примитивизм» связана, в первую очередь, с особым статусом автора в наивной словесности (соответствующим образом отрефлектированным в литературе примитивизма)33.
Набольшие успехи в филологическом изучении наивной словесности связаны именно с пограничными, междисциплинарными исследованиями. Важной вехой в изучении наивного письма стала книга Н.Н. Козловой и И.И. Сандомирской «"Я так хочу назвать кино". "Наивное письмо": Опыт лингво-социологического чтения» [Козлова, Сандомирская 1996]. Публикуемое Козловой и Сандомирской наивное жизнеописание Е.Г. Киселевой сопровождается обширным предисловием, фактически мини-монографией, где наивный дискурс анализируется с психиатрической, социологической, эстетической, моральной точек зрения. Козлова и Сандомирская предлагают понятийный аппарат, приспособленный для анализа наивного письма34. В частности, исследовательницы противопоставляют «производителей нормы» (т. е. репрезентантов т. н. «высокой культуры») и носителей наивного дискурса, исключенных из нормативного культурного поля. Заслугой Козловой и Сандомирской нужно признать их твердую текстологическую позицию: наивный текст следует публиковать максимально аутентично, не подвергая его правке .
Разнообразная и плодотворная работа на грани антропологии, социологии, фольклористики и литературоведения проводится последнее время в Институте высших гуманитарных исследований РГТУ под руководством СЮ. Неклюдова. Лишь небольшая часть этой работы непосредственно связана с проблемой
Статус автора в наивной словесности и примитивизме рассматривается в главе /диссертации.
34 Справедливости ради, следует заметить, что этот аппарат не в полной мере пригоден в рамках настоящей
работы, т. к. предназначен скорее для анализа наивных жизнеописаний и др. «человеческих документов»,
нежели наивной поэзии.
35 К сожалению, в настоящей работе мы не всегда имели возможность придерживаться этой позиции, которую
всецело разделяем: автографы ряда анализируемых в диссертации текстов практически недоступны, а
публикации с неизбежностью искажены правкой и редактированием.
примитива, наивной словесности; значительная часть исследований касается смежных с примитивом явлений36.
Эта группа исследователей постулирует включенность наивной словесности в круг явлений, обозначаемых как «постфольклор», «продукт современной, преимущественно урбанистической спонтанной культуры» [Неклюдов 2002:5-6]. Неклюдов и его коллеги подключают к традиционному аппарату фольклориста «приемы и методы сопредельных дисциплин (теории коммуникации, когнитологии, психологии, социологии и др.)» [Неклюдов 2002:6]; в то же время их исследования остаются текстоцентричными: «Ярко выраженная социокультурная принадлежность авторов "наивных" текстов (точнее, их явная непринадлежность к образованному меньшинству) бросается в глаза, поэтому соблазнительно именно эту социальную характеристику авторов класть в основу определения "наивного" текста как объекта исследования. Сама же характеристика авторов складывается из цепочки отрицаний: описывается то, чего нет. Авторы, как мы только что сказали, не принадлежат к образованному меньшинству людей письменной культуры; они не владеют кодифицированными нормами литературного языка; они не являются квалифицированными читателями.
Однако объектом нашего исследования остается текст, а не его автор, чьи особенности могут характеризовать текст лишь косвенно. Если сам текст — безотносительно к социальному происхождению и уровню образования не имеет имманентно присущих ему свойств, то нам придется признать, что объекта не существует» [Минаева 2001:29]. Следовательно, очерчивание границ «наивного текста» может включать в себя соотнесение «наивного текста» «с фольклором; с художественной литературой (прозой и поэзией); с
Отметим следующие выпущенные этой группой ученых коллективные труды, непосредственно или опосредованно касающиеся нашей темы: Живая старина. — 2000. — №4 <спецномер журнала, посвященный публикации и анализу наивных текстов>; «Наивная литература»: исследования и тексты. — Московский общественный научный фонд. Серия «Научные доклады», №129. — М, 2001; Современный городской фольклор. — М.: РГГУ, 2003; Детский сборник: Статьи по детской литературе и антропологии детства. — М.: О.Г.И., 2003.
мемуарами, созданными в рамках письменной культуры; с текстами массовой литературы» [Минаева 2001:30].
Выраженная здесь «боязнь парадокса» усугубляется в случае обращения не к наивному жизнеописанию, а к наивной поэзии: невозможность имманентного анализа текста вне рассмотрения фигуры автора вступает в противоречие с отсутствием «автора авторствующего». Это, однако, лишь кажущийся парадокс, преодолимый рассмотрением наивного текста в рамках поля литературы.
СЮ. Неклюдов и его коллеги, определяя примитив как тип постфольклора, рассматривают его «снизу», т.е., исходя из схемы В.Н. Прокофьева , отслеживают его «дно», его взаимосвязи с лишенной авторства низовой культурой: «"Наивная литература" имеет много общего с "парафольклорными" формами, прежде всего, с "письменным фольклором" (песенниками, альбомами и т. п.), образцы которого бытуют в субкультурных и семейных традициях; по соседству с ними или в их многосоставных ансамблях встречаются и тексты "наивной литературы" (например, произведения "тюремной лирики"). Все это — продукция, как правило, рукописная и, кроме того, — "спонтанная", официально не санкционированная, производимая "на потребление, а не "на сбыт", т. е. непрофессиональная.
Однако у "наивной литературы" есть и ряд кардинальных отличий от "парафольклора". Прежде всего, ее тексты ориентируются на литературные (а не на устные образцы; самими создателями они расцениваются как продукт индивидуального творчества (а не коллектива), включая выраженное авторское начало (в противоположность анонимному голосу фольклорной традиции). Соответственно, образцы "наивной литературы" представляют собой "разовые" (и в этом смысле уникальные) произведения. Иногда они к тому же ориентированы на камерное, даже интимное бытование (семья, узкий круг друзей и т. п.) и не предполагают тиражирования» [Неклюдов 2001:5-6].
37 При этом методика Прокофьева рассматривается Неклюдовым как «чрезвычайно продуктивная для своего времени», однако нуждающаяся сейчас «в серьезных уточнениях» [Неклюдов 2003:17].
Продуктивность и ценность работы этой группы ученых бесспорна, и мы во многом солидаризируемся с выводами Неклюдова и его коллег. Тем не менее, наш подход в нескольких пунктах принципиально отличен:
1) если, Неклюдов и его коллеги, постулируя принципиальные отличия
«постфольклора» от фольклора в традиционном понимании, и специфику наива
в рамках «постфольклора», тем не менее анализируют наивные тексты исходя
из методов, наработанных фольклористикой, пусть и интегрированных в
междисциплинарный аппарат, то мы полагаем необходимым рассматривать
наивный текст сразу на нескольких уровнях, не отдавая предпочтения ни
одному из них и пытаясь достичь синтеза методов;
2) будучи, по преимуществу, фольклористами и антропологами,
исследователи из ИВГИ РГГУ естественным образом уделяют внимание, в
первую очередь, «низовым» формам примитива, в которых авторство
максимально размыто; нас же в большей степени интересуют «вершинные»
формы примитива, в которых он смыкается с профессиональной литературой,
переходя в примитивизм, либо поставляя материал для примитивистской
литературы (при этом, разумеется, мы не отказываемся от рассмотрения общей
структуры примитива); более того, мы последовательно рассматриваем
субстраты «наивного» в профессиональной литературе;
группа исследователей «постфольклора» не вполне последовательным образом настаивает на «текстоцентричности» своих исследований [Минаева 2001:29], что обрекает их, вопреки декларациям, на возвращение к испытанным методам фольклористики; мы же пытаемся совместить «текстоцентризм» с «автороцентризмом», взаимно корректируя эти взгляды и проецируя их на картину общелитературного поля;
наконец, мы исходим из несколько иной терминологии; используемый С.Ю.Неклюдовым термин «наивная литература» [Неклюдов 2001:5] представляется нам некорректным, т. к. в нем не учитывается принципиальная апроцессуальность и аконтинуальность наива (между тем как понятие о
литературе предполагает наличие и процесса, и континуума) ; мы предпочитаем говорить о «наивной словесности» в более общих случаях и о «наивном письме», «наивном дискурсе», «наивном тексте», «наивном авторе» в более частных39.
Среди других исследователей, работающих на грани фольклористики, литературоведения, антропологии и социологии, следует выделить В.А. Поздеева. В своих работах [Поздеев 2000, 2002а, 20026] он исходит из прокофьевской концепции «третьей культуры», не подвергая сомнению, в отличие от СЮ. Неклюдова, ее актуальность и действенность. Основной материал, исследуемый Поздеевым, — «низовая», «третья» городская культура XVIII - начала XX вв. и составляющие ее субкультуры (солдатская, семинарская, купеческая и т. д.) как таковые и как производители фольклорных и наивных текстов. Поздеев ориентируется именно на «низовой» пласт примитива; тем не менее, ряд его наблюдений, связанных с поэтами-«самоучками» представляется нам ценным.
Концепция «третьей культуры» отражена отчасти и в работах Н.Г. Михайловой ([Михайлова 2001], и в коллективном труде под ее редакцией [НКСУ]), в которых совмещаются искусствоведческий и социологический подходы. В качестве особых типов культуры, помимо фольклора,
Использование термина «наивная литература» порождает среди исследователей закономерную растерянность: «... с каких бы позиций мы не определяли наивную литературу <...>, нам вряд ли удастся структурировать наивную литературу как гомогенное пространство текстов, способов их порождения и воспроизведения» [Панченко 2002:390]. И далее: «Но даже в рамках этих трех столетий <т.е. XVIII — XX вв., когда, — здесь мы абсолютно солидарны с исследователем, — можно говорить о существовании наивной литературы — ДД> довольно трудно рассуждать о поступательности литературного процесса как такового и уж совершенно невозможно — о каких-либо процессах "наивно-литературных"» [Там же]. Различение понятий «литература» и «словесность» позволяет не считать указанные А.А. Панченко факты проблематичными (см. тж следующую сноску).
39 Большая часть принимаемых нами терминов отвергается Неклюдовым [Неклюдов 2001:4-5] на основаниях, представляющихся нам недостаточными. В случае «наивной словесности» «предметное поле» вовсе не «расширяется за счет "авторских" устных (а не только письменных) форм» [Неклюдов 2001:5], поскольку иначе пришлось бы относить к «наивной словесности», например, былички. Говоря о «наивном письме», мы не считаем, что речь идет «о любых малограмотных письменных текстах, включая чисто прагматические» [Неклюдов 2001:5] (хотя, в случае рассмотрения примитива, разделение прагматической и эстетической функций текста далеко не всегда очевидно); «письмо» (= «ecriture») понимается нами в традициях французской критической и философской мысли как особый социальный институт [Ильин 1996:36]. Говоря же о «наивном дискурсе», мы не столько подчеркиваем «"речевой" характер высказываний (в лингво-семиотическом смысле слова), лежащих в основе» рассматриваемых текстов [Неклюдов 2001:5], сколько специфичность данных высказываний, наличие в них модуса «наивности»; в этом смысле «дискурс» — понятие, близкое стилю [СЗЛ:45] (но не тождественное ему).
исследовательница выделяет «городской "примитив"», «любительство» и «художественную самодеятельность» [Михайлова 2001: 59, 73, 75], что представляется нам весьма сомнительным. В работе Н.Г. Михайловой обнаруживаются не вполне убедительные выводы; так «третьим типом народной художественной культуры является любительство» [Михайлова 2001:68], но оно «не имеет своеобразного художественного языка, стиля, что, естественно, исключает возможность его выделения в особый тип культуры с точки зрения искусствоведения, подобно фольклору и городскому "примитиву"» [Михайлова 2001:69]. Заметим, что Михайлова, как и ряд советских искусствоведов, говорит лишь о «городском примитиве» (полностью отождествляя его с «третьей культурой»), оставляя сельское население исключительно в сфере фольклора.
Подобные нерелевантные дефиниции и классификации ярко отражают методологическую нечеткость, доставшуюся современной науке от советского искусствознания, камуфлировавшего с помощью «эзопова языка» существование маргинальных сфер культуры. Подмена понятий (социальных эстетическими и наоборот), осуществлявшаяся в искусствоведении, отделяла «подлинно народное искусство» (и «подлинный примитив») от «псевдонародного»: «... самодеятельное творчество действительно охватывает все слои населения, независимо от социального положения и профессии <...> — но это вовсе не делает его народным в эстетическом смысле» [Некрасова М. 1983:99-100]; «... мы ставим вопрос о примитивном искусстве, которое важно не смешивать со всем тем, что подделывается под примитив» [Некрасова М. 1983: 287, прим. 24]. Данный подход представляется нам непродуктивным в отношении «пластических» искусств, и вовсе не приложимым к наивной словесности.
Говоря о наиве, примитиве, следует помнить о многозначности этого понятия не только в обыденном языке, но и в терминологии. Так, лингвисты,
антропологи, социологи говорят о «наивной картине мира»40, в т. ч. «языковой»41, подразумевая «донаучную» концепцию бытия: «В языке воплощены наивная геометрия, физика, психология и т. п.» [Санников 2002:321]42. «Наивная языковая картина мира» (т. е. «определенная концептуализация действительности, которая навязывается носителям языка в качестве обязательной» [Панова 2003:32]) выстраивается из «примитивов» (лингвистический термин, омонимичный используемому нами) или «элементарных концептов» [Вежбицкая 2001:19-21], представляющих собой «изначально заданный набор простейших слов, которые (в идеале) есть во всех языках» [Панова 2003:31]. «Наивной языковой картине мира» противопоставляется «авторская (в т. ч. поэтическая) картина мира», т. е. «мир, который распадается на относительно замкнутые в себе единства, или категории, начиная от вещей и кончая законами природы» [Панова 2003:34], что является, по сути дела, понятием, близким к идиостилю.
Не считая «наивную языковую картину мира» решающим фактором в анализе наивного текста, отделении его от не-наивного, мы, тем не менее, не отказываемся оперировать этим термином и связанным с ним понятийным аппаратом, корректируя наши умозаключения как лингвистическим, так и антропологическим инструментариями. Наиболее ценным для нас представляется здесь понятие «наивной философии» (или «наивного
і і \43 ~ 44
философствования») , тесно связанное с наивной словесностью .
Проблема архаического, примитивного сознания, немаловажная в нашей работе, рассматривалась с разных позиций такими ведущими социальными антропологами, этнологами, историками, философами и психологами, как Э.Б.
40 «Картина мира» (англ. «world-view») — понятие, введенное в 1950-х гг. Р.Редфилдом; это — «система
представлений о мире в целом, о месте человека в нем и о вытекающих отсюда взаимоотношениях человека с
окружающей средой» [Жидков, Соколов 2003:59]. По КРицлеру, «картина мира — это контурная схема,
которая опережает человеческий опыт, определяет его и управляет им» [Жидков, Соколов 2003:59].
41 См., напр., [Апресян Ю. 1995 т. 11:351].
42 Рассмотрению «наивной анатомии» посвящена работа [Урысон 2003].
43 См., напр. [Кондратьев 2001].
44 Ср., напр., склонность ДХармса к «естественным мудрецам», «естественным мыслителям».
Тейлор, Ч. Ломброзо, Б. Малиновский, А. ван Геннеп, Э. Кассирер, А. Р. Рэдклифф-Браун, Э. Дюркгейм, М. Мосс, Л. Леви-Брюль, К. Г. Юнг, Л. С. Выготский, Дж. П. Мердок, Й. Хёйзинга, М. М. Бахтин, К. Леви-Стросс, Р. Кайуа, М. Фуко, М. Мид, М. Элиаде, Э. Лич, А. Я. Гуревич и др.. К этим работам примыкают исследования долитературных фаз словесности и архаических литератур, выполненные такими исследователями, как В. Я. Пропп, О. М. Фрейденберг, С. М. Боура, А. Лорд, П. Зюмтор, М. И. Стеблин-Каменский, П. Б. Богатырев, Б. Н. Путилов, Е. М. Мелетинский. Ряд принципиальных концептов45, разработанных этими исследователями и
~ г 46
мыслителями, в той или иной степени используется в нашей работе .
С социолого-антропологической точки зрения интересующая нас проблема маргинальных культурных явлений в недавней отечественной литературе рассматривалась О. Аронсоном [Аронсон 2002] в применении к богеме, В.М. Живовым [Живов 1993] в применении к контркультуре интеллигенции и субкультуре духовенства, С.А. Ивановым [Иванов С. 1994] в применении к юродству, Д.В. Кузьминым [Кузьмин 2000] в применении к «сетевой» (существующей в Интернете) культуре и словесности, Т.Б. Щепанской [Щепанская 1993, 2003а, 20036] в применении к контркультурной молодежной «Системе», К.Э. Шумовым [Шумов 2003а, 20036. 2003в; Шумов, Абанькина2003] в применении к миру больницы, студенческим, туристическим сообществам, субкультуре программистов и др.
В социологической науке, в т. ч. в социологии литературы, значительно лучше исследованы смежные с примитивом, типологически или генетически близкие ему явления, нежели собственно примитив. Особенно развита социология массовой, «тривиальной», «бульварной», «формульной», коммерческой литературы, массового чтения и т. п. Нельзя не вспомнить работы Дж. Г. Кавелти [Cawelti 1976; Кавелти 1996], Э.Мунк-Петерсена
45 «Игра» (КХёйзинга), «священное» и «мирское» (М. Элиаде), «карнавал», «диалог» (М.М Бахтин), «сопричастность» (Л. Леви-Брюль), «бриколаж» (К Леви-Стросс), «психологический» и «визионерский» типы художественного творчества, «коллективное бессознательное» (К. Г. Юнг), «дар», «техника тела» (М.Мосс), «обряд перехода» (А. ван Геннеп) и др.
[Munch-Petersen 1972], Дж. Брукса [Brooks 1985]; нам представляется ценной также гораздо менее известная работа Л. Сиклаи [Сиклаи 1973]. Принципиальна здесь и классическая работа Т. Грица, В Тренина и М Никитина «Словесность и коммерция (Книжная лавка А.Ф. Смирдина)» [Гриц... 1929]. В отечественной науке нового времени широкий круг вопросов, связанных с социологией литературы и чтения рассматривался А.И. Рейтблатом [Рейтблат 1990, 1991, 2001], Л.Д. Гудковым и Б.В. Дубиным [Гудков 1996; Гудков, Дубин 1994; Дубин 2001, 2002], на чьи работы мы отчасти опираемся. Использованы нами и наработки Е. Добренко [Добренко 1997, 1999]; нам близок его подход к исследованию феномена профессионализации писателя-«самоучки», дилетанта, любителя.
Однако наиболее принципиальным для нас представляется социоанализ
Пьера Бурдье. Предложенная этим ученым методология позволяет совместить
литературоведение и социологию без ущерба для обеих дисциплин47. Бурдье
оперирует набором понятий, требующих предварительного пояснения. По
Бурдье, человек, т. е. «социальный агент», обладает определенной свободой
поведения в рамках «диспозиций»48, содержащихся в «габитусе»49. Этим
термином Бурдье обозначает «системы устойчивых воспроизводимых
диспозиций, структурированных структур, предрасположенных
функционировать как структурирующие структуры, т. е. как принципы, порождающие и организующие практики и представления, которые могут быть объективно приспособлены для достижения своих целей, однако не предполагают при этом осознанную направленность на них и непременное овладение необходимыми операциями по их достижению»50.
«Практики социальных агентов представляют собой результат адаптации габитуса к постоянно возникающим новым обстоятельствам. Практики
46 Впрочем, мы старались ими не злоупотреблять, дабы не обратить нашу работу в риторическое упражнение.
47 Вопреки мнению С.Н. Зенкина [Зенкин 2003].
48 Фр. «disposition» — 'предрасположенность, установка'.
49 Термин позаимствован у схоластов, которые «переводили таким образом аристотелевский heksis» [Гронас
2000:8]. Это понятие означало то же, что у М.Мосса «техники тела» [Мосс 1996:248-249].
50 [Бурдье 2001а: 102], с необходимой корректировкой перевода по [Bourdieu 1980:88-89].
происходят в пределах полей...» [Гронас 2000:9]; «поле» определяется следующим образом: «поле есть место сил, внутри которого агенты занимают позиции, статистически определяющие их взгляды на это поле и их практики, направленные либо на сохранение, либо на изменение структуры силовых отношений, производящей это поле» [Бурдье 20016:109]. Практики, по Бурдье, так или иначе связаны с приобретением капитала: «экономического», «социального», «культурного» и «символического». Именно неэкономические типы капитала, связанные с легитимацией агента в том или ином поле, позволяют рассматривать феномены культуры в их социальном взаимодействии.
Бурдье никогда не позиционировал себя как социолог литературы, но именно ему принадлежит блестящий анализ поля литературы [Бурдье 2000]. На результатах этого анализа во многом основан наш анализ наивной словесности и литературного примитивизма51. Занимаясь литературоведением, а не социологией, мы, тем не менее, считаем необходимым оперировать рядом понятий социоанализа Бурдье, применяя их к истории русской литературы (в интересующем нас ракурсе).
Попытки использовать социоанализ Бурдье в исследовании отечественной литературы уже предпринимались. Так, в работе Михаила Берга история послевоенной неподцензурной литературы XX в. и литературы постсоветской представлена как борьба символических капиталов [Берг 2000]; содержащее ряд ценных наблюдений, это исследование, тем не менее, оказалось эклектичным и непоследовательным, и вызвало ряд справедливых замечаний52.
Основная проблема, с которой сталкиваются современные исследователи, — описание структуры поля литературы. Говоря о поле современной русской литературы, Берг выделяет «четыре стратегии успеха», «четыре пространства со своими строгими правилами»: «западная система "contemporary art",
51 Тем более, что именно в этой работе исследователь противопоставил фигуры Анри Руссо (в качестве «художника-объекта») и Марселя Дюшаном (который, по Бурдье, отличался умением «произвести себя как художника» и который «вполне мог бы "открыть" Руссо, как он открыл философа Бриссе — "Таможенника Руссо от филологии"») [Бурдье 2000:49-53].
российская светская жизнь, пространство, образуемое толстыми журналами, и коммерческая литература» [Берг 1997:117]. Дмитрий Кузьмин «выделил пять уровней современного литературного пространства: 1) массовая литература со своими законами и правилами игры; 2) "толстожурнальная" словесность, по преимуществу наследующая советской литературе; 3) значительно обособившаяся почвенническая литература; 4) неподцензурная и постнеподцензурная литература, которая наследует традиции самиздата, многообразно сотрудничает с толстыми журналами, но не сливается с ними; 5) сетевая (то есть интернетная литература)»53. Легко заметить, что первая классификация сводится всё к той же «борьбе за успех», за «символический капитал», вторая же представляет собой перечень литературных институций, но не авторских стратегий.
Имманентную структуре поля текущего литературного процесса схему недавно предложила М.А. Бондаренко [Бондаренко 2003:67], с которой в наших исследованиях мы движемся до некоторой степени параллельно. Для нас принципиально важно, что исследователь учитывает в своей схеме маргинальные области словесности, в т. ч. примитив, и отделяет его от примитивизма.
Схема Бондаренко представляет текущий литературный процесс следующим образом. Выделяются два главных субполя: 1) профессиональная словесность (художественная литература); 2) непрофессиональная (дилетантская) словесность.
1) Здесь отмечаются три основных субполя «второго порядка»: «профессиональная "массовая" литература», «актуальная (ориентированная на инновацию)» литература во всем многообразии конкурирующих стратегий54, «неактуальная», «ориентирующаяся на отработанные каноны архива» литература.
52 См., напр. [Бикбов 2003:47-48].
53 Цит. по [Осминская 2003:428].
54 Мы бы предпочли, несмотря на содержащуюся в термине априорную оценочность, говорить в данном случае
об «элитарной» литературе.
2) Здесь выделяются: «наив» ( = «примитив»), «детское творчество» и литература «секундарная (медиальная)», т. е. «неумелая, клишированная, ориентированная на воспроизведение профанированных канонов».
Примитив порождает примитивизм, «сознательно используемый наив», который, в свою очередь, дрейфует в сторону профессиональной актуальной словесности.
Наконец, отмечаются «субкультуры, оказывающие влияние на формирование разновидностей внутри каждой из областей», которые лежат в основе поля, напрямую не входя в него [Бондаренко 2003:65-70]; по сути дела, они являются своего рода «порождающим бульоном».
Предложенная схема обладает неоспоримым достоинством: в ней впервые дана полная картина всего поля литературного процесса. Однако нам представляется, что многое здесь по меньшей мере спорно.
1) Наибольшее сомнение вызывает принципиальное разведение «неактуального профессионального» и «непрофессионального секундарного (медийного)» типов словесности, близость которых очевидна. Автор схемы замечает это и пишет: «Сходство состоит в <...> отсутствии установки на рефлексивную инновационность. Социокультурной среде, представленной в виде той или иной субкультуры, в которой производятся такого рода тексты, свойственен аутизм (вызванный различными причинами), закрытость, изолированность от активного взаимодействия с соседними культурными стратами и субкультурами, в силу этого — завышенная "самооценка" и сниженная установка на конкуренцию и т. д. Поэтому непрофессиональную словесность и профессиональную неактуальную литературу можно объединить общим понятием медийность в широком смысле» [Бондаренко 2003:70]. Следовательно, единственным релевантным признаком разделения здесь оказывается «актуальность», а это понятие представляется всецело
продуцируемым теми или иными литературными элитами в рамках их стратегий .
2) Неясное расположение субкультур в рамках (или за рамками) поля
литературного процесса требует обоснования.
3) Никак не рассмотрено место фольклора в поле литературного процесса;
остается предполагать, что фольклор здесь поглощается субполем субкультур.
4) Выделение детского творчества, в самом деле не тождественного
примитиву, требовало бы подобного же статуса и для девиантного,
аутсайдерского творчества; автор уходит от этого вопроса, осознавая его
[Бондаренко 2003:68].
5) Наконец, замечание более общего свойства. М.А. Бондаренко
демонстрирует структуру поля текущего литературного процесса, т. е.
синхроническую схему. Такой же характер носит известная схема В.Н.
Прокофьева [Прокофьев 1983]. Схема Ю.М. Лотмана [Лотман 1992а:211]
является диахронической, но крайне пунктирной, неподробной. Вероятный
выход видится в приложении к социоанализу литературы исследовательской
программы рецептивной эстетики: «... видимо, возможно сделать в
определенный момент развития синхронный срез, чтобы затем вычленить в
гетерогенном множестве одновременных произведений равноправные,
противоположные и иерархические элементы, объединяющиеся в
соответствующие структуры, и тем самым выстроить для литературы данного
исторического периода более общие рамки рассмотрения. Если проводить
последующие синхронные срезы в диахроническом ряду таким образом, чтобы
в них исторически артикулировалось изменение литературной структуры,
определяющее границы соответствующей эпохи, это открыло бы новые
возможности для истории литературы» [Яусс 1995:74-75].
В настоящей работе мы не можем себе позволить браться за столь грандиозные задачи. Основная цель данного исследования — представить
55 При этом следует пожалеть о непроработанности данной части схемы, т. к. именно при внятной артикулированное свойств вышеуказанных зон можно было бы избавиться от ложного термина
целостную и доказательную схему существования и сосуществования примитива и примитивизма в словесности, с тем, чтобы данная схема могла бы быть приложима как к отдельно взятому тексту и/или автору, так и к целой культурной эпохе. Достижению этой цели способствует решение следующих задач:
Выявить место ряда «примитивное», «примитив» (= «наивное», «наив») — «примитивистское», «примитивизм» в рамках поля литературы, как в диахроническом аспекте, так и в синхронических срезах;
Дать очерк истории русской поэзии, сфокусированный на примитивном и примитивистском субстратах;
Продемонстрировать необходимость междисциплинарного подхода к изучению наивной словесности и литературного примитивизма, несводимость анализируемого феномена к единому слою интерпретации.
Предложить в качестве метода анализа примитива и смежных явлений «антропологический метод» в литературоведении.
Структура работы обусловлена спецификой как исследуемого материала, так и методологии. Необходимость отграничения ряда «примитивное», «примитив» (= «наивное», «наив») — «примитивистское», «примитивизм» от явлений типологически или генетически близких обусловливает содержание.
Специфика примитива в ряду типологически и генетически сходных феноменов
Вычленяя предмет нашего исследования, мы сталкиваемся с неожиданным затруднением, а именно необходимостью определять его «апофатически». Исследователь пишет: «В рамках той или иной культурной системы нередко можно наблюдать литературные явления, обладающие не совсем обычными характеристиками и в силу авторской интенции, и благодаря читательской рецепции. Имеется в виду не массовая (тривиальная, рыночная и т. п.) литература: она не выходит за рамки нормативных социальных стратегий. Речь идет о текстах, относящихся не к правилу, но к исключениям, о текстах, рождающихся на пересечении существенно различающихся культурных практик. Подчеркну, что имеется в виду не принципиально новаторские произведения, но все же традиционные тексты; специфика их традиционности в том, что, используя культурный материал одной традиции, они ориентируются на модели, принятые в другой. Именно "неправильное" т. е. непривычное, оперирование этими моделями вызывает негодование держателей "легитимной компетенции"1 в области нормативной эстетики, с одной стороны, и наш исследовательский интерес — с другой.
Представляется, что "наивную литературу" необходимо рассматривать как "литературу исключений, а исследователь, задавшийся целью построить общую концепцию этого явления, будет вынужден заняться поиском "правила исключений"» [Панченко 2002:391]. Таким образом, предполагается составить «историческую поэтику исключений», поэтику анормативных текстов. Вопрос лишь в том, всякий ли «неправильный» текст окажется текстом наивным. Мы предполагаем — не всякий.
Но первоначально необходимо выделить ряд смежных явлений, дабы противопоставить их в рамках поля литературы. Обозначим этот ряд как «субполе наива». Признак, по которому явления, относящиеся к субполю наива выделяются, может быть обозначен как «аутизм» [Бондаренко 2003:68], «непроцессуальность», «неконтинуальность». Автор, существующий в субполе наива, по определению не является профессиональным литератором; письмо для него — частное, приватное дело. В этом принципиальное отличие наива от массовой литературы: несовпадение намерений пишущего в том и другом случае предопределяет и принципиально различные типы функционирования текста массовой литературы и наивного текста. Массовая литература, по сути дела, — параллельное «высокой» литературе образование, альтернативный литературный процесс. Авторы массовой литературы являются профессионалами; они относятся к массовой литературе как к иерархически организованному пространству, причем иерархия эта не менее, а более строга, нежели в элитарной литературе: если в последней модернизм и постмодернизм в значительной степени размыли жанровые границы и тем более сняли различение «высокого» и «низкого» как основополагающее для оценки текста, то в массовой литературе господствуют чуть ли не классицистические по свой идеологии установки; свою роль играет и такой регулятор, как экономический капитал, существенно более включенный в процесс текстопорождения массовой литературы, нежели «элитарной»2.
Субполе наива по сути дела не является литературой (т. к. не подразумевает разного рода взаимосвязей), хотя и относится к полю литературы; в рамках наивной словесности (и смежных явлений) невозможна внутренняя иерархия или декларация отсутствия таковой, отсутствует процесс (поэтому любые попытки наивного автора идеологизировать своё творчество и / или структурировать литературное пространство volens nolens обращены на внешний по отношению к нему литературный процесс). В этом — принципиальное отличие наивной словесности не только от массовой, но и от субкультурных литератур, для которых характерно наличие имманентных им ценностных иерархий, достаточно чётко очерчиваемого культурного пространства и т. п.
При всем том наивное произведение — произведение принципиально авторское, и тем самым не относится к т. н. «письменному фольклору» [Неклюдов 2001:5]; даже в случае анонимности наивного текста, он остаётся уникальным и не воспроизводимым в фольклорном каноне (что, конечно же, не мешает фольклоризации отдельных образцов наивной словесности; однако в результате статус наивного текста принципиально меняется).
Итак, автор, относящийся к субполю наива, точнее — некоторый идеальный конструкт такого автора, обладает следующими свойствами: он «аутичен», находится вне литературного контекста и литературного процесса, он непрофессионален, но при этом он «авторствует» (активно или пассивно — это другой вопрос), он существует в качестве автора. К такому типу следует отнести собственно примитива, склонного к (художественному) письму девианта (аутсайдера, душевнобольного), склонного к (художественному) письму ребенка, наконец, этнического или субкультурного маргинала, пытающегося реализовать литературные потенции в чуждой этнической или субкультурной среде.
Примитив и примитивизм во взаимопротивопоставлении и соотнесении с «дилетантизмом» и «провинциализмом»
Окончательно отделившись от смежных феноменов, примитив обрел к концу XIX века статус совершеннейшего артефакта, так сказать, «антиархива» профанных объектов для потенциальной валоризации. Подобный источник текстопорожения19 не мог оставаться неосвоенным. На грани веков декаденты, символисты и авангардисты как новые, нацеленные на инновацию в искусстве художественные элиты, практикуют последовательную валоризацию артефактов, извлекаемых с территории субполей, образовавшихся на месте поля «третьей культуры». Конкретные примеры подобной художественной тактики описаны достаточно подробно, во многих работах, как на отечественном, так и на западном материале20. Мы полагаем более необходимым предложить общую типологию форм взаимодействия примитива и примитивизма в рамках модернистско-авангардной парадигмы21 (при этом мы будем обращать внимание преимущественно на историко-литературный материал, как непосредственно связанный с темой данной работы, хотя типологические сближения коллизии «примитив» vs. «примитивизм» в отношении полей литературы и изобразительного искусства достаточно очевидны), предварительно дав описание субполя примитива и примитивистской парадигмы в рамках поля литературы.
Итак: «примитив» (= «наив»), «примитивная словесность» (= «наивная словесность») понимается как особое, дискретное по своей структуре субполе литературы (искусства, культуры), занятое агентами, идентифицирующими себя в качестве авторов, но не участвующими в маневрах профессиональных элит, находящимися вне или «на обочине» (ad marginem) литературного (культурного) процесса, не связанными взаимными иерархическими и т. п. отношениями, лишенными общей идеологии, в т. ч. эстетической, но объединенными в качестве производителей текстов общими чертами («непреднамеренная неконвенционалъность» текстуального продукта, его стихийная эклектичность, «бриколажностъ» , непроизвольная несоотнесенность с авторитетными литературными рядами; склонность автора к архаическому, «правополушарному»23, «визионерскому»24 способу художественного мыишения, к партиципации , при этом, по причине более близких аналогий, отмечаемая скорее в соотнесении с «первобытным», «магическим» мышлением, нежели per se; его ориентация на произвольный, неконвенциональный архив литературных и культурных традиций; наконец, его неадекватность в оценке собственного статуса, неироничность , нерефлективность).
Типологическая систематизация примитива предпринималась неоднократно. Во Введении к диссертации мы привели классификацию А. Яркиной [Яркина 1999:92-93]. В. Н. Прокофьев [Прокофьев 1983] выделяет «лубочный», «романтико-идиллический», «серьезный» («парсунный») виды примитива, исходя из предположения о различии их генезиса и последующей конвергенции.
При всей расплывчатости определений, ценна таблица «типологического поля наивного искусства», предложенная З.Н. Крыловой. В ее схеме соотносятся типы изобразительного языка: инфантильный, фольклорно-декоративный, реалистический, авангардный, — с типами смыслового языка: мистическим, символическим, объективным; легко подсчитать, что образуется двенадцать основных типов наивного искусства: от объективного инфантилизма до мистического авангардизма (от левой верхней ячейки к правой нижней) [Крылова 1994:38]. Напрашивается аналогичная схема, применимая именно к вербальным текстам, в которой учитывалось бы соотнесение каноничности жанра со степенью и качеством их деформации (т.е., в данном случае, авторизации), построение которой, впрочем, — дело будущего.
Наконец, А.В. Лебедев, совмещая синхронию и диахронию, выделяет три типа примитива: «генетический», «социально-этический», «эстетический» [Лебедев 1995]; кроме того, он, совершенно, с нашей точки зрения, резонно выносит за пределы примитива феномены «дилетантизма» и «провинциализма» (не в географическом, а в культурном понимании) [Лебедев 1996:26-27]. Эта классификация весьма продумана и, одновременно, применима в литературоведении без явных натяжек; это же касается выделения «дилетантизма» и «провинциализма» в качестве самостоятельных категорий. «Дилетантизм» в подобном понимании соотносится с «непрофессиональной секундарной (медийной)» словесностью [Бондаренко 2003:67].
Что касается «провинциализма», то здесь требуется развернутый анализ. «Провинциальное» противопоставляется не только «столичному», но и «региональному»: «провинциальное» существует постольку, поскольку есть «столичное», «региональное» же суверенно и потому в потенции иновационно27.На поверхности лежит восприятие регионального как «нового», которое может проявляться как склонность к экзотизмам, а может как интерес к различным инверсиям традиционной оптики, поискам оптики нетрадиционной, выстраиванию «альтернативных систем миропонимания» [Кузьмин 1997:12]. Однако в любом случае «новый» объект, например, автор из провинции или целая региональная школа, не столько интересен сам по себе, сколько призван обновить застоявшиеся структуры литературной жизни.
Внимание к регионалистике лежит не только в области чисто культурной; более того, внимание это носит par excellence характер социокультурный. Мифологема провинции возникает как реакция на очевидный моноцентризм общественной и культурной жизни в России (в отличие от в большей степени полицентричных западных культур), характерный для всех эпох ее существования в Новом времени.
Традиционный отечественный моноцентризм (между прочим, пытающийся спрямить даже ось Москва — Петербург, либо фактически сводя петербургскую культуру к провинциальному статусу, либо, напротив, постулируя «истинную», «культурную» столичность именно Петербурга) порождает целый клубок сложно соотнесенных и с трудом изживаемых культурных комплексов, причем порождает как в центре, так и на периферии. Так, для периферийного культурного сознания характерны одновременно и своего рода «комплекс неполноценности», и декларация самоидентичности и самодостаточности.
Поэтическая практика в субкультурах, пограничных с примитивом
Приватное письмо вне литературного контекста, заданных полем литературы иерархий, было характерно в эпоху, предшествующую окончательному расслоению «третьей культуры» на примитив, массовую культуру и субкультуры (т. е. до середины - конца XIX в.) для ряда авторов, которых мы бы вряд ли смогли назвать наивными в строго терминологическом смысле.
Так, безусловно «не-наивны» усадебные поэты и писатели-дилетанты. Их место на карте поля литературного процесса — либо в зоне «неактуальной профессиональной словесности», либо — «непрофессиональной секундарной (медийной)» [Бондаренко 2003:67]. Их творчество относится, вопреки предложенному А.А. Панченко предварительному методу поиска наивных текстов [Панченко 2002:391], «к правилу», а не к «исключению». Их несуществование в поле литературы было связано, в первую очередь, с их литературной неангажированностью. По сути дела, усадебные авторы-дилетанты образовывали крайне рыхлую, трудноочерчиваемую, но все же субкультуру (и сублитературу в ее рамках). К представителям усадебной культуры бурдьеанский термин «габитус» применим с гораздо большими основаниями, нежели, к примитивам; примитив в своем «профанном» состоянии может быть носителем чуть ли не любой социальной, профессиональной, идеологической, тендерной, национальной и т. д. функции; он не может быть, по определению, носителем только одной функции: профессионально-писательской. Примитив именно потому самодостаточен как производитель эстетических ценностей, что он встроен в «профанный» мир не как производитель эстетических ценностей. В этом смысле наивный автор является архетипическим Поэтом («Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон, / В заботах суетного света / Он малодушно погружен»). Примитив не социализирован в качестве автора, хотя во всех остальных отношениях он может быть вполне социально успешен. Самоидентификация примитива как примитива, объединение наивных авторов по признаку наивности есть оксюморон; если же все-таки подобная самоидентификация происходит, можно смело утверждать: речь идет об особой примитивистской художественной стратегии1. По словам А.В. Лебедева, «в принципе примитив — такое явление, которое работает на самоуничтожение. Он хочет перестать быть таким, какой он есть. Или наоборот — хочет стилизоваться "сам под себя". Но и тогда он тоже перестает быть примитивом» [Задачи... : 101].
Напротив, усадебный автор во всем соответствовал субкультуре усадьбы, репрезентировал ее. По словам комментатора работ П.Бурдье, «некоторая часть семантики понятия "габитус" ... покрывается русскими словами склад или уклад, например в сочетаниях: склад личности, помещичий уклад, крестьянский уклад, семейный уклад» [Гронас 2000:8]. Именно «уклад» является основной эстетической ценностью усадебной культуры, он ее формообразователь, литературная же продукция усадебного автора-дилетанта представляет собой лишь одну из дозволенных в данном габитусе диспозиций, наравне с охотой, игрой в карты, пьянством, адюльтером, разного рода эксцентрическими выходками и разговорами на метафизические и политические темы, т. е. всем тем, что является предметом рассмотрения истории и антропологии «повседневности».
Усадебная словесность маргинальна, потаенна именно на счет своей тотальной нормативности, предсказуемости. Парадоксальным образом, именно поэтому сочинения усадебных авторов-дилетантов мало сохранились; «бумаги ничем не примечательных людей в большинстве своем оказались утрачены» [Головина 2000:27]. Мир усадьбы представлял собой изолированную, «внесистемную» [Лотман 19926:91-96] субкультуру.
Так же изолирована, «внесистемна», казалось бы, субкультура монашества. Однако специфика монашеского образа жизни позволила сформироваться в рамках этой субкультуры особому типу письма, трудноопределимому в категориях эстетики.
Монашеская, священническая, прихрамовая субкультура (или субкультуры) по причине господствующих в ней архаизаторских тенденций, из всех изолированных субкультур наиболее близка к примитиву, это касается и словесного творчества, порождаемого этой субкультурой (этими субкультурами). Мы, используя терминологию А.В. Лебедева (но придав ей несколько иное содержание), определяем монашескую и т. п. словесность как «социально-этический примитив», т. е. тип примитива, не преследующий собственно эстетических целей.
Характерным примером такого рода творчества представляется духовное наследие затворника Задонского Богородицкого монастыря Георгия (Георгий Алексеевич Машурин; 1789-1836), точнее говоря, его письма, а также «разныя выписки из книг и собственныя размышления» [Затворник Георгий 1995:47]. В письмах затворника Георгия обнаруживается достаточно большое количество стихотворных вставок, составляющих подчас большую часть письма; таким образом, перед нами — уникальный образец наивных прозиметрических композиций2. Мы полагаем важным, временно оставив социокультурный анализ, кратко рассмотреть здесь собственно поэтику писем затворника Григория.
В опубликованном корпусе всего 984 текстов (в т. ч. 908 писем); среди них обнаруживаются девяносто три письма и семь записей, т. е. в общей сложности сто текстов разных лет (но, в подавляющем числе случаев, 1820-30-х гг.), содержащих стихотворные фрагменты (объемом начиная от двух строк), включая и явно не принадлежащие затворнику Георгию стихотворные молитвословные тексты, а также явные цитаты (в общей сложности 10,1% прозиметрических текстов от общего числа опубликованных). Отметим также шестнадцать писем и шесть записей, полностью стихотворных (в общей сложности 2,2% от общего числа опубликованных текстов). В некоторых письмах и документах обнаруживаются фрагменты с неясным статусом (списки грехов и т. п.), не включенные в общую статистику3. В подавляющем большинстве случаев стихотворные фрагменты — ямбические (в т. ч. разностопные) или смешанные (ямб+хорей):
.«Стихийный примитивизм»: ранний Николай Гоголь и Велимир Хлебников как неконвенциональные фигуры
На любом пограничье культурных эпох возникают довольно специфические явления, с трудом укладываемые в историко-литературные схемы. Такова, например «идиллия в картинах» Н.В. Гоголя «Ганц Кюхельгартен», возникшая в эпоху расслоения «третьей культуры».
Произведение заведомо непрофессиональное, ученическое, «провинциальное», подражательное и т. п. (и, в конце концов, исключенное автором из своей творческой биографии), тем не менее, безусловно инновационно. Объяснить это историко-литературной репутацией автора (выражаемой в метафизических формулах, основанных на романтических по сути представлении о гениальности) невозможно: одни вершинные фигуры русской литературной классики оставили от своего юношеского творчества «образцовые» подражательные сочинения (Лермонтов, Некрасов), другие начинали свой путь с вполне конвенциональных произведений (Пушкин).
«Ганц Кюхельгартен» интересен именно «сочетанием несочетаемого», «неправильностью»1. Исследователи обращали на это внимание: «Страшно талантливо, но талантливость в швах, в сшивке несоединимых ритмов и традиций; при разборе оказывается, что нет ни одного самостоятельного стиха» [Пумпянский 2000:270]; «Художник сказывается не раз, но художник, совершенно не владеющий стихотворной техникой» [Гиппиус 1994:25].
В.Ф. Марков предлагает решить этот парадокс, сравнивая Гоголя с Хлебниковым и утверждая: «Примитивизм — не столько мода, сколько качество, и в данном случае два поэта делят это качество, а не заимствуют» [Марков 19946:247].
В самом деле, то, что оценивалось в «Ганце Кюхельгартене» представителями актуального литературного процесса гоголевской эпохи резко отрицательно, с критикой чего сам Гоголь согласился (по крайней мере, внешне, с помощью жеста уничтожения тиража), и что, по этим двум причинам, стало конвенциональным в истории литературы, можно также счесть и литературной инновацией. Если Гоголь и «способен обнаружить поразительную беспомощность и безвкусие» [Гиппиус 1994:25], то это объясняется попыткой радикализировать художественный язык, но не отказавшись от всего комплекса наработанных приемов, а, напротив, «наивно» соединив их в единое целое.
Л.В. Пумпянский недаром говорит о «Ганце Кюхельгартене» как об «образцовом пастише» и, одновременно, как об интересном памятнике «усвоения пушкинской поэтики провинцией, публикой» [Пумпянский 2000:271]. С одной стороны, «пастиш» в данном случае правомерно понимать не только в старом терминологическом значении2, но и в более новом, сформировавшемся уже в постмодернистской парадигме3. По Маркову, в «Ганце Кюхельгартене» сочетаются пласты «традиционно романтический», «примитивистский» и «реалистический» [Марков 19946:248]. Целый ряд фрагментов гоголевской «идиллии» построен на приме «сдвига»4, постулированном в футуристической и формалистской эстетике: «Себя погреб в себе давно я ... » [Гоголь 1994:12]; «Сегодня праздновал живой Вильгельм / Рожденье дорогой своей супруги ... ».[Гоголь 1994:21]; «Один дорогой почтовой / Бредет, с котомкой за спиной, / Печальный путник из чужбины,/ Уныл, и томен он, и дик, / Идет, согнувшись, как старик; / В нем Ганца нет и половины» [Гоголь 1994:38]; «Пируют гости, рюмки, чаши / Кругом обходят и гремят...» [Гоголь 1994:43] и т. д.; причем здесь речь не идет о «понимании последователя через предшественника», т. к. прием «сдвига», в переосмысленном виде, стал одним из стилеобразующих в последующем гоголевском творчестве.
Но, с другой стороны, при наложении на гоголевский «пастиш» объективной «неумелости», «провинциализма», мы обнаруживаем аномальное с точки зрения структуры поля литературы явление, которое можно обозначить как «стихийный примитивизм».
По сути дела, такое толкование косвенно подтверждает и сам Пумпянский: «произведение, соединяющее несоединимое (чуть не все бывшее тогда в русской поэзии) не может быть словесного (языкового) происхождения ... Мы вправе поэтому видеть в "Ганце Кюхельгартене" мнимословесную перспективу основной темы ранней биографии Гоголя»; этот не вполне ясный тезис5 может быть истолкован как описание своего рода трансгрессии, жизнетворчества, выхода автора с помощью текста во внетекстовое пространство; но подобные рассуждения лежат уже за пределами филологического знания.
«Казус» «Ганца Кюхельгартена» остается в истории русской литературы явлением экстраординарным6. Кроме того, Гоголь, как и Достоевский, может рассматриваться как представитель «"авангардистского" периода реализма» [Ханзен-Лёве 1997:236], что, если исходить из схемы циклического развития культуры, в т. ч. литературы (нам эта схема не представляется бесспорной), объясняет примитивизм (пусть и стихийный) «Ганца Кюхельгартена».
Однако мы склонны согласится с В.Ф. Марковым: «казус» Гоголя оборачивается закономерностью, если рассмотреть такую фигуру, как Велимир Хлебников. Если Гоголь, проявив себя как «стихийный примитивист» в ранней «идиллии», затем изменил (хотя и не совершенно радикально) способ своего существования в поле литературы, то Хлебников сделал этот способ тотальным методом, направленным на снятие оппозиций и последовательно ускользающим от дефиниций; гоголевскому жизнетворчеству он противопоставил свое. При этом не следует думать, что Хлебников сознательно апеллировал к опыту гоголевского литературного поведения; мы можем говорить только о совпадении некоторого набора условий, породившего в рамках поля литературы флуктуацию, типологически схожую с уже ранее случившейся.
Исследователи неоднократно замечали отнесенность Хлебникова к парадигме «примитив» vs. «примитивизм» (с приложением ряда смежных явлений, напр., «инфантилизма», детскости). Можно вспомнить в этой связи высказывания Ю.Н. Тынянова, Г.О. Винокура, Н.Л. Степанова, СВ. Поляковой, Д.В. Сарабьянова7. Однозначного отношения к данной проблеме в «хлебниковедении», впрочем, нет.