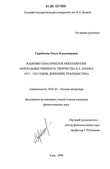Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I Творческое сознание А Платонова в свете русской духовности и культуры 28
Раздел 1. Истоки и идейно-творческий потенциал художественной мысли А. Платонова 28
Раздел 2. Молчание и речь у А. Платонова. Традиционные концепты православной культуры в структуре художественной мысли писателя 62
Раздел 3. Сердце в образной антропологии А. Платонова («Чевенгур») 74
1. Смысл концепта «сердце» у Платонова 74
2. Формы использования образа-символа «сердце». 88
3. Народао-религиозная мифология сердца в пространстве мысли Платонова 100
Раздел 4. Образ сердца в художественной философии А. Платонова: параллели с православной аскетикой ПО
1. Православная философия и «сердечная» образность Платонова ПО
2. Андрей Платонов и Тихон Задонский: сходство представлений о сердце 115
3. Семантика образа сердца у Платонова и исихастская практика 119
Раздел 5. А. Платонов и апокрифическая традиция 131
1. Тематизация идеи духовного странничества 131
2. Апокрифический жанр как один из источников художественного мышления Платонова 138
3. Мифологема пути в русском самосознании и ее связь с идейно-образной системой Платонова 155
Раздел 6. «Сокровенное» человека у А. Платонова и православная антропология (Психологизм романа «Чевенгур») 159
Раздел 7. Позиция повествователя в текстах Платонова 174
Заключительный раздел. Слияние культурных традиций в творчестве Платонова 185
ГЛАВА II Христианская культура ифилософско-эстетические поиски М. Пришвина .202
Раздел 1. Традиция христианской мысли в творческом мире Пришвина 202
1. Духовно-религиозное начало и формирование творческой личности писателя 202
2. Образ-символ «чаши» в творчестве Пришвина 216
Раздел 2. Традиционные аспекты литературной позиции Платонова и Пришвина в 1920-е - начале 1930-х годов 232
Раздел 3. Образы русской классики в творческом сознании Пришвина 251
ГЛАВА III Роман Л.Леонова «Пирамида» и христианский символизм 261
Раздел 1. Художественный метод Леонова в романе «Пирамида» и христианская эстетика 261
Раздел 2.Миф и апокриф в структуре философского романа 284
Раздел 3. Веросознание и мифология в «Пирамиде»: модель мифа о грехопадении в интерпретации Леонова 293
Раздел 4. Живое слово премудрости. Культура христианства в Пирамиде Леонова (герменевтический аспект) 327
Заключение 348
Литература 370
- Сердце в образной антропологии А. Платонова («Чевенгур»)
- Семантика образа сердца у Платонова и исихастская практика
- Мифологема пути в русском самосознании и ее связь с идейно-образной системой Платонова
- Образы русской классики в творческом сознании Пришвина
Сердце в образной антропологии А. Платонова («Чевенгур»)
Через все произведения Платонова тянется переживание всеобъемлющей связи между людьми и природой. Предметности мышления, характерной для науки, сопутствует подчинение его духовно-активному чувству. В противоположность модернистам, он отвергал архетипы бессознательного, субъективную ассоциативность, отдавая им дань лишь в крайних ситуациях страха и страдания, парализующих волю его персонажей. Их эмоциональные состояния связаны с ощущением пустоты и ничтожности мира, в котором между людьми нет духовной общности. Они отразились в характерных для русского языкового сознания знаках - чувственных концептах тоски и скуки. Данные понятия составляют вместе с лексемами печаль, горе и скорбь «сущностные характеристики» платоновского мира {Дмитровская. 2000. 29), объективно отражая «любовь к дальнему»: стремление его героев из тесноты ] жизни к неизведанному счастью. Наряду с этим свобода чувства и мысли обусловливается жизненной практикой, эмпирическим опытом.
Именно поэтому у Платонова столь значительную роль играют реальные вещи. Поставленные в один ряд с бытийными таинствами, они даются в особенной перспективе. Вот как показан им естественный мир в его конкретном единстве, в созвучии научных представлений и опыта сердца: «Электрический ток высокой частоты и ультразвуковое колебание быстро возвращают молекулы в их древние места - // природа делается здоровой и прочной, молекулы оживают, они начинают давать гармонический резонанс, то есть отвечают звуком, теплотою, электричеством на всякое их раздражение, и даже поют сами по себе, когда раздражение уже прекратилось, давая знать своим далеким голосом, что они страдают и сопротивляются (курсив мой. -А.Д.). И этот звук оказался понятным для человека, - его сердце, когда оно несет напряжение искусства, поет почти так же, только менее точно и более неясно» (Рукописный Отдел Пушкинского Дома /ИРЛИ. ф. 780, ед. хр. 74). 2 заостренным вниманием здесь очерчивается сложная гармония общей жизни, которую писатель представил по закону духовного сходства и аналогии.
Не объясняет этой особенности мысли Платонова поиск ее истоков в сюрреализме. У художника-сюрреалиста личностный мир беспрестанно проецируется в творимое произведение. Поэтому его структура содержит типические формы подсознания, как они понимаются в психоанализе. То есть, сюрреализм в определенной степени зависит от научного способа познавать мир, «несет в себе некоторые черты научности» (Хюбнер. 278).
Для Платонова истины, которым служит наука, относительны. Он не принимает изъятия из предмета науки реального, живого человека, а ищет их единства. Природные качества человеческого сознания не противопоставляются приобретенному знанию. Чувство может предшествовать мысли. «Несовершенство нашего сознания в том, - писал молодой Платонов, - что я, например, не мог понять сразу эту формулу (теорему Минковского. - А.Д.), а сначала почувствовал ее, ее истина не открылась для меня, а вспыхнула. ... Ее надо взять сразу, мгновенно схватить ее крайнюю сущность, и тогда поймешь» (Чутье правды. 144). Писатель обращается к понятию энергичности, деятельному освоению мира, в то же время выводя человека за пределы земного порядка вещей.
Эффект отстранения, абсурдного поведения героев у автора «Чевенгура» -это всего лишь прием, с помощью которого он отрывает их от самоочевидного строя жизни. Через такое отчуждение от привычных связей читателю открывается неискаженная сущность предметов, обычно скрытая под грузом второстепенных понятий, рациональных определений. Посредством образно-символического мышления Платонов снимает с окружающего мира искусственную оболочку. В этот момент иллюзорный взгляд на реальность, соответствующий принципу рациональности, обращается в парадокс. Понятийная форма обобщения уступает место духовно-символическому опыту с его опорой на традицию. Опираясь на слово, близкое книжной, высокой и в то же время живой народной речи, Платонов осмысливает реальный мир через порожденные им самим образные идеи. Однако при этом он остается художником-реалистом, синхронно передавая отношения между подлинными объектами. Предметы действительности существуют в его текстах независимым образом, а не только как элементы художественного познания.
Иронически-серьезно - с отстранением, иногда называемым в критике «сатирой», писатель стремиться показать живую жизнь, слить с ней абстрактные идеи и понятия. Тем не менее, его тексты, как мы говорили во введении, всегда содержат мифологическую символику. В них пластически конкретное изображение переходит в область метафизики - запредельных основ бытия. Тогда мышление Платонова движется в границах символических оппозиций: земля-небо, духовное-физическое, низ-верх, женское-мужское, «душа мира» - «вещество существования».
Каркас творческих представлений Платонова состоит из разных элементов: массовой мифологии, народной веры («народная религиозность») и научных взглядов. Правда, нередко второй и третий компоненты сливаются с первым, особенно в прозе с приметами сказочного и фантастического жанров, в стихотворных произведениях. Обычно все эти элементы переосмыслены в духе христианской эсхатологии, о чем подробнее я скажу ниже. Они призваны для отображения явлений целой эпохи - перехода от пошатнувшегося православного царства к тотальности государственно-социалистической утопии. Можно указать на современную интерпретацию этого перехода как трагического сдвига России со своей культурно-исторической «оси» (см.: Козин. 1998. С. 83-138). В этом ключе рассматривается нами динамика сюжетов платоновской прозы. Их ткань пронизана множеством идей, которые ориентируют нас в метаморфозах писательской мысли. Попытка объяснения этих моделей жизни русского человека не исключает противоречий национального характера. В самом известном своем романе, пытаясь проникнуть в суть крестьянской психологии, Платонов так представил одного из героев: «С ним можно проговорить всю ночь - о том, что покачнулось на земле православие, а на самом деле ему нужен был лес на постройку» (Чевенгур. 144). Это был сложный спор о новом человеке и новом сознании, вылившийся в противоречивую идеологию единственных в своем роде образов «Чевенгура», «Котлована», незавершенного романа «Счастливая Москва», известных рассказов и повестей 20-40-х годов, а также полузабытых и оставшихся в рукописях платоновских произведений - прозаических отрывков и стихотворений, пьес, сценариев, статей и рецензий.1
Путь писателя находится под различными воздействиями, но главное -это сила творческого синтеза. Она проявляется в умении перейти от опыта, данного богатой традицией, к целостности невыразимой тайны и реальных основ мира. Платонов соединен с той линией отечественной литературы, которая останавливает свой выбор на духовном истолковании жизни. Здесь и рождается символизм Платонова - способность постижения невидимой реальности в зримых формах. То же самое качество связано с умением абстрагировать конкретные образы и понятия, подчинять их собственным взглядам, целям, тематике. Он видит в событиях, в отдельных человеческих характерах присутствие неизреченной истины, которая не постигается никакой философией.
Семантика образа сердца у Платонова и исихастская практика
Смысловое единство стихов Евангелия с эсхатологической струей, которая объясняет воплощеннный в романе взгляд на российскую реальность, несомненно. Они читаются на утрени в День преставления преп. Сергия Радонежского (25 сентября) и связаны с новозаветным учением о путях спасения. Отталкиваясь от буквального смысла этих строк, Платонов вписал их в собственную систему выработанных символических образов. Вошедшие в платоновскую пространственно-ценностную картину мира, они находят в ней свое место, соотносятся с погруженностью человека в «сокрушающие всеобщие тайны» (Чевенгур. 7). У автора «Чевенгура» основания для этого лежат глубже, чем в простом повторе хорошо известной священной формулы.
Платонов разительно отличен от современных ему русских писателей постоянством и интенсивностью размышлений о таинственных глубинах человеческого сердца. Вслед за такими художниками слова постсимволистской эпохи, как И. Шмелев и Б. Зайцев, он выразил исторические, воспитанные православной верой качества народной души. Это сокровенные слагаемые национального характера - братолюбие, милосердие, сердоболие, эсхатологические поиски. Они, представленные в народном духе, заставляют задуматься над темой о внутреннем человеке. Ее религиозный аспект неоднозначен. Скорее всего, здесь сказался общий тип нашего сознания, отмеченный Н. Бердяевым. Этот мыслитель, несколько умозрительно рассуждающий о христианской культуре, наметил типологию религиоз ности русского народа. Ему, в общем-то, удалось ухватить корни вопроса. Воспользуемся его определениями, чтобы представить место народного ментального слоя внутри самой православной парадигмы. «В русском православии можно различить три течения, которые могут переплетаться: традиционное, монашески-аскетическое, связанное с «Добротолюбием», космоцентрическое, узревающее божественную религию в тварном мире, обращенное к преображению мира, с ним связана софиология, и антропоцентрическое, историософское, эсхатологическое, обращенное к активности человека в природе и обществе. Первое течение не ставит никаких творческих проблем, и в прошлом оно опирается не столько на греческую патристику, сколько на сирийскую аскетическую литературу (с чем мы не можем согласиться. - А.Д.). Второе и третье течения ставят проблемы о космосе и человеке. Но за всеми этими различиями скрыта общая русская религиозность, выработавшая тип русского человека с его недовольством этим миром, с его душевной мягкостью, с его нелюбовью к могуществу этого мира, с его устремленностью к миру иному, к концу, к Царству Божьему. Русская народная душа воспитывалась не столько проповедями и доктринальным обучением, сколько литургически и традицией христианского милосердия, проникшей в самую глубину душевной структуры» (Бердяев. 133-134), -говорил религиозный философ о нашей устремленности за пределы видимого мира, словно предугадывая строй души героев писателя. В произведениях Платонова кроется особый взгляд на человека, соединяющий в единое целое бытийную реальность, человеческое тело и душу. Интерпретация платоновского романа под этим углом зрения сближает позицию писателя и мировоззрение его героев. Здесь мы переходим на метафизический уровень текста, в область духовного опыта Платонова. Уже отмечалось, что Платонову присуще обостренное человеколюбивое чувство. Его заботит юдоль земная, а « ... сама душевная структура, запечатленная в творчестве, оказывается поразительно близкой тому, что называется христианским сердцем, христианской юродивостью и даже святостью» (Семенова. 1995. 19). Здесь же приводятся критерии «сердечности» Платонова: активное неприятие зла и падшего состояния мира, акцентирование «детскости» сознания и духовной нищеты смиренных и кротких сердцем персонажей.
За упоминанием главных измерений христианской психологии стоит представление художника-мыслителя об устроении человека. Не «дух» или «душа»1, а «сердце» станет всеобъемлющим понятием художественной антропологии Платонова. Сам мыслеобраз «сердце» вмещает в себя все стороны жизни его «душевных бедняков»: физическую, психическую, духовную. Для этого «наиболее общего термина древней антропологии» (Киприан. 11) у писателя не находится четких философских определений. Но, как и в библейской традиции, это слово заняло в его лексиконе место универсальной познавательной идеи, оставаясь при этом синонимом центрального органа тела. В дальнейшем будет сказано о причинах выбора Платоновым «сердца» в качестве эквивалента понятия «внутренний человек». Но прежде остановимся на осмыслении этого феномена в работах, посвященных Платонову.
Более тридцати лет назад Л. Шубин впервые попытался истолковать роль сердца в прозе Платонова (см.: Шубин). Он закрепляет за словом «сердце» значение ключевого, концентрирующего в себе идею произведения. При этом подчеркивается противостояние сердца (чувства) и рассудка. Л. Шубин полагал, что в «Чевенгуре» Платонов «дает своеобразную модель сознания», для которой сердце «является источником смысла». В романе, в отличие от публицистики, ранней прозы, писатель ограничивает сердцем «права разума» (Шубин. 215).
Мифологема пути в русском самосознании и ее связь с идейно-образной системой Платонова
Критикой уже было замечено, что «Чевенгур» - это нескончаемая цепь снов, полуснов, знамений, моментов засыпания и пробуждения. Все без исключения персонажи романа в той или иной степени погружены в сон. Сны, показанные Платоновым, функциональньї в смысле способности выражать внутренние реакции героев на воздействие среды, на происходящее на их глазах разрушение жизненных основ и связей. Сон у Платонова построен как воспоминание об ушедшем детстве, как состояние, равнозначное смерти. Вместе с тем это и «отпечаток детского представления о связи между сном и ростом тела» (Карасев. 1990. 29). Сновидение со всей полнотой раскрывает обусловленность поступков человека личными мотивами.
Среди снов, которыми переполнен роман, есть юношеский сон Дванова со множеством скрытых смыслов: Герой видит людей, «изгнанных с теплых мест земного шара» на берег Северного Ледовитого океана, а себя - машинистом, доставляющим лес на строительство городов будущего. Во сне Дванову снится пустое пространство. Новая грёза неожиданно прервала утопическую идиллию: «мысль исчезла от поворота сознания во сне, как птица с тронувшегося колеса» (70). Перед нами пророческий сон - дорога, уходящая в никуда, символизирует крушение романтической мечты Дванова. В то же время сновидение проясняет основную «мелодию» души. В этом двойном сне соединены философское и эмоциональное значения изображенного.
По своей структуре сновидение тяготеет к психолого-философской модели сна, выработанной русскими символистами. Во сне человек получает достоверное и несомненное понятие об умственных и чувственных предметах, и как это происходит в видениях христианских авторов или у А. Белого, «видит невидимое». Он является отражением тех иллюзий, мифов, надежд, какие растворены в обществе. В идейных контекстах мифологического сознания наглядно проступают мотивы, созвучные универсальному христианскому мировоззрению.
«Великие видения, правду об этом мире мы видим во сне, ... когда заторможены нервные трезвые центры и ты свободен от своего рассудка, который всегда похож на спекулянта и стервеца» («Жизнь до конца». Возвращение. 41) Это резковатое суждение молодого Платонова - цитата взята из статьи 1921 года - предшествовало возникновению устойчивого мотива в его прозе. Именно во время сна платоновские персонажи смотрят жизни в лицо. Таковы сны Захара Павловича, Копенкина. Умершие родители снятся им живыми, в своем реальном облике. Во сне герои познают истину о мире, ведь там «продолжается та же жизнь, но только в обнаженном смысле» (146).
Прозрачны в психологическом плане кошмары, пугающие сновидцев натуралистические картины (черные раны вырастают на теле Сони) и фантастические видения: черный дождь, хлынувший с небо, гаснущее солнце -«На лугах стоял горбатый и мочился на маленькое солнце, гаснущее уже само по себе» (30). В этой картине, словно созданной кистью художника-примитивиста, прочитывается народно-христианское представление о пространственно-временном катаклизме, вызывающее мифологические ассоциации. Сверхъестественные апокалипсические образы передают в данном случае смятение и страх героев. Отчетливо выраженный смысл этих снов не только онтологичен. Усложненное психологическое письмо представляет через сон живое течение душевного процесса. В сновидениях устанавливается зыбкое равновесие между внутренней и внешней жизнью человека.
В заключение необходимо указать еще на один источник психологизма романа. Генетически Платонов связан с русской литературной традицией. И, тем не менее, в «Чевенгуре» ощутима в значительно большей степени иная социокультурная подоснова. Корни художественности романа, его стиля надо искать в «лубочных переложениях древних старообрядческих преданий, эсхатологических пророчествах, духовных стихах». В их свете отчетливее видится медитативный характер платоновских психологических наблюдений. Присущая русскому духовному стиху глубина и органичность душевных переживаний, особое внимание к качеству внутреннего мира личности -свойственны и Платонову. Эту глубину, считает писатель, не в силах исследовать ни частные науки, ни философия. В этом отношении показательна отрывочная фраза из платоновской рукописи: «Разум делает человека и более податливым на эксплуатацию» {Творчество А. Платонова. Кн. 2. 275). Мысль Платонова, что человек принадлежит одновременно к природному и сверхприродному мирам, проистекает из открытости сознания художника будущему. Персонажи Платонова менее всего воспринимаются как рационально постижимые существа. Поэтому человеческая психика раскрыты у него в приемлемом для религиозной антропологии свете.
Образы русской классики в творческом сознании Пришвина
Публикация итоговой книги Леонова совпала с завершением его жизненного пути. Это неизбывное обстоятельство усиливает профетический смысл романа. В нем сфокусированы основные идеи писателя, опосредованные емкими художественно-философскими образами. Леонов поднимает фундаментальные вопросы кануна третьего тысячелетия. Среди них - диалектика отношений между человеком и историей, христианством и культурой, верой и разумом. Здесь отразилась смена ориентиров национального самосознания: от почти полного разрыва с православной традицией до понимания ее культуросозидающей силы.
«Грехопадения кто разумеет, от тайных моих очисти меня» (Пс. 18:13) -гласит стих славянской Псалтыри. Приведенная библейская строка могла бы стать эпиграфом к «Пирамиде». Пафос романа тесно связан с проблемой испытания человека соблазнами и страданиями, коренной для христианской антропологии, древней и новой отечественной литературы. Двадцатое столетие предстает временем мятежа индивидуумов, попытавшихся стать «как боги». Разрушение единства мира и личности поясняется поэтом и мыслителем серебряного века тем, что «человек, соблазненный помыслом чудесного полета, низвергается в небытие» {Иванов Вяч. 356). Леонов раздвигает тему грехопадения до вселенского масштаба. Она выросла у него «размером в небо и емкостью эпилога к Апокалипсису» {Леонов. 1994. 1. 11).
По жанру произведение Леонова вполне соответствует своему подзаголовку. Перед нами видение настоящих и грядущих событий героями и автором, каким он выведен в романе. Интенсивность их духовно-эмоциональных переживаний создает смысловое напряжение текста. Само же «наваждение» (обман чувств, морока, мираж), охватившее всех персонажей, включая фигуру автора, вызывается стремлением заглянуть за «горизонт зримости» {Там же. 7), «за черту логической видимости» {Там же. 394).
Перевод понятия «наваждение» из ранга жанрового знака в смысловой план приводит к подчинению ему всего повествования. От феномена наваждения зависят «стилистика, фразеология, плоть и дух слова Л. Леонова» {Павловский. 1998. 263.).
«Пирамида» - это типичное откровение о конечных судьбах человека и мирозданья. Отсюда близость романа евангельской апокалиптике. В то же время его структура, приметы эссеизма в стиле идут от риторической традиции. Поэтому роман содержит в себе черты полемического трактата, философско-богословского диспута. С точки зрения теории эпических жанров, произведение Леонова может быть названо романом испытания. Именно так понимал природу романов Ф. Достоевского М. Бахтин. По его словам, единство разнородного материала у великого реалиста обуславливается тем, что он «был непосредственно связан с житийной литературой и христианской легендой на православной почве, с их специфической идеей испытания» (Бахтин. 203). Автор «Братьев Карамазовых», как известно, согласовывал грехопадение и покаяние с глубинными свойствами русской души -потребностью страдания, стремлением «дойти до последней черты» и самоспасением (очерк «Влас»).
Концепция утраты человеком первозданного совершенства, его уклона ко злу занимает в идейном комплексе романа ведущее место. Она нашла здесь философское, духовно-религиозное выражение. Естественно поэтому, что Леонов стремится показать « ... из каких именно качеств слагается содержание восторжествовавшей идеи гордого человека, уже на нашей памяти испытавшего столько девальваций» (Леонов. 1994. 2. 108). Библейский мотив порчи мира и людей стал стержнем произведения и закрепился в системе образов и символов.
В художественном мышлении Леонова сплавляются умозрительное и образно-пластическое начала. Как и в культуре древнего христианства, к которой он тяготеет и в эстетике, и в плане восприятия философско-религиозного материала, многозначный символический образ отражает картину мира. Образное иносказание у раннехристианских писателей и апологетов было основой их отношения к действительности. Если специфика и многогранность образа-символа проявлялись у древних мыслителей в истолковании библейского текста, то у Леонова они применяются в качестве осознанного литературного приема. Тайны мирозданья писатель разгадывает в опоре на символический тип образности, используя в художественно-познавательных целях миф- конкретную форму символического образа.
Символизм ведет на этом пути к раскрытию иррациональных бытийных глубин. «При очевидном неуменье ума постичь загадку, снова на помощь призывается иероглиф образа, в нем ключ к непосильному, с уймой неизвестных, уравнению...» (Леонов. 1994. 2. 80), - скажет об этом способе художественного философствования автор «Пирамиды». При этом апокриф и миф понимаются как издревле существующие повествовательные формы и тип мышления, замещающий рациональную, логизированную мысль. Миф -специфическая форма человеческого духовного опыта. Мифология здесь понимается как создание писателем собственного мифа на почве этой традиции, а мифологема -сюжетно-смысловая единица текста. Понятие «мифическое» в нашем случае использовано не в привычном словоупотреблении («нереальное»), а для выделения идей и отношений, принадлежащих мифу. Ту же установку мы видим во внутреннем построении образов главных персонажей. Для них важно найти первооснову миропорядка, но смущают «явления, внешне как бы порочащие логику Божьего промысла, что, однако, -по суждению о. Матвея, - не означает крушенья веры, а лишь подчеркивает несовершенство наших знаний о Боге» (Леонов. 1994. 1. 44). Каждый герой, изображенный Леоновым как личность, соотнесен с примерами, которые прописаны в Библии. Связь с лицами и событиями Священной истории устанавливается в контексте его психологии и биографии. Так, о. Матвей повторил своей судьбой историю праведного Иова. В ситуации борьбы за духовное первородство показаны его сыновья Вадим и Егор. Леонов уподобляет взаимоотношения братьев соперничеству Исава с Иаковом, а также Голиафа с Давидом {Леонов. 2. 70), нередко меняя их местами. Мотивы «кроткой души», «непорочности» и «благодати» характеризуют облик их сестры Дуни. Не утрачивая пластичности, все эти образы символизируются на духовно-познавательной основе.
Леонов возводит символическую лестницу человеческого духа, «пирамиду» состояний души со всеми ее взлетами и срывами. Поэтому роман Леонова - это еще и поиски ответа «на обуревающие нас сомнения, на несправедливость, царящую в мире, на нужду, нищету, на глубину нравственного падения человека ... » (Арсенъев. 1993. 39).
Уже в первых главах «Пирамиды» излагается миф о проникновении зла в мир, препарированный Шатаницким в плоскости незамысловатой байки и анекдота. Иногда его цинически-шутовской пересказ первого грехопадения воспроизводит стиль антирелигиозных статей 1920-1930-х годов.1 Мифический сюжет послужил средством демонстрации ореола, какой сопутствует инфернальному «отцу лжи». Для того, чтобы убедить студента Никанора в своем демоническом могуществе, «резидент зла» Шатаницкий «угощает» его «экзотическим Еноховым мифом о предвечной ссоре небесного начальства возле покамест глиняного первочеловека, или еще более несуразным библейским анекдотом о его же, чуть позже в райском саду, грехопадении при содействии супруги...» (Леонов. 1994. 1. 140). В текст вводится исходный для метафизики романа миф ангельского падения. Он предваряет ошибки и заблуждения леоновских мыслящих героев: о. Матвея, Вадима и Евгения Сорокиных, равно как и почти пародийный акт плотского греха последнего и Юлии Бамбалски.