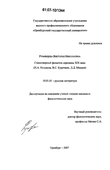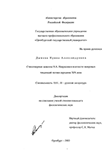Содержание к диссертации
Введение
Глава Первая. «Жизнь духа и дух жизни» в русской поэзии середины XIX века 29
1.1. «...новое есть только старое, некогда детское, а теперь пришедшее в возраст совершенный». Духовное творчество А. С. Хомякова 44
1.2. «Гляжу с любовию на землю, но выше просится душа...» (Страницы духовно-творческой биографии А. К. Толстого) 94
1.3. Духовный смысл «исторической поэзии». А. К. Толстой и А. Н. Майков.127
1.4. «На всякий звук свой отклик в воздухе пустом родишь ты вдруг». «Отзывы»:
поэтические циклы А. Н. Майкова 151
Примечания 179
Глава Вторая. «Домашняя» словесность как явление русской культуры 185
2.1. Первые опыты «своеобразного рода» отечественной словесности 193
2.2. Герой новой русской литературы. Дворянская дилогия 209
2.3. Проза С. Т. Аксакова - «повествование стройное, любопытное, поучительное» 233
2.4. Русская беседа как феномен национального быта 252
2.5. «Преданья русского семейства» или дилогия С. Т. Аксакова 263
Примечания І 296
Глава Третья. Русский драматический канон 301
3.1. Драматургия журнала «Москвитянин». Некоторые страницы 304
3.2. «Мужицкие пьесы» А. А. Потехина в контексте русской драматургии середины XIX века 321
3.3 Гоголевская традиция в комедиях 1860 - 1870-х годов 359
3.4. «Комик XVII столетия» как конспект русской драматургии 395
Примечания 408
Заключение 412
Библиографический список 417
- «...новое есть только старое, некогда детское, а теперь пришедшее в возраст совершенный». Духовное творчество А. С. Хомякова
- «Гляжу с любовию на землю, но выше просится душа...» (Страницы духовно-творческой биографии А. К. Толстого)
- Первые опыты «своеобразного рода» отечественной словесности
- Драматургия журнала «Москвитянин». Некоторые страницы
Введение к работе
Актуальность темы диссертации определяется необходимостью постижения русской эстетической мысли и литературы середины XIX века — явлений, которые, несмотря на кажущуюся изученность, осмыслены пока еще явно недостаточно. Это касается как обозначения ведущих тенденций и закономерностей литературного процесса названного времени, так и внимания к отдельным критикам, прозаикам, поэтам, драматургам, формировавшим особое качество русской словесности, сущность которого находит концентрированное выражение в понятии «русская художественная школа». Своеобразие отечественной словесности отчетливо заметно на интересующем нас этапе развития русской культуры. Важным представляется исследование отдельных фактов литературной жизни, а также обнаружение связей между, казалось бы, далекими художественными мирами. Диссертация соотносится с наиболее сложными и спорными теоретическими и историко-литературными проблемами современного литературоведения. Она вписывается в усиливающийся в последнее время научный интерес к осмыслению «механизмов» динамики литературного процесса, мифопоэтических, религиозно-нравственных, философско-эстетических основ художественного творчества. Слова «особое качество» имеют значение концептуального центра. К нему «стягиваются» все конкретные наблюдения и обобщения, а также исходные позиции автора диссертации.
Эти «исходы» прежде всего связаны с определением двух основополагающих понятий диссертационного исследования: «середина века» и «русская художественная школа».
Понятие середина века в историко-литературных построениях стало устойчивым и наиболее употребимым в 1970-е годы. В академическом труде «Развитие реализма в русской литературе»1 оно охватывает 1840 - 1870-е годы. Авторы монографии убеждены, что в это время русская литература качественно отличается как от предыдущего периода (1820-1840-е годы), так и от последующих десятилетий ее развития. Специфика видится в том, что именно этот хронологический отрезок характеризуется теоретическим обоснованием реализма и безоговорочным признанием этого творческого метода перед другими. Причем особую значимость приобретает мысль о том, что после господства очерков «натуральной школы» на первый план выходит поиск положительных начал жизни, что проявляется в поэтическом восприятии мира, в объективном взгляде на ежедневную обиходную действительность, в иной художественной антропологии, в пристальном внимании к национальному быту, к национальному характеру.
Значительным событием в отечественном литературоведении стала монография И. Г. Ямпольского «Середина века», с характерным подзаголовком: «Очерки о русской поэзии 1840- 1870гг.». Как видим, и здесь под «серединой века» подразумевается тот же хронологический период, что и у создателей коллективной монографии «Развитие реализма в русской литературе».
Иной взгляд у Е. И. Анненковой, которая в работе «Проблема народности в русской критике и публицистике середины XIX века» определяет этот период бытования русской словесности одним десятилетием, 1850-ми годами -временем, когда проблема народности стала первенствующей в критике и эстетике славянофилов.
Анализируя критическое творчество в эпоху после смерти Белинского, Б.Ф.Егоров соотносит середину XIX столетия с 1848 - 1861 годами. По мнению ученого, именно эти годы стали временем самоопределения литературно-общественных сил, их перегруппировки, размежевания и в то же время выработки эстетики новой словесности, не похожей на прежнюю
литературу. По убеждению исследователя, историческая ситуация и духовное состояние в обществе приводит к тому, что в такие переломные периоды создаются произведения, «которые становятся существенными вехами в истории национальной культуры»3.
Книгу Ю. В. Лебедева «В середине века» открывает глава о «Записках охотника» Тургенева (отдельным изданием они вышли в свет в 1852 году), а заключают страницы, посвященные «Снегурочке» Островского, работу над которой драматург завершил в 1873 году. Как отмечает Ю. В. Лебедев, совместными усилиями не только «гениев», но и «обыкновенных талантов», осуществлялась «подготовительная работа, на почве которой только и возможен грядущий расцвет синтезирующих начал в литературе»4.
В книге В. В. Тихомирова «Русская критика середины XIX века: проблема критического метода» (последней по времени работе, обращенной к интересующим нас сейчас вопросам) содержится мысль о том, что 1850 -1870-е годы были временем окончательного самоопределение разных типов русской критики5.
Как мы видим, понятие «середина века» не имеет однозначно трактуемых хронологических координат. В то же время нетрудно заметить, что именно с серединой века разные исследователи связывают те качества русской литературы и критики, которые определили их «возмужалость», национальную специфику, устремленность к новым эстетическим и художественным рубежам. С нашей точки зрения, такой вектор развития особенно отчетливо проявляется в 1850-1870-е годы. По этой причине в центре внимания оказываются преимущественно те явления, которые приходятся на эти десятилетия развития русской литературы и эстетики. О том, что именно в 1850 - 1870-е годы русская литература характеризуется глубоко самобытными национальными началами, свидетельствуют не только упомянутые нами работы современных исследователей. Здесь мы подходим к другому важнейшему для нас понятию -«русская художественная школа».
Это понятие принадлежит А. С. Хомякову. Но прежде чем сосредоточиться на его конкретных составляющих, во избежание недоразумений, есть смысл остановиться на тех значениях и представлениях, которые закрепились за понятием «школа» в современном литературоведении.
Говоря о «школе», обычно имеют в виду либо этап в развитии русской литературы («натуральная школа»), либо группу последователей, ориентирующихся на идейно-эстетические принципы выдающегося автора (например, «некрасовская школа»), В том и в другом случае основой «школы» признается общность идейно-эстетических основ (наличие манифестов). Но иногда расставляются и другие акценты. Так, в обстоятельной работе Ю. В. Манна «Философия и поэтика «натуральной школы» центральной оказывается мысль о том, что принадлежащих ней авторов объединяет не столько основной принцип постижения и изображения действительности (принцип «натурализма» или «физиологизма»), сколько «единая художественная философия»6, то есть некий единый взгляд на мир (конкретнее на соотношение человека и среды). Эта «философия» и обусловливает особенности проблематики и поэтики писателей «натуральной школы».
Возвращаясь к Хомякову, не будет натяжкой утверждать, что, когда он вводил понятие «русской художественной школы», он вольно или невольно подразумевал как раз некую целостность взгляда русского художника на мир или, используя слова Ю. В. Манна, ту «единую художественную философию», которая, по его мнению, отличает русского писателя и - шире - любого творца русской культуры. Таким образом, понятие «школа» употребляется им в особом, не замкнутом на локальных явлениях смысле.
Основная мысль его программной статьи «О возможности русской художественной школы» (1847) заключается в призыве к русскому человеку, писателю, художнику обратиться к самому себе, к национальным истокам: «Мы должны, сознавая собственное бессилие и свои собственные нужды, слиться с жизнью Русской земли, и не пренебрегая даже мелочами обычая и, так сказать,
обрядным единством как средством к достижению единства истинного и, еще более, как видимым его образом» .
Эта мысль станет определяющей не только в статье «О возможности русской художественной школы», но и в таких составляющих, по сути, единый цикл работах Хомякова 1850-х годов, как «Опера Глинки "Жизнь за царя"», «Предисловие к русским песням из собрания П.В. Киреевского», «Разговор в Подмосковной», «Картина Иванова,Письмо к редактору "Русской беседы"», «Сергей Тимофеевич Аксаков». Все они пронизаны общими мыслью и стремлением - постигнуть особенности национального «художества» и определить сущностные черты русского художника и его судьбы. В названном цикле работ не только заявлены («думаны») «чаяния русской художественной школы», но и «смело выражены» принципы и особенности русского духовно-творческого акта. Хомяков стремится не только обнаружить дорогую для него направленность творчества, проявляющуюся в тех явлениях, о которых он пишет, но и направить русского художника по пути обретения национальной самобытности. В этом смысле все его названные выше работы, вне всякого сомнения, носят программный характер.
Установка на обретение национального взгляда на мир не имела ничего общего с культурным изоляционизмом. Хомяков был убежден, что нашим художникам необходимо усвоить европейское культурное богатство, однако нет необходимости этим богатством ограничиваться. Нужно любовью обнять произведения всех школ и сделаться свободным деятелем. Школа, согласно его представлениям, - это и пора ученичества, и время созревания творца. Обретенная во время ученичества и становления свобода не делает художника автономным и абсолютно независимым, но свобода становится тогда свободой, когда она предстает в виде тождества свободы и единства («свободы в единстве и единства в свободе»), когда художник получает значение живого органа в великом организме. Одним словом, по Хомякову, школа - синоним русского
начала, самобытного взгляда на мир и человека, определяемого опорой на национальные традиции и - прежде всего - на христианскую веру, православие. Основой воззрений Хомякова действительно оказывается не шеллингианский метод (хотя он и обнаруживается в системности взгляда), а христианский историзм. Он-то и позволяет автору выразить «строгое и последовательное изложение начал» (VIII, 170), которые определяют наш образ жизни и бытия - «жизнь духа и дух жизни». В статье «О возможности русской художественной школы» разговор идет не о гениях и обыкновенных талантах, не о первенстве повествовательного рода над поэтическим, не о стиле и жанрах (так было в статьях В. Г. Белинского второй половины 1840-х годов), а о национальном культурно-историческом типе. Неслучайно значительное место в этой, да и других статьях цикла, занимают размышления о европейском (католическом и протестантском) и ветхозаветном образе жизни. Русский тип отличает «полнота и цельность разума», «животворные способности разума». Критик не приемлет «одностороннего развития рассудка», составляющего «характеристику нашего мнимого просвещения». Вопрос о русской художественной школе ведется Хомяковым в религиозно-философском плане, ядро которой составляет принцип самосознания, устремление в свой внутренний, духовный мир. «Последовательное изложение начал» предполагает утверждение необходимости такого же самопознания и для своего народа, точнее, философ-критик открывает национальное измерение своего собственного самосознания, без которого личность оказывается ущербной. Поэтому ключевыми формулами, возникающими в процессе этого акта, стали: «образ самосознающейся жизни», «скрытый синтез, зависящий от внутренней жизни народа» «живое сознание фактов», «живая личность народа», «духовное побуждение». Отсюда же проистекает убеждение, что каждый народ имеет свои художественные школы, ибо художество и творец - органическая часть его: «Искусство не есть произведение одинокой личности и ее эгоистической рассудочности <... >
Художник не творит собственною своею силою: духовная сила творит в художнике. Поэтому очевидно, что всякое художество должно быть и не может быть не народным. Оно цвет духа живого, восходящего до сознания или -образ самосознающейся жизни» (I, 73-100). Проблема русской художественной школы ставится в онтологическом плане: «это для нас вопрос о жизни и смерти в самом высшем значении умственном и духовном» (I, 73-100).
В рецензии на оперу Глинки, в некрологах-статьях об Иванове и Аксакове Хомяков размышляет о своеобразии русского художества, его заветах, традициях, творческом национальном акте и, наконец, о феномене русского художника. Русское создание состоялось, ибо выразило коллизии, много раз повторявшиеся в нашей истории. Скорбь и страдания борьбы, лежащие в основании русской оперы, национального мелоса, унаследованы от музыкального предания. В посмертных, а поэтому глубоко личных словах-статьях «Картина Иванова. Письмо к редактору "Русской беседы"», «Сергей Тимофеевич Аксаков», которые, к сожалению, не переиздавались более ста лет, Хомяков показывает процесс рождения русского художника, нахождения им своего верного, достойного Предмета, пребывания в нем и рождения стиля выражения его. «Странное явление», замечает Хомяков, что шестидесятилетний человек становится почти в одночасье великим писателем. Объяснение этой метаморфозе нужно усматривать в последовательности выхода книг Аксакова-отца, но не в этом главное, а в предмете, в его видении и принципах изображения: «Он захотел вспомнить старые годы, прежние, тихие радости». В своих созданиях писатель «сохранил простоту и прямоту в отношении к предмету», поэтому «искусство дается ему свободно <.. .> Оно приходило, как приходило к древним векам, неисканное, неосознанное. В этом-то и состоит неподражаемая искренность произведений первоначальной поэзии». Жизнь в предмете изображения сказалась в слове, речи «старца много пережившего; вы видите, что волнение жизни улеглось, и что мысль и чувство лежат перед вами со своею полною прозрачностью, не
возмущая очерка предмета, но облекая их каким-то чудным сиянием» (III. 370-234).
Удивительной ясности постижения феномена художника Иванова и его
создания достигает Хомяков в письме-статье к Ивану Аксакову. Необычен
Предмет его картины, что потребовало от художника «устранить всякий
личный произвол». Более того «высокой простоты» в выражении можно было
добиться в том случае, если создатель не станет «как видимое третье между
предметом и его выражением». Цель была достигнута: явление Христа на
полотне предстало в духе Священного писания: «Спаситель поставлен на
далеком плане. Иванов не впал в искушение выдвинуть Его вперед <...> Черты
Спасителя остались сравнительно неопределенными: узнать Его можно только
по общему характеру Его образа и по какой-то странно-знаменательной
поступи, в которой видна несокрушимая сила кротости, смирения, идущего на
подвиг деятельности и терпения. Зато, как живо и естественно сделалось все
движение переднего плана <...> Как наглядно выразилось значение мира
ветхозаветного, радостно протягивавшего руки к грядущему, лучшему Завету, к
далекому образу и, так сказать, иконе Христа» (III, 352-365). Такой «результат»
возникает не вдруг, а благодаря «нашей внутренней жизни», питаемой песнями,
языком, семейным обычаем, но более всего Божьим храмом. Эти ключи,
родники помогут русскому художнику освободится от «полуторастолетнего
наслоения» чужой жизни. г
Духовно-эстетическое наследие Хомякова следует рассматривать не только сквозь призму славянофильской доктрины, как чаще всего делают исследователи, но как органическую часть философско-филологических исканий и усилий многих. В этом смысловом пространстве (такой контекст предлагается в нашей работе впервые) существуют и перекликаются тематически и словесно главы из духовного завещания Гоголя: «О лиризме наших поэтов», «Предметы для лирического поэта в нынешнее время», «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность»; цикл статей
В.И. Даля 1840-1860-х годов, представляющий собой опыт национального, народного самосознания; статьи Ф.И. Буслаева о древней литературе и народной словесности, в которых ученый выделяет первооснову нашей словесности «верования и просветленные идеалы древней Руси»9; работы И. В. Киреевского, А. Н. Афанасьева, программные статьи А. А. Григорьева. Середина XIX столетия открывается группой заметок и статей Пушкина о «русскости» русской словесности (речь идет о таких написанных в тридцатые, но увидевших свет именно в 1850-е годы материалах, как «Некоторые исторические замечания», «О народности литературы», «О народном воспитании», «Письмо издателю "Московского вестника"», «О втором томе "Истории русского народа" Полевого», «Путешествие из Москвы в Петербург», «О ничтожестве русской литературы», «Александр Радищев»). Пушкин точно обозначил фундаментальные основы русской земли, то есть территории, народа, государства, их судеб, миросозерцания, культуры, эстетики. Не умозрительный, а глубоко прочувствованный характер „ историко-философских раздумий Пушкина подтверждает его известное письмо к Чаадаеву от 19 октября 1836, в котором выражена «сердечная привязанность к государю» и, что не менее важно, его сыновнее чувство к родной земле: «...ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог дал» (везде курсив наш, кроме специально оговоренных мест - П.Т.)10.
В названных «русских текстах» основной станет мысль о том, что европейская философия и эстетика искажают взгляд русского художника. В трагедии «Борис Годунов» Пушкин отказывается от выгод, представляемых «системою искусства», поэтому и «не изобретает» характер Пимена. В нем поэт «собрал черты», которые он нашел «в наших старых летописях: простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, можно сказать набожное, к власти царя, данной ему Богом, совершенное отсутствие суетности, пристрастия - дышат в сих драгоценных памятниках.. .»п.
И.В.Киреевский, начиная разговор в рецензии 1845 года по поводу народной повести Ф. Глинки «Лука да Марья», по существу, восстанавливает картину средневековой духовно-творческой жизни русских монастырей, воссоздает облик древнерусского книжника и труд «смиренного инока», представляет круг его сочинений. Все это, по мнению философа, было почвой для общей жизни народа, всех его сословий, так как истекала она (жизнь) «из одного источника - церкви» . Образ келейного книжника возникает здесь не только как напоминание о прошлом, далеком, но как некая искомая фигура, с судьбой которой критик хочет слиться. Знаменательность этой критической вещи заключается не в декларативности, характерной для призывных статей, например, декабристов, а в том, что с нее начинается новый этап в жизни Киреевского. В эту пору он в поисках истины приходит к прямому продолжателю древнерусской духовной традиции старцу Оптиной пустыни Макарию . И.С.Аксаков в речи-некрологе (1873) о «трудолюбцах» и подвижниках русской науки и русского слова В.И. Дале, А.Ф. Гильфердинге и К.И. Невоструеве подчеркивает, что в жизненном пути этих исследователей русской словесности есть нечто общее: «способность трудиться без всякой опоры извне, без поощрения, без утешения славы, в нужде и скоби, не приемля мзды своей»14. Таким образом, в середине XIX столетия шло становление национального культурно-исторического деятеля, подвижническая судьба которого была нацелена не на критику, отрицание и обличение, но на созидание.
Завершается рассматриваемый нами период знаковой книгой Н. Н. Страхова «Заметки о Пушкине» (1874). Все вместе взятое и составило своеобразный исторический, философско-эстетический и филологический манифест русской художественной школы. Примечательны статьи Григорьева, в которых критик заявлял, что разговор о русской школе должен вестись не в конкретно-историческом плане, не принимать вид позитивистско-просветительских раздумий о прогрессе в литературе. Необходимо
переключить смысловые регистры в иной план - в сущностный. Требуется размышлять не о гоголевской школе, его последователях, проблематике и приемах этого направления, а необходимо постигать то, как художник видит мир и человека, «ибо ничто в такой степени не необходимо художнику, как миросозерцание»15. Понятия «натуральная школа» и «миросозерцание художника» у Григорьева разведены, более того^они выступают антиподами.
Таким образом, раздумья Хомякова и близких ему в этом плане выдающихся деятелей русской культуры о «русской художественной школе» по своей природе - онтологические. Важно было понять самый дух нашего творческого акта. Как писал поэт П. А. Вяземский: «Отыскивать себя в себе самом / И быть не тем, во что нарядит случай, / Но чем могу и чем хочу я быть»16. Этот путь открытия национального измерения бытия станет затем преобладающим в русской религиозной философии.
Объектом нашего внимания как раз и оказываются те явления русской словесности, которые раскрывают суть феномена, названного Хомяковым «русской художественной школой». По-нашему мнению, именно в середине века (как уже отмечалось ранее, для нас это 1850-е - 1870-е годы) русская словесность Нового времени обретает черты, за которые ратовал Хомяков и близкие ему в этом отношении русские писатели и критики, имена которых назывались выше. Невольно вспоминается В. И. Даль, который в словарной статье с заголовочным словом «середина», выделяет значение, какого нет в современном академическом словаре русского языка: «Средолетие - пора полной возмужалости»17.
Понятно, что рассматриваемые в диссертации вопросы тесно соотносятся с проблемой национального своеобразия русской литературы, относящейся к наиболее значимым темам историко-литературных исследований. В своей работе учитывали концептуальные положения монографии Н. Я. Берковского «О мировом значении русской литературы». Выдающийся ученый не только проанализировал и прокомментировал отзывы о нашей словесности писателей
и критиков западноевропейских стран богатый материал, но и обозначил особую природу русской литературы - ее эпический характер. Существенной, укрепляющей нашу позицию стала мысль исследователя о семейной («домашней») природе русской прозы XIX века. Мы «держали в уме» также фундаментальную работу Е. Н. Купреяновой и Г. П. Макогоненко «Национальное своеобразие русской литературы». Однако историко-типологический метод исследования приводит авторов монографии к идеям, высказанным еще Белинским, который был убежден в том, что русская литература - это, в сущности, одна из европейских литератур. Предлагаемая учеными методика сопоставления близких, по их мнению, художественных миров, например, Пушкина и Стендаля, приводит их к убеждению, что просветительская «прививка», в целом, повлияла на этику и эстетику новой русской литературы. В главах, посвященных второй половине XIX века, исследователи, говоря о сущности русского реализма (авторы монографии используют термин «критический реализм»), убеждены в том, что его качество определяется просветительской философией, что, конечно же, не совсем так. К тому же, в книге внимание сосредоточено в основном на прочтении русской прозы, ее вершинных образцов и почти не раскрывается особость, «русскость», отечественной поэзии и драматургии.
По-своему отозвался на вышеназванную монографию В. В. Кожинов в статье «И назовет меня всяк сущий в ней язык...». Он доказывает мысль о том, что русская культура имеет самостоятельный смысл и цель18. Своеобразие русской литературы, по его мнению, «базируется» на нашей национальной ментальности, «всечеловечности», которая отличается от европейского духа, определяемого свободным, самостоятельным, абсолютным своенравием субъективности. Значительный вклад в осмысление сущности отечественной словесности внесли книги Ю. И. Селезнева о Достоевском, М. П. Лобанова об Островском, И. П. Золотусского о Гоголе, Ю. М. Лощица о Гончарове. Их
исследования обозначили новое направление отечественной философско-эстетической мысли.
Отечественное литературоведение последнего пятнадцатилетия сосредоточило внимание на выявлении новых «контекстов понимания», христианского, в первую очередь. Наша работа смыкается с этой тенденцией современного литературоведения. Разумеется, нельзя утверждать то, что нами впервые проявлено внимание к религиозно-нравственным основам русской литературы. Те проблемы, к решению которых мы обращаемся, не раз обсуждались (правда, главным образом на другом материале), в том числе в известных работах таких исследователей, как В. А. Котельников, И. А. Есаулов, И. И. Виноградов, С. А. Гончаров, М. М. Дунаев, В. А. Воропаев, В. Н. Захаров, В. С. Непомнящий и др.
Нельзя, конечно, сказать и о том, что обойдена вниманием русская литературы середина XIX века. Но материалом для наблюдений до сих пор служило творчество наиболее крупных из русских писателей этого времени, в научный оборот не введены многие из материалов, без которых невозможно в полной мере представить возникавшую в те годы картину, не проявлено достаточно пристального внимания к писателям «второго ряда», а главное -середина XIX века не осмыслена в свете единой концепции, под углом зрения тех идей, которые стоят за понятием «русской художественной школы». Это и определяет научную актуальность предпринятого нами труда.
Цель исследования состоит в том, чтобы глубже и полнее осмыслить динамику литературного процесса, духовные искания русских писателей, обновить концепцию истории отечественной поэзии, прозы и драматургии 1850-1870-х годов.
Соответственно ставились задачи:
1) выявить и проанализировать новые источники, углубляющие представление об особенностях развития русской литературы 1850 - 1870-х годов;
анализируя поэзию, прозу, драматургию этой поры, показать линии взаимодействия разнородного материала;
раскрыть характерные черты творческой индивидуальности А. С. Хомякова, А. К. Толстого, А. Н. Майкова, С. Т. Аксакова, Н. С. Лескова, А. Н. Островского, А. А. Потехина и других;
рассмотреть наиболее конструктивные для развития литературы связи (генетические, типологические) писателей середины XIX века друг с другом и со средневековой русской культурой.
Научная новизна работы состоит в привлечении широкого круга разнородных философско-эстетических и литературных источников, на основе анализа которых выясняется, что русская словесность середины XIX века имеет особый характер. Его сущность находит концентрированное выражение в понятии «русская художественная школа». В диссертации показано, что «русская художественная школа» объединяет поэтов, прозаиков, драматургов, устремленных к поиску своего предмета художественного воссоздания -«жизни духа и духа жизни» (A. С. Хомяков).
Основные положения, выносимые на защиту.
Середина XIX века (1850- 1870-е годы) - особый период в развитии русской словесности, качество которого определяется поиском положительных начал русской жизни и их художественным воплощением.
1850 -1870-е годы - время возмужалости, зрелости отечественной словесности. В середине XIX века происходит выравнивание лирики, эпоса и драмы; они находятся в гармонических отношениях, согласии, взаимном диалоге. Каждый род оказывает своеобразное влияние на другой, обогащая «коренные» художественные возможности.
«Русская художественная школа» как феномен отечественной культуры получает свое философско-эстетическое осмысление в раздумьях Пушкина, Гоголя, Киреевского, Хомякова, Даля, Григорьева, Страхова
и художественное выражение в поэзии, прозе и драматургии середины XIX века.
Поэзия середины XIX постигает русский дух в разных его проявлениях. Поэтическое слово исследует нестроения и страсти человека, его духовное восстание. Оно живописует красоту родного края, воскрешает прошлое страны, персонажи ее истории.
Одной из магистральных линий отечественной литературы середины XIX века является «домашняя» словесность, возрождающая и продолжающая традицию древнерусских поучений, слов, агиографии, повестей.
Своеобразие русской драматургии середины XIX века достигается благодаря органическому освоению нескольких традиций: народной, религиозной и светской.
Научно-практическая значимость диссертации определяется тем, что полученные диссертантом результаты позволяют расширить и углубить представление о литературной атмосфере середины XIX века, о философско-эстетических и духовных исканиях этой поры. Практическую ценность диссертации придает возможность использования ее материалов и выводов в вузовской практике преподавания ряда дисциплин историко-литературного профиля, при разработке спецкурсов и проведении спецсеминаров, посвященных актуальным проблемам русской поэзии, прозы и драматургии, а также при изучении творчества Хомякова, А. Толстого, Майкова, Аксакова, Л. Толстого, Лескова, Островского, Потехина и др.
Апробация работы: по результатам диссертации были прочитаны доклады на международных, всероссийских, межвузовских научных конференциях: «Малые жанры: Теория и история» (Иваново, 1997, 1999, 2001), «Щелыковские чтения: Проблемы эстетики и поэтики А.Н. Островского» (Кострома, 2000, 2002, 2003, 2004), «В.И.Даль в парадигме идей и
направлений современной науки: язык - словесность - культура -самопознание» (Иваново, 2001, 2003), «Оптина Пустынь и русская культура. Всероссийские чтения, посвященные братьям Киреевским» (Калуга, 2001), «ХХХИ-я Некрасовская конференция» (Санкт-Петербург, 2004), «А. С. Хомяков - мыслитель, поэт, публицист» (Москва, 2004). Некоторые положения диссертации послужили основой для успешно защищенных дипломных работ студентов филологического факультета ИвГУ и одной кандидатской диссертации.
Бытует мнение, что в каждый период жизни литературы доминирует или «лидирует» тот или иной род, та или иная художественная форма. По нашему убеждению, в интересующее нас время преимущества перед другими не имеет ни один род. Более того, все они находятся в гармонических отношениях, согласии, взаимном диалоге. Каждый род оказывает своеобразное влияние на другой, обогащая «коренные» художественные возможности. Во всех родах литературы этого времени наблюдается открытое исповедание твердой веры в силу и мощь народного духа, а также любовь к народу, руководящая всеми мыслями и деяниями. Показательно, что А. А. Григорьев, осмысливая живые начала отечественной словесности, не стремился противопоставить поэзию прозе или прозу драматургии, он вел разговор о достоинствах произведения, которые, по его мнению, заключены в глубине, простоте и в отсутствии всякой эффективности19.
Именно «вера и любовь» наложили отпечаток на мироощущение писателей, на их творчество. Они явились основными и глубочайшими источниками духовного опыта, что и предполагало национальный смысл содержания искусства и его форму. К тому же художественное произведение, по мнению писателей этого периода, должно способствовать духовной перестройке воспринимающего. Иначе говоря, произведения с разными родовыми признаками устремлены к единому духовному центру. По этой причине в диссертации уделяется одинаковое внимание как лирике (ее
осмыслению посвящена первая глава), так эпосу (вторая глава) и драме (глава третья).
Ясно, что автор диссертации не мог рассмотреть все литературные явления изучаемого этапа. Предпочтение было отдано тем, которые изучены меньше (по этой причине в число основных источников не вошли произведения Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, хотя все названные писатели имеют самое непосредственное отношение к «русской художественной школе»). В то же время мы стремились сочетать интерес к признанным классикам (например, к А. Н. Островскому) с вниманием к писателям так называемого «второго ряда» (в частности, А. А. Потехину). Соположение писателей разных масштабов дарования было призвано отчетливее проявить ту или иную из существенных сторон «русской художественной школы».
В то же время мы вполне осознанно сближали художников, порой далеко отстоящих друг от друга по эстетической позиции, но тем не менее имеющих существенные точки соприкосновения. В частности, в «формате» одной главы «объединены» такие поэты, как Хомяков, А. К. Толстой и А. Н. Майков. Многие факты свидетельствуют против такого сближения: Хомяков принадлежит к другому литературному поколению, литературной партии, литературной школе. Толстой всегда намеренно подчеркивал свою гражданскую и тем более литературную независимость. И все же в этой разности и видимой несовместимости заключается смысл для научного поиска. На этом же принципе выстраивал концепцию своей книги «В середине века» И.Г. Ямпольский, помещая в ее научное пространство имена и творчество поэтов^ далеких по своим общественно-эстетическим позициям: А. К. Толстого, Василия Курочкина и И. С. Тургенева.
В пояснении нуждается и обращение к материалу, хронологически выходящему за пределы 1850 - 1870-х годов. В связи с этим есть смысл еще раз
обратиться к критическим статьям тех авторов, имена которых уже не раз упоминались ранее.
Важно отметить, в частности, что А. А. Григорьев как своеобразную логосную матрицу всей нашей словесности рассматривал творчество Пушкина. Начиная разговор о литературной деятельности Л. Н. Толстого, например, критик значительную часть статьи посвящает размышлениям о зрелом Пушкине, писателе, не впадавшем ни в какую крайность. Синтетизмом Пушкина он поверяет все явления русской литературы: и прозаические, и поэтические, и драматические. По этой причине в диссертации уделяется значительное внимание Пушкину, который болыпе5чем кто-либо из писателей XIX века j подготовил художественные открытия последующей русской литературы вообще и русской литературы середины позапрошлого столетия в частности. Пушкинская традиция своеобразно отзовется в романе-хронике Н.С. Лескова «Захудалый род» (1874). Так по-своему соединятся в творческих исканиях художников истоки и конец изучаемого нами периода.
Другой «питательной» почвой для писателей изучаемого нами периода стали традиции древнерусской словесности, что было замечено еще в XIX веке. Примечательны, в частности, статьи Н. Н. Страхова о Л. Н. Толстом, перекликающиеся с академическими исследованиями Ф. И. Буслаева. И тот, и другой ставят перед собой задачу осмыслить устойчивую тенденцию в развитии отечественной словесности. В древнерусской книжности Буслаев отмечает наличие произведений в форме поучений и повестей, созданных в основном авторами-отцами и адресованных детям. Отец являлся в этих памятниках в отношении к детям не только главою семейства, но и наставником. Он в своей семье совершал великое дело просвещения, духовные подвиги во имя истины и добра. В литературе нового времени Страхов выделяет тот род «домашних» произведений, «которого нет в других словесностях» . Одним словом, философские и художественные искания середины XIX столетия пронизаны идеей воскрешения древнерусской
традиции, проявляющейся на разных уровнях и у разных писателей, но, быть может, с особенной отчетливостью в книгах С. Т. Аксакова. Таким образом, понятно, почему в диссертации, с одной стороны, проявлено такое большое внимание к древнерусской литературе, а с другой — к «домашней» словесности, вышедшей из-под пера С. Т. Аксакова (он создает «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внука», разнообразные воспоминания). На наш взгляд, именно в его творчестве обнаруживается не только свойственная «русской школе» простота и безыскусность, но и присущее ей тяготение к синтетическим формам, объединяющим жанрам (запискам, хроникам, развернутым эпическим повествованиям).
В отечественной словесности середины XIX века возрастает идеологическое и диалогическое напряжение. Наступает пора внутренних сшибок, что было громко заявлено еще в таких стихотворных посланиях Н.М.Языкова 1840-х годов, как «И.Аксакову», «Н. В. Гоголю», «А. С. Хомякову» и особенно в стихотворении «К ненашим». Основу отечественной драматургии составляли не столько социальные коллизии, сколько противоборство своего и чужого, когда к добру примешивали лживость, а к правде - ожесточение. Как известно, А. Н. Островский считает отличительной чертой русского народа «отвращение от всего резко определившегося, от всего специального, личного, эгоистически отторгшегося от общечеловеческого...» . Оппозиция свой/чужой определит смысловое содержание русских пьес, их образную систему, а также найдет отражение во многих заголовках комедий и драм как самого Островского, так и его современников: «Свои люди - сочтемся», «Не в свои сани не садись», «В чужом пиру похмелье», «Волки и овцы» «Чужое добро в прок не идет» (А.А. Потехин).
Таковы исходные принципы, определившие и круг источников нашего исследования, и распределение материала.
И еще несколько пояснений.
Основная часть диссертации состоит из трех глав.
В первой - «"Жизнь духа и дух жизни" в русской поэзии середины XIX века» - в центре внимания творческие и духовные искания поэтов этой эпохи А. С. Хомякова, А. К. Толстого, А. Н. Майкова.
Д. С. Лихачев в работах 1990-х годов отстаивает мысль о необходимости сосредоточить внимание на отдельных художниках, на свободной воле творца, на творчестве отдельного автора или отдельных произведениях. Именно этим путем идет диссертант, рассматривая художественные миры Хомякова, Майкова и А. Толстого. При всем различии у Хомякова, Майкова и Толстого, однако, есть то общее, что присуще русскому поэту: осознание своего пути и нахождение своего предмета. Каждый их них понимает, что «он укоренился именно в субстанции, а не в личной выдумке» . И Хомяков, и Толстой, и Майков выразили с особенной силой и точностью, что искомое найдено, что они не творили, а воспроизводили, созерцая и описывая свой предмет. Это каждый из них доказал своими созданиями и своей личной жизнью. Творческий поиск своего предмета они воплотили в программных произведениях, где предельно сжато, но тем не менее емко высказали открытое. У Хомякова таковым может считаться итоговое стихотворение «Спи», у Толстого -«Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», у Майкова - одно из заключительных стихотворений цикла «Дома» - «Нива».
Для историка литературы важно проследить, как живет и творит поэт «тютчевской школы» в иную литературную эпоху, остается ли он в рамках прежнего стиля или качество его поэзии с течением времени меняется? Этим определено наше внимание к творческому наследию Хомякова, Традиционно его поэзию считают своеобразным художественным вариантом критики и публицистики или же характеризуют как одну из линий русского романтизма (Е. А. Маймин, В. И. Кулешов, В. А. Кошелев). Определяя место поэта в истории литературы, Б. Ф. Егоров приходит к мысли, что стихотворения и драмы Хомякова представляют собой явления 1830 - 1840-х годов и не имеют
продолжения в русской поэзии. Иная методология используется для осмысления поэзии Хомякова В. П. Океанским. Стихотворные опыты поэта рассматриваются им как органическая часть русской метафизической лирики, осуществляется герменевтическое прочтение творчества Хомякова, но преимущественно 1820-х годов.
Автор диссертации считает, что к творчеству Хомякова необходим иной подход: следует сблизить написанные в разные годы стихотворные произведения, некрологи, посмертные слова о своих близких, эпистолярное наследие и воспринимать их как единое целое. Единство этому разнородному материалу придает провиденциальный сюжет, этапы которого осознаются поэтом как утраты близких ему людей, что и обусловило биографическое начало поэзии Хомякова, обычно не замечаемое исследователями, которое рассматривается в нашем исследовании в некоей целокупности: анализируются стихотворные произведения, некрологи, посмертные слова о своих близких, а также эпистолярное наследие. Их соединяет в целое провиденциальный сюжет. Разные по своей родовой принадлежности произведения рассматриваются нами как страницы духовного творчества. Такой подход был осуществлен впервые.
Объектом исследования во второй части первой главы стала поэзия А.К. Толстого. Его творческое наследие осмысливалось многими поколениями отечественных ученых в разных аспектах. В последние десять-пятнадцатьдет наряду с историко-литературными исследованиями критико-биографического, обобщенного характера (В. А. Кошелев, П. А. Гапоненко, А. В. Федоров и др.) появились работы, в которых заметно стремление выявить духовные начала творчества писателя; По этому пути пошли архиепископ Иоанн Сан-Францисский, В. Ю. Троицкий, Ю. К. Герасимов. Учитывая наблюдения и выводы предшественников, автор диссертации, однако, находит новый поворот в осмыслении художественного мира поэзии Толстого, его духовно-творческой биографии. Такой поворот был подсказан самим Толстым: в письме-
автобиографии к А. Губернатису, итальянскому критику и историку литературы, он обозначил существенные этапы своего творческого пути.
Третий «персонаж» научного сюжета главы о русской поэзии середины XIX века - А. Н. Майков. В работе анализируются основные поэтические циклы его поэзии, составляющие ядро творческого наследия. Такой ход предпринят нами впервые. Чаще всего внимание исследователей (М.Сухомлинов, Л.Лотман, Н.Сухова, Ф.Прийма, П.Гапоненко и др.) привлекали произведения поэта, которые прочитывались как наиболее характерные для этого писателя, воспринимаемого в качестве представителя «чистого искусства». К таковым относят антологические стихи, циклы «Очерки Рима», «Неаполитанский альбом». Подобная традиция была заложена прижизненной критикой и закреплена Д.С. Мережковским24, однако сам поэт подчеркивал, что вся его биография и творчество заключены «не во внешних фактах, а ходе и развитии внутренней жизни; в ходе расширения внутреннего горизонта, в укреплении взгляда на жизненные вопросы»25. В циклах «Дома», «На воле», «Дочери», «Отзывы истории»,«Отзывы жизни», «Из Аполлодора Гностика», над которыми Майков работал напряженно, как раз и отражены эти «ход и развитие внутренней жизни» поэта с наибольшей полнотой.
Вторая глава нашего исследования «"Домашняя" словесность как явление русской культуры» посвящена малоизученному пласту отечественной культуры, который представлен семейными записками, хрониками, романами и другими объединяющими жанрами. Процесс воскрешений средневековой культуры в отечественной словесности середины XIX столетия, думается, в большей мере проявился именно в этих художественных формах. Он обусловливает проблематику произведений, принципы творчества, сам тип писателя, образную систему которые сложились в устной и книжной традиции средневековья. Концепция созданий А. С. Пушкина, Д. Н. Бегичева, С. Т. Аксакова, Д. В. Григоровича, Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого определена «мыслью семейной». Эту формулу русской жизни не следует считать
изобретением Толстого, она рождена природой России, ее историей, укладом, верованиями. Объектом анализа для решения задачи постижения «домашней» словесности является корпус основных сочинений названных авторов (особое внимание уделено произведениям С. Т. Аксакова). Вспомогательным объектом исследования станут произведения средневековой литературы (поучения, жития, повести и др.), которые проясняют смыслы произведений нового времени. Эта часть работы подчинена мысли о том, что в истории отечественной словесности с самых ее истоков существовал и плодотворно развивался «своеобразный род, которого нет в других словесностях». Суть этого рода в том, что в его произведениях воссозданы «воспоминания и рассказы о всех важнейших случаях жизни» того или иного семейства, семейств, а также о том, «как действовали на их жизнь современные им исторические события» .
Н. Я. Берковский, осмысливая «родовые» черты русской литературы, отмечает, что семья была почти всегда в центре художественных интересов наших писателей, так как «в простейших союзах они видели прообраз большого общенародного союза людей». Эта идея, по мнению исследователя, определяет и художественные формы отечественной словесности: «У Толстого в "Войне и мире" видимым образом формы семейного, "родового" романа, с его семьями и "кланами" Болконских, Ростовых, Безуховых, перетекают в формы национальной эпопеи <.. .> В романах Толстого люди не только живут, но и общаются семьями, группами, они дружат и любят не поодиночке, а от семьи к семье <.. .> От обычного семейного романа роман Толстого отличается тем, что это, так сказать, открытая семья, с отворенной дверью - она только начинается кровным союзом, она готова распространиться, путь в семью - это путь к людям».2?
В третьей главе «Русский драматический канон» внимание сосредоточено на том, как осуществляется поиск положительных начал в русской жизни и характере. Предметом анализа являются критика и основной
корпус пьес А. Н. Островского, А. А. Потехина, привлекаются произведения А. Ф. Писемского, Л. Н. Толстого. Исследование сосредоточено на феномене русской драматургии середины XIX века, своеобразие которого было достигнуто благодаря органическому освоению нескольких традиций: народной, религиозной и светской.
Историзм научного исследования заключается, прежде всего, в анализе литературных явлений, в раскрытии внешних и внутренних связей, в обосновании их генезиса и развития. Методологически значимой для нас является мысль Н. Н. Страхова, высказанная им в книге о Пушкине: «Нужно уметь идти за писателем -и художником всюду, куда он нас ведет, и видеть все, что он нам показывает»28. Следование этой установке подразумевает выявление не только «ближнего», но «далеких контекстов понимания» (М.М. Бахтин). Современный историк литературы обращается не только к временному и текущему, но к вечному и постоянному, что, в конечном счете, и определяет его литературоведческую аксиологию30.
Поставленные в работе цели и задачи могут быть достигнуты при условии использования совокупности методов, выработанных современным литературоведением: историко-генетического, сравнительно-исторического, типологического, историко-функционального, герменевтического.
Примечания
1 Введение. Развитие реализма в русской литературе середины XIX века (1840-1870) // Развитие реализма
в русской литературе: В Зт. М.,1973.Т.2.Кн.1.
2 Анненкова Е.И. Проблема народности в русской критике и публицистике середины XIX века. Л.,1974.
3 Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX века. Л., 1982.
А Лебедев Ю.В. В середине века. М.,1988.
5 Тихомиров В.В. Русская литературная критика середины XIX века: проблемы критического метода.
Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора филологических наук.
Новгород. 1997.
6 Манн Ю.В. Философия и поэтика «натуральной школы» // Проблемы типологии русского реализма.
М..1969.С.245.
1 Хомяков А.С. Поли. собр. соч.: В 8т. М., 1900—1909.Т.З.С.360. Далее письма и статьи Хомякова цитируются по этому изданию с указанием в тексте работы в скобках номера тома и страницы.
Подробнее о цикле статей В.И. Даля см. в нашей статье: Тамаев П.М. Статьи В.И. Даля в контексте раздумий о народной словесности // Вестник Ивановского государственного университета. 2001. Серия «Филология». ВыпЛ.С.53-61.
9 Буслаев Ф.И. Повесть о Горе Злочастии; Идеальные характеры Древней Руси; Русские духовные стихи
// Буслаев Ф.И. О литературе; Исследования; Статьи. М..1990.С.262.
10 Пушкин А.С. Поли. собр. соч.: В Ют. 4-е изд. Л..1978.Т.7.
" Пушкин А.С. Письмо к издателю «Московского вестника» // Поли. собр. соч.: В Ют. Л.,1978.Т.7.С53.
12 Киреевский И.В. Критика и эстетика. М.,1979.С.227.
13 Криволапое В.Н. Оптина пустынь: ее герои и тысячелетние традиции // Писатель и время. М., 1991.
Вып. 6.С.372-423. Котельников В.А. Русская литература и Оптина пустынь // Русская литература, 1989. №№
1,3,4.
14 Аксаков КС. Речь о А.Ф. Гильфердинге, В.В. Дале и К.И. Невоструеве //Аксаков КС. Аксаков КС.
Литературная критика. М..1981.С.259.
15 Григорьев А.А. Литературная критика. М., 1967.С.60.
16 Вяземский НА. Стихотворения. Л., 1986 (Б-ка поэта. Большая серия) С.339-340.
"Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В4т. М..Т.4.С.177.
18Кожинов В.В. «И назовет меня всяк сущий в ней язык...» // Наш современник. 1981. №11. C.I53-177.
19 Григорьев А.А. Граф Л. Толстой и его сочинения. Статья вторая. Литературная деятельность графа
Л. Толстого //Литературная критика. М.,1967.
20 Страхов Н.Н. Л.Н. Толстой // Литературная критика. М., 1984.С.292.
21 Островский А.Н. Поли. собр. соч.: В12т. М., 1972-1980.Т.10.С.110.
22Лихачев Д.С. Очерки по философии художественного творчества. СПб., 1999.
23 Ильин И.А. Путь к очевидности. М..1993.С.324.
24 Мережковский Д.С. Вечные спутники. Достоевский, Гончаров, Майков. 3-е изд. СПб., 1908.
25 Цит. по: Сухомлинов М.И. Особенности поэтического творчества А.Н. Майкова // Русская старина.
1894.№4.С.481.
26 Страхов Н.Н. Л.Н. Толстой // Страхов Н.Н. Литературная критика. М.Д984.С.292.
27 Берковский Н.Я.0 мировом значении русской литературы. Л.,1975.С.43,44.
28 Страхов Н.Н. А.С. Пушкин // Страхов Н.Н. Литературная критика... С.124.
29 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М..1979.С.361-373.
30 Есаулов И. А. Литературоведческая аксиология: Опыт обоснования понятия // Евангельский текст в
русской литературе XVIII - XX веков. Петрозаводск.1994. С.378-383.
«...новое есть только старое, некогда детское, а теперь пришедшее в возраст совершенный». Духовное творчество А. С. Хомякова
Исследователи литературного процесса стремятся определить его некие доминантные начала, главное направление, вектор развития и движущие силы. Давно сложилось представление о том, что русская поэзия XIX столетия пережила в своем развитии три подъема. Первый и третий связывают с плодами творения, высшими достижениями Пушкина и Блока. Срединный же период, или «поэтическая эпоха» середины века, не имел лидера, поэтического гения, и тем не менее он по своей «продуктивности» и по вкладу в русскую культуру значителен. Лидерство поэзии среди других родов литературы ученые склонны объяснять природой данного вида словесного творчества: «Лирическая поэзия могла и должна была выразить социальную ситуацию (время общественного подъема накануне Крестьянской реформы) быстрее, непосредственнее и ярче иных литературных форм»1. В целом справедливое суждение авторитетного ученого требует некоторого уточнения. Тем более В. В. Кожинов позднее сам себя поправил, отметив, что русская литература не есть «прямое отражение или воспроизведение русской жизни» . Значит, поэзия середины века осмысляла и выговаривала на своем языке не социальные вопросы по преимуществу. На первом плане стоял внутренний человек, его духовно-душевная жизнь, проблемы личного самопознания, самосознания. «Как мы ни спасаемся / В миг самозабвения / От самосознания, І Все ж мы просыпаемся»3 (курсив наш. — П. Т.), — писал Я. Полонский. Эта линия явится как магистральная для русской философской мысли в работах Петра Астафьева, Николая Страхова и других. Они были убеждены в том, что душевный склад русского человека располагает его к философии: «...погруженный лучшими и глубочайшими своими стремлениями в свой внутренний, духовный мир, он не может не быть глубоко проникнут интересом самосознания»4. Русская поэзия как раз и явилась непосредственным выражением душевно-духовной реальности5. Действительно, в эту пору «совершался огромный духовный рост и духовное творчество, не видные и не осознаваемые ни современниками, ни долгими поколениями спустя. С удивлением, как бы неожиданно ... они открываются ходом позднейшего исторического изучения»6. Это суждение русского мыслителя как методологическое напоминание необходимо для того, чтобы попытаться постигнуть феномен русской поэзии середины века, а не рассматривать ее в традиционном виде как противостояние или сосуществование двух поэтических направлений— гражданского и «чистого искусства».
Давно уже замечено, что в 1840-е годы поэзия уступает первенство прозе. Творческая активность поэтов так называемой московской школы (П. Вяземский) или шире — тютчевской школы начинает угасать. Эта особенность литературной жизни побудила исследователей отечественной словесности (В. Г. Базанов, Л. Я. Гинзбург, А. И. Журавлева) вывести за скобки позднейшее творчество представителей школы дисгармонического стиля. В новую поэтическую эпоху середины века они напомнят о себе своими или первым поэтическим (Вяземский), или посмертным сборниками (Хомяков), но в целом поэты послепушкинской поры будут восприниматься как периферия литературного пространства. Критика 1850—1870-х годов не уделит им сколько-нибудь внимания, почти не станет называть их имена. Лишь в статьях Григорьева («Русская изящная литература в 1852году») и К.Аксакова («Обозрение современной литературы») творчество Тютчева и Хомякова осмысливается в ряду с поэтическими исканиями русских лириков другого поколения. Аксаков, например, напомнит читателю, что и Тютчев, и Хомяков принадлежат «по времени к прошедшей эпохе стихотворства», тем не менее их дарование и содержание их созданий свидетельствуют о том, что они «не теряют нисколько современности». Более того, Хомяков как поэт хоть и принадлежит к прошедшей эпохе, но это «поэт, для которого нет того или другого времен, которого дух и деятельность выше преходящих определений»9. Такая оценка творческой деятельности Хомякова может показаться завышенной, однако в суждении Аксакова важно то, что он рассматривает литературную жизнь в ее целокупности, как развивающееся явление, в котором главное — укрепление «самостоятельного духа». Как о живом развивающемся явлении зрелой лирики поэтов тютчевской школы говорит и Кожинов. По мнению исследователя, позднее творчество Хомякова, Глинки, Шевырева и других стихотворцев данного направления во многом объясняет феномен поэзии Тютчева 1850—1860-х годов, поэтому он призывает изучать русскую лирику поры ее кажущегося угасания. Мысль ученого звучит убедительно, однако доказательства ее нуждаются в корректировке. Кожинов сверяет содержание и стиль стихотворений Глинки, Хомякова, Шевырева середины века по созданиям Тютчева 1830-х годов, находя родство произведений представителей школы с творениями учителя, то есть Тютчева. Но эта похожесть оказывается внешней: например, стихотворение Хомякова 1858 года «Счастлива мысль, которой не светила...» не может быть соотнесено с тютчевской лирикой мысли, так как первоначально находилось в составе статьи-письма о художнике Иванове, лишь укрепляя представление Хомякова о духовном росте творца картины «Явление Христа народу». Вряд ли тютчевская стихия видна и в стихотворении 1851 года «Мы род избранный, — говорили Сиона дети в старину...». Оно также изъято из контекста хомяковского творчества; к тому же по содержанию это произведение Хомякова представляет собой вариацию на тему «Слова о Законе и Благодати».
В историко-литературных построениях сложилась традиция отыскивать точку отсчета какого-то явления, поворота в развитии словесности. При этом чаще всего движение мысли задается идеями ведущих критиков эпохи, что, в общем-то, справедливо, однако такая методика страдает односторонностью.
«Гляжу с любовию на землю, но выше просится душа...» (Страницы духовно-творческой биографии А. К. Толстого)
Просветительскую мысль Белинского о наступлении «сумерек» русской поэзии и о первенстве прозы поддерживали далеко не все современники и последователи критика90. Гоголь в своем духовно-литературном завещании «Выбранные места...» убеждает уже известных поэтов и только вступающих на литературный путь, что «нынешнее время есть именно поприще для лирического поэта». Оно, как никогда, определяется русской темой. «Возвеличь в торжественном гимне незаметного труженика», покажи, как «затрепетала в каждом русская природа» (Г, 112—113).
А. Григорьев также вполне обоснованно возражает Белинскому: «нельзя говорить об упадке и отсутствии лиризма в литературе», ибо «лиризм вечен»91; к тому же в нашей литературе, по его мнению, «немало замечательных лирических поэтов», имеющих «дело с новыми, постоянно раскрывающимися задачами» . Эти задачи состоят в уяснении русскими художниками «справедливости разумных законов», в умении «отличить самобытное, коренное от пришлого или наносного». Критик также убежден, что возрастание всякого истинного поэта заключается в том, что он «выходит непременно из фальшивого или заимствованного строя в строй, соответственный его натуре и миросозерцанию»93. О необходимости соответствия дара русского художника его творческой судьбе будет писать последователь Григорьева в русской критике Н. Н. Страхов. Он подметил главную особенность поэтического гения Пушкина — его «прямодушие», когда «расстояние между душою Пушкина и его стихотворениями было так мало, что меньше и не бывает и не может быть»94.
Таким образом, и Гоголю, и Григорьеву, конечно же, важно обратить внимание на то, что в русской поэзии произошли серьезные изменения, которые и подготовят поэтический взрыв 1850-х годов. Но не менее важно для них осмыслить отличительные черты отечественной поэзии, ее «существо», «особенность», поэтому формулируются и проговариваются ее концепты. Действительно, «поэзия и в 40-е годы подспудно самоопределялась, набирала силу, пытаясь согласоваться с новой .. . эпохой»95. Результат этого самоопределения оказался ошеломляющим. В течение нескольких лет появились буквально десятки значительных поэтических книг старых и новых авторов. Новое поколение русских поэтов входит в литературу с представлением о том, что «всё теперь — предметы для лирического поэта». Теперь основной вектор отечественной поэзии определяется мыслью о том, что «всякое истинное русское чувство глохнет, и некому его вызвать» (Г, 111, 113). Поэтическая эпоха середины XIX века знаменательна как своими книгами, так и немалым количеством критических статей о поэзии, в которых определялась эстетика новой литературы, обозначалось художественно-культурное пространство русского искусства. Требовалось возродить ренессансную полноту пушкинского творчества и поэтов его поры, когда русская поэзия обрела свободу изъяснения. Но в новую эпоху для поэзии не менее важны были поиски ответа на вопрос: «Что я значу?» Философско-эстетические искания позднего Хомякова, «высокий строй лиризма» и искренность его поэзии убеждали современников в том, что «должно глубоко и свободно допрашивать свое внутреннее чувство и свои коренные, еще уцелевшие начала» (X, Ш, 361).
В конце жизни Алексей Константинович Толстой написал характерное, казалось бы, для себя произведение — былину «Садко» (1873). Мотивы и образы эпической поэзии его привлекали издавна. Однако, на наш взгляд, «Садко» стоит особняком среди толстовских былин. Он создавался в пору завершения драматической трилогии, и тогда же поэт был озабочен поисками темы для новой драмы. Данное обстоятельство уже выводит былину из ряда эпических вещей Толстого. Можно предположить, что это скорее продолжение его драм: мистериальный характер «Садко» просматривается сквозь эпические «одежды». Он менее всего стремился подойти близко к оригиналу, так как был убежден, что бесполезно и опасно соревноваться с былиной, которая «будет всегда выше переделки»; его интересует не линия рассказа, не «новгородский местный цвет», а «настроение или картинка» (Т, IV, 387), впечатление от целого, то есть колорит. Поэта здесь более всего занимают духовные вопросы бытия человеческого, а не мифопоэтика и уж, конечно, не социальная сторона жизни. Об особой природе своих созданий Толстой заявлял в программном произведении «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!»: «Слух же душевный сильней напрягай и душевное зренье, / И как над пламенем грамоты тайной бесцветные строки / Вдруг выступают, так выступят вдруг пред тобою картины, / Выйдут из мрака все ярче цвета, осязательней формы...» (Т, I, 122). В этом принципиальном суждении Толстой утверждает свое видение сюжетов для уже созданных и будущих произведений, в которых внутренний, сущностный план является ведущим. В балладе-мистерии «Садко» народное предание, народная эпическая фабула дают возможность поэту художественно развернуть вечный мотив искушения в сюжетное повествование («...Иисус говорит ... отойди от Меня, сатана; ибо написано: "Господу Богу твоему поклоняйся и ему Одному служу"»; Матф. 4:1—11). Поэтому поздняя пьеса предстает как былина-мистерия, где диалогическая часть и особенно исповедь героя, воспевающая мир Божий, являются центром всего произведения. Необычность художественной формы «Садко» обусловлена в большей мере ситуацией и характером главного героя:
«Сюжет человеческий, но не этнографический» (Г, IV, 370) — вот на чем сосредоточено творческое воображение поэта. Русский человек «всю свою жизнь носит в себе живое и впечатлительное сердце: симпатия и антипатия, радость и печаль, эйфория и депрессия, оптимизм и пессимизм занимают в его жизни почти всегда первое место»9. Оказавшись в ином мире, на дне морском, восприимчивый, чувствительный Садко переживает не только неизбывную тоску, как замечает И. Ильин. Глубина и бездна (в данном случае эпическая преисподняя») позволяют ему почувствовать красоту земную, красоту, сотворенную Создателем: «Теперь, чай, и птица, и всякая зверь / У нас на земле веселится; / Сквозь лист прошлогодний пробившись, теперь / Синеет в лесу медуница!» (Т, I, 333—334), ощутить вновь, что значат для русского «русский дух» и «Русью пахнет». «Божий день», которого взыскует Садко на дне морском, предстает во всем многообразии вселенской радости: «весна расцветает», животный мир «веселится», в зеленые святки кумится, резвится и пляшет молодежь «в лесу молодом». Драматический сюжет «Садко», может быть, как нигде,позволил Толстому представить близкого себе по духу героя: Садко изображен как подлинный боец, а не в соловьевском смысле, согласно которому Толстой — боец за красоту. Иносказание в данном случае помогает выразить то, что поэту не удалось высказать в субъективно-открытых лирических произведениях, например в стихотворении «Двух станов не боец...». Силу и уверенность в себе Садко в моменты искушения дает земля, народная вера и мудрость: «Во свежем, зеленом, в лесу молодом / Березой душистою пахнет — /И сердце во мне, лишь помыслю о том, / С тоски изнывает и чахнет» (Т, I, 334). В былине-мистерии Толстой, хоть и опосредованно, вступает в поединок с силами зла, «злым духом», искушениям которого герой противопоставляет иную систему ценностей — красоту «божьего дня», плоды трудов праведных сеятеля: «Хоть дегтем повеяло раз на . меня, / Хоть дымом курного овина!» (Т, I, 333). «Врожденное чувство», а также
Первые опыты «своеобразного рода» отечественной словесности
Каждый народ в течение долгого времени выработал свой душевный и духовный уклад, который проявляется или высказывается в способе мышления, чувствования, в слове. Это приводит к удивительным созвучиям и перекличкам идей, образов, словесных формул. Так, например, Н. Н. Страхов, осмысливая феномен «Войны и мира», полагал, что «история нашей литературы, в сущности, есть одна из историй, наиболее покрытых мраком, и понимание этой истории ... в высшей степени искажено и запутано предрассудками и ложными взглядами. Но, по мере движения нашей литературы, смысл этого движения должен уясняться, и такое важное произведение, конечно, должно открыть нам многое относительно того, чем внутренне живет и питается наша литература, куда стремится ее главное течение»1 (курсив наш.-П.Т.).
В. В. Розанов, постигая феномен Страхова, убеждал русского читателя в том, что появление толстовского создания «было важным моментом внутреннего развития» личности его литературного наставника. В четырех томах громадного произведения Страхов обнаружил то, что отличало русский идеал от европейского. Идеал всегда несложен, он называется несколькими словами: Простота, Добро и Правда, однако их смысл был дорог для нашего народа. Эти концепты в целом определяют искания отечественного писателя, который занят тем, чтобы показать, как мы, русские, «к добру примешали лживость, к правде - ожесточение»2. Суждения Страхова и Розанова нацеливают нас на изучение удивительных и необычных черт нашего народа, его духовных творений и быта.
Задача русской критической мысли, по мнению Страхова, состоит в уяснении и осмыслении «настоящего дела» нашей поэзии, а «оно, - продолжает критик, - во все времена устремлено на раскрытие тайн души человеческой. Так было и в наше последнее время. Внутренний вопрос души, уяснение себе идеала душевной красоты». Наша литература, считает критик-философ, была озабочена «думой об истинной жизни и красоте и о душевном бессилии, не дающем людям доступа к этой жизни» . В первых статьях о Толстом он выделил (прежде на это произведение обратил внимание Григорьев) среди толстовских созданий «Семейное счастье»: «роман, который по простоте своей задачи, по ясности и отчетливости ее разрешения действительно составляет вполне живое целое»4. В нем, может быть, как ни в каком другом произведении, созданном до «Войны и мира», впервые была заявлена и изображена идея обыкновенной жизни как героической; не герои теперь составляют весь интерес истории, а обыкновенный человек. Он согласен с оценкой Григорьева, что это произведение тихое, глубокое, простое и высоко поэтическое. Продолжая мысль своего предшественника и учителя, Страхов вслед за ним выделяет в русской литературе «род словесных произведений, в центре которых не «похождения отдельного лица ... а события целого семейства»5. Дух толстовского произведения «Война и мир», по мысли критика, состоит в том, что его главное творение «сосредоточено на событиях частной жизни». Добавим - на семейной были, на семейных преданиях Болконских и Ростовых, а «исторические события описаны лишь в той мере, в какой они прикасались в жизни простых людей»6.
Н.Я. Берковский, осмысливая «родовые» черты русской литературы, отмечает, что семья была почти всегда в центре художественных интересов наших писателей, так как «в простейших союзах они видели прообраз большого общенародного союза людей». Эта идея, по мнению исследователя, определяет и художественные формы отечественной словесности: «У Толстого в «Войне и мире» видимым образом формы семейного, «родового» романа, с его семьями и «кланами» Болконских, Ростовых, Безуховых, перетекают в формы национальной эпопеи ... В романах Толстого люди не только живут, но и общаются семьями, группами, они дружат и любят не поодиночке, а от семьи к семье .. . От обычного семейного романа роман Толстого отличается тем, что это, так сказать, открытая семья, с отворенной дверью - она только начинается кровным союзом, она готова распространиться, путь в семью - это путь к людям»7
Понятия «домашняя» поэзия, «домашняя» критика давно утвердились и стали вполне привычными как в учебной литературе, так и в академических историко-литературных исследованиях. Этими формулами ученые стараются обозначить явления русской литературы разных эпох. Например, замечено, что в поэзии Державина выделяется среди других его поэтических созданий цикл произведений («Кружка», «К первому соседу», «Желание зимы», «Прогулка в Сарском селе», «Приглашение к обеду», «Евгению. Жизнь Званская»8. Добавим к сказанному, что этот круг произведений Державина значительно шире, в них человек предстает как обычный земной житель. Подобные стихотворения вызваны к жизни конкретными интимными бытовыми ситуациями. Герой такой поэзии окружен близкими ему людьми, он обитает в родной усадьбе, погружен в домашнюю повседневную обстановку; природный ландшафт, быт и уклад дома, вещный мир радуют его взор. Для автора-героя самоценно все, что дорого его сердцу и взгляду, поэтому он любовно живописует каждую деталь своих пенат, интерьера, свои привычки и членов семьи, каждодневные занятия и забавы. Эту домашнюю атмосферу наиболее полно способно передать свободное слово, не стесненное никакими правилами («забавный слог»), свободная художественная форма построения произведения, позволяющая останавливаться поэтическому взору, может быть, на явлениях и вещах, прежде не бывалых предметом художественного творчества, требовался особый жанр, позволявший выразить необычную с точки зрения строгой эстетики тему. К сказанному следует добавить, что «эмпирический человек» как главная фигура «домашней» поэзии Державина не исчерпывает всего круга этого явления его творчества. Выскажем предположение, что к «домашней» поэзии Гаврилы Романовича вполне могут быть «приписаны» стихотворения на историческую тему и духовные произведения.
В.Э. Вацуро в главе «Поэзия пушкинского круга» (последняя по времени создания академическая «Истории русской литературы») использует понятие «домашняя» поэзия, ибо, по его мнению, оно позволяет передать полнее дух и атмосферу отношений между поэтами «новой школы», содержание их лирики. Биографически-доверительный и интимный характер поэзии Пушкина, Дельвига, Баратынского, Кюхельбекера способствовал рождению и бытованию поэтических персонажей, в которых легко угадывались конкретные черты того или иного поэта, что приводило к отождествлению подлинных биографий с поэтическими9. Жизнь и быт какого-либо содружества (студенческого, военного и т.д.) вносили в творчество не совсем профессиональные токи, что сказывалось в мотивах, стиле, словоупотреблении, жанрах поэтов данного круга. «Домашний» характер поэзией новой школы был унаследован от школы гармонической точности, то есть от Батюшкова и, первую очередь, от его программного послания «Мои пенаты», а также от Жуковского и от его также программного стихотворения «Теон и Эсхин». В.А. Кошелев, анализируя литературную жизнь первой четверти XIX века, своеобразно прочитал критические материалы К.Н. Батюшкова, отметив их особую «домашнюю» природу. Критика Батюшкова, по его мнению, - это «критика для немногих». По существу, все написанное поэтом в критическом роде не было публичным, а предназначалось узкому кругу друзей или, вообще, писалось «для себя»10. Художественное видение мира и человека, проявившееся в «Моих пенатах», стало определяющим и в «домашней» прозе-критике поэта. Этим объясняется его необычная точка зрения на явления литературы, «средняя позиция», то есть отсутствие стремления примкнуть к какой-либо партии, а также проявилось своеобразное пристрастие поэта к небольшим критическим формам.
Примечательным явлением для обозначения контекста и понимания выдвинутой нами проблемы стало появление монографии И. Б. Павловой «Тема семьи и рода у Салтыкова-Щедрина в литературном контексте эпохи». М., 1999. В работе дан анализ идейно-художественных и биографических факторов, оказавших влияние на изображение рода и семьи, которые занимали видное место в творчестве писателя.
Драматургия журнала «Москвитянин». Некоторые страницы
О правомерности постановки проблемы становления русской драматургии на страницах журнала «Москвитянин» следует говорить по нескольким причинам. Во-первых, уже с 1830-х годов в отечественной словесности сложилась ситуация, когда журналы сосредоточили в себе почти все наиболее значимые явления в литературе. «Журнальная литература, — по мысли Н. В. Гоголя, — верный представитель мнения целой эпохи и века ... Она волею или неволею захватывает или увлекает в свою область девять десятых всего, что принадлежит литературе ... Итак, журнальная литература ... имеет право самого пристального внимания» (Г, VII, 433). Во-вторых, именно в журналах был поставлен главный вопрос времени: что такое наша драматургия? И «Москвитянин», может быть, занимает первенствующее место среди других периодических изданий. В. Я. Лакшин считает (и справедливо), что уже в 1850 году в библиографии «Москвитянина» «несравненно чаще стали появляться рецензии на художественные сочинения, и как раз, по преимуществу, сценические — комедии, водевили, драмы. В выборе предметов для разбора видно пристрастие молодого редактора» (А. Н. Островского. — П. Т.) . Об особой позиции «Москвитянина» в постановке и осмыслении существенной и насущной проблемы времени красноречиво свидетельствуют критические заметки А.Григорьева (Москвитянин. 1852. №3, 6, 9). В них критик приветствует стремление редакции «Пантеона» сделать журнал интересным для чтения, но главное, «чтобы он наполнялся статьями оригинальными, написанными в русском духе». «Стремление похвальное, но трудновыполнимое», так как «статьи в русском духе в литературе нашей, как известно, большая редкость»9. Григорьев своими заметками перевел разговор о будущей русской драматургии в иное русло, нежели вела театральная критика 1830—1840-х годов, подчеркивавшая, что главной проблемой было осознание законов, по которым должно строиться сценическое произведение. Отсюда не поэтические таланты были потребностью русской драматургии, а таланты, которые могли бы выразиться в форме сценической. Григорьев уже в первых критических материалах (не театральных статьях) заговорил о драматическом произведении как о литературном явлении.
Критические заметки и явились предтечей проблемных статей, именно в этих малых формах Григорьев начал формулировать концепты русской драматургии, ее каноны. «Комедия! Слово с огромным значением в настоящую минуту, — едва ли не полное слово века ... Велико значение комедии во второй половине XIX века, особенно велико теперь и было велико в русской жизни, — но велики и требования наши от комедии», — заявляет критик по поводу посредственной пьесы С. Одинской «Где мед, там и мухи»10. Критические родовые пристрастия А. Григорьева определились еще в 1840-е годы в материалах о театре, а в 1850-е писать о драме, в целом о русской драматургии стало для него главным делом. Так закладывались камни в основание русской драматургии; по существу, здесь угадывается желание критика идти в русле размышлений Гоголя, автора «Театрального разъезда...».
Любое сколько-нибудь значительное драматическое сочинение дает Григорьеву повод размышлять о состоянии русской драмы. В 1850 году критик «Москвитянина» публикует рецензию на комедию П. Н. Меншикова «Причуды» (Современник. 1850. № 7), в которой обозначает контуры отечественной драматургии: «Наша литература так бедна драматическими произведениями, что всякое явление, выходящее сколько-нибудь из общего уровня пошлости и посредственности, задуманное с серьезной мыслию или отделанное с некоторым изяществом, возбуждает невольное к себе сочувствие ... Жадно раскрываем мы каждую новую русскую драму, и еще более, русскую комедию, с надеждою найти в ней разработанным какой-либо пласт богатого содержания, представляемого многообразным русским бытом, тронутою какую-либо новую пружину. Почему, спросят нас, от драмы в особенности ждем и требуем мы таких психологических и исторических откровений! Да просто потому, что драматическая форма была, есть и будет венцом, вершиною поэзии, полным и цельным отражением народной жизни, народного сознания, народного созерцания» (курсив наш. — П. Т.). Обращает на себя внимание то, что названная рецензия выделяется среди других небольших по объему критических материалов А. Григорьева, опубликованных в 1850-е годы в журнале «Москвитянин», своим программно-эстетическим содержанием. Именно в ней были заявлены концепты нового мышления, новой русской критики, новой русской драматургии, еще при жизни Н.В. Гоголя, а не после его смерти, как считают исследователи. Молодой москвитянинец высказывает мысль о необходимости создания драматического рода отечественной словесности, который должен развиться из нашей жизни и, как выражался И. Киреевский, «из господствующих интересов нашего народного и частного быта» . Примечательно еще и то, что Григорьев, словно намеренно, обходит молчанием комедию Островского «Свои люди — сочтемся» («Москвитянин. 1850. №6); он выдерживает паузу, предполагая, что фигура Островского потребует обстоятельного разговора о судьбах русской литературы послегоголевского периода.
Позицию журнала, и прежде всего молодой редакции, по поводу первого значительного произведения Островского («новой комедии») озвучил Б. Алмазов в своеобразной статье, драматической фантазии, «Сон по случаю одной комедии», которую можно считать аналогом гоголевского «Театрального разъезда...». Удивительно рифмуются между собой критические материалы Григорьева и Алмазова и по смыслу, и по стилю. Алмазов придает пока предварительным суждениям Григорьева конкретность и объемность. Во-первых, он поименовал произведение Островского как явление знаковое в русской литературе, не похожее на создания Пушкина и Гоголя; для критика несомненно, что драматург представил на суд публики «новую комедию». Эта формула новой современной отечественной словесности употребляется в небольшой статье почти два десятка раз, приобретая в устах молодого человека, персонажа драматической фантазии, особый смысл.