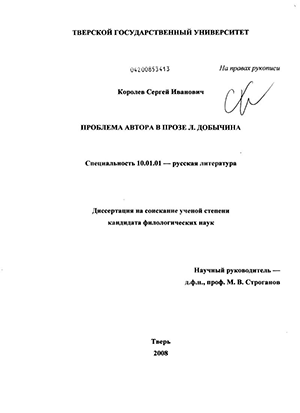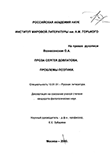Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Субъектно-речевая организация прозы Л. Добычина 27
1. Содержательно-субъектная и формально-субъектная организация текстов Л. Добычина 27
2. Субъектно-речевая организация заглавий Л. Добычина 36
3. Я и другой в прозе Л. Добычина 43
4. Проблема читателя в прозе Л. Добычина 66
5. Рассказ «Портрет» в прозаической системе Л. Добычина 82
Глава II. Автор и герой Л. Добычина в контексте русской литературы 1920—1930-х годов 91
1. «Словоцентризм» писателя Л. Добычина 91
2. «Литературные соседи» Л. Добычина (М. Зощенко, К. Вагинов и др.) 109
3. Л. Добычин и поэтика примитивизма 124
4. Детский взгляд или взгляд на детство: Л. Добычин и И. С. Соколов-Микитов 129
5. Между традиционным нарративом и лирическим эпосом: Л. Добычин и Б. Зайцев 139
Заключение 147
Библиография 152
- Субъектно-речевая организация заглавий Л. Добычина
- Рассказ «Портрет» в прозаической системе Л. Добычина
- «Литературные соседи» Л. Добычина (М. Зощенко, К. Вагинов и др.)
- Детский взгляд или взгляд на детство: Л. Добычин и И. С. Соколов-Микитов
Введение к работе
Проблема автора является одной из наиболее актуальных проблем современного литературоведения [Манн 1991: 3], хотя, как показывают исследования [Рымарь 1994: 13; Компаньон 2001: 70—76], возникновение ее может быть тесно связано со средневековой герменевтикой или даже — с античной риторикой. Но нашей целью не является освещение истории вопроса, тем более что существуют работы, в которых это уже сделано (напр. [Рымарь 1994: 11—60]). Для нас важно определить суть проблемы автора как теоретической основы исследования, чтобы затем, используя этот теоретический аппарат, говорить о проблеме автора в прозе Л. И. Добычина.
На настоящий момент проблема автора наиболее разработана в «теории автора» Б. О. Кормана, которая возникла под влиянием трудов В. В. Виноградова, Г. А. Гуковского, Л. Я. Гинзбург, И. М. Семенко и — особенно — М. М. Бахтина. Поэтому, беря за основу теорию Б. О. Кормана, мы по мере необходимости рассмотрим здесь отдельные положения некоторых ее «предтеч». С другой стороны, методологическое «воплощение» кормановской «теории автора» (так называемый «системно-субъектный метод»), на наш взгляд, требует некоторой корректировки и некоторых дополнений, для чего нами будут использованы отдельные положения исследований М. М. Бахтина, Е. В. Падучевой, Б. А. Успенского и Ю. В. Манна.
Прежде чем говорить о проблеме автора, необходимо установить, какой смысл мы будем вкладывать в само понятие автор. В литературоведении термин автор употребляется в нескольких значениях. Так, под автором подразумевается, во-первых, реальное биографическое лицо (писатель, поэт, драматург); во-вторых — некий субъект повествования в данном произведении; в-третьих — носитель целостной концепции художественного произведения, как бы сама эта концепция, «последняя смысловая инстанция» (М. М. Бахтин). В нашей работе, говоря о «проблеме автора» в художественном произведении, мы вслед за Бахтиным и Корманом будем употребить слово автор в третьем значении, используя термин концепированный автор (М. М. Бахтин), или просто — автор.
Из такого понимания автора следует, что ни одно слово, ни одно высказывание в художественном произведении не может быть прямым авторским словом. Всякое «частное» слово в тексте заведомо меньше целостной концепции, которая как бы складывается, вырастает из этих «частных слов», из их слияния или столкновения. Таким образом, «текст литературного произведения всегда выступает как совокупность чьих-то высказываний» [Хализев 1976: 104]. Как показал М. М. Бахтин, в художественном тексте нет и не может быть «ничьих» слов.
Таким образом, анализ субъектно-речевой организации художественного произведения — путь к постижению позиции автора, а следовательно, и к овладению полнотой смысла текста. При этом нужно особо подчеркнуть, что такой анализ не является собственно стилистическим, языковым. И автор — в понимании М. М. Бахтина и Б. О. Кормана — это не «художественное языковое сознание», как утверждал В. В. Виноградов. С точки зрения Виноградова, автор внутри произведения не имеет своего индивидуального стиля, собственного языка, так как в произведении нет его противопоставления «другим», иным точкам зрения в системе этого произведения; все «другие» — это и он, это маски того же многоликого автора. Так, в частности, В. В. Виноградов утверждал, что «рассказчик — речевое порождение автора, и образ рассказчика — это форма литературного артистизма автора. Образ автора усматривается в нем как образ актера в творимом им сценическом образе» [Виноградов 1971: 118]. Ученый считал, что «образ автора — это не простой субъект речи, чаще всего он даже не назван в структуре художественного произведения. Это — концентрированное воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с повествователем, рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся идейно-4 стилистическим средоточием, фокусом целого» [Виноградов 1971: 118]. Поэтому «чужие сознания», по Виноградову, — это сознания языковые, составные системы языка. Отсюда следует, что «чужие голоса и слова могут с полным правом принадлежать самому автору, который объемлет их все и вмещает в свое сознание» [Чудаков 1980: 302]. Такую монологически авторитарную концепцию автора не могли принять ни М. М. Бахтин, ни — вслед за ним — Б. О. Корман, по мнению которых, за каждым «словом» нужно видеть именно другого субъекта, сохраняющего относительную самостоятельность другой точки зрения, с которой автор вступает в диалог. Всякое слово в художественном произведении, являясь чьим-то словом, оказывается выражением некоторой личностной позиции, которая, однако, существует не изолированно, а во взаимодействии с другими «словами-позициями», в том числе и с позицией автора. В системе такого полилога и складывается авторская концепция. В отличие от бесконтрольно-игрового, авторитарно-произвольного отношения к другим точкам зрения, превращающего их в объект манипуляции, система равноправного диалога «обнаруживает своего рода демократию сознаний, дает возможность реально учитывать, принимать во внимание каждое из них. Как раз такое понимание субъектной организации делает особенно острой проблему автора — позиция автора оказывается действительно серьезной проблемой, требующей анализа системы отношений субъектов речи и сознания, соотношения сознания автора с другими голосами в системе этого сознания» [Рымарь 1994: 63].
Субъектно-речевая организация художественного произведения, то есть соотнесенность всех частей текста, составляющих в совокупности данное произведение, с соответствующими им субъектами речи и сознания, предполагает, что субъект речи — это тот, кому приписана речь в данном отрывке текста, а субъект сознания — тот, чье сознание выражено в данном отрывке текста. Анализ этих отношений следует вести на двух уровнях: формально-субъектном и содержательно-субъектном. Рассмотрим сначала, что представляет собой формально-субъектная организация.
В теории Б. О. Кормана под таковой подразумевается соотнесенность всех отрывков текста, образующих в совокупности данное произведение, с соответствующими им субъектами речи. В первом приближении весь речевой строй художественного произведения можно разделить на две части: повествовательная речь и прямая речь персонажей. Но при более глубоком «проникновении» в субъектно-речевую организацию чаще всего обнаруживается, что такое контрастное деление является весьма приблизительным и неточным — особенно в литературе ХХ в. Современные исследователи отмечают, что «в начале ХХ века тенденция к уменьшению присутствия повествователя становится всё более явной» [Падучева 1996: 214], так что оказывается невозможным соотнесение повествовательных отрывков с каким-либо одним субъектом речи (повествователем или рассказчиком). Повествовательный текст как бы размывается словом, речью или сознанием персонажей, и таким образом создается впечатление, что повествование ведется сразу несколькими субъектами или, по крайней мере, с учетом и отражением различных точек зрения. Повествование перестает быть монологом. Диалогичность становится необходимым условием постижения и изображения действительности.
На формально-субъектном уровне в структуру повествовательной речи проникает слово героя, образуя таким образом гибридные конструкции (термин М. М. Бахтина). Под гибридизацией М. М. Бахтин понимал «смешение двух социальных языков в пределах одного высказывания, встреча на арене этого высказывания двух разных, разделенных эпохой или социальной дифференциацией (или и тем и другим), языковых сознаний» [Бахтин М. 1976: 170]. Далее М. М. Бахтин уточняет, что «намеренный двуголосый и внутренне диалогизированный гибрид обладает совершенно специфической синтаксической структурой: в нем в пределах одного высказывания слиты два потенциальных высказывания, как бы две реплики возможного диалога. Правда, эти потенциальные реплики никогда не могут до конца актуализироваться, вылиться в законченные высказывания, но их недоразвитые формы явственно прощупываются в синтаксической конструкции двуголосого гибрида» [Бахтин М. 1976: 173]. Гибридные конструкции реализуются в художественном тексте в двух основных формах: как несобственно-прямая речь или как «отраженное чужое слово» (М. М. Бахтин). Подробнее рассмотреть эти формы мы сможем только после выяснения сущности содержательно-субъектной организации текста.
Под содержательно-субъектной организацией Б. О. Корман понимал соотнесенность всех отрывков текста, образующих в совокупности данное произведение, с соответствующими им субъектами сознания. Субъект сознания обнаруживает себя в субъктно-объектных и субъектно-субъектных отношениях, которые в зафиксированном состоянии определяются как различного рода «точки зрения». Пространственная точка зрения — положение субъекта сознания по отношению к объекту сознания в пространстве. Временная точка зрения — положение субъекта сознания во времени, которое определяется соотношением времени рассказывания и времени совершения действия. Фразеологическая точка зрения — «отношение между субъектом и объектом в речевой сфере, то есть между речевыми манерами субъекта и объекта» [Корман 1990: 27]. Здесь субъект речи — со своими «словечками», выражениями, интонациями — в то же время является объектом другого, более высокого сознания.
Б. О. Корман говорит только о пространственной, временной и фразеологической точках зрения. Однако, на наш взгляд, этими тремя точками зрения, не исчерпывается содержательно-субъектная организация художественного произведения. Невозможно обойтись без понятия психологической точки зрения, введенной еще Б. А. Успенским (см.: [Успенский 2000]), под которой мы подразумеваем отношение между субъектом и объектом (точнее: это субъектно-субъектные отношения) в сфере сознания (а не в речевой сфере — как во фразеологической точке зрения). Здесь, кроме «ведущего» сознания (сознания субъекта повествования), имеются одно или несколько «вложенных» сознаний, которые (не являясь выраженными в речи) своим присутствием организуют (структурируют, деформируют) повествовательный текст, таким образом вступая в диалогические отношения с сознанием повествующего. Понятие психологической точки зрения понадобится нам при описании явлений, не рассмотренных Б. О. Корманом, но нашедших отражение в работах других исследователей.
Рассмотрим теперь понятия несобственно-прямая речь и «отраженное чужое слово». В «теории автора» Б. О. Кормана несобственно-прямая речь (далее — НПР) определяется как способ введения чужого сознания, отличного от сознания повествователя, в повествовательный текст эпического произведения. Как правило, это чужое сознание — сознание одного из персонажей. При НПР в повествовательный текст, организованный преимущественно пространственной и временной точками зрения, включается текст (формально — тоже повествовательный), организованный преимущественно фразеологической точкой зрения. Причем это включение не сопровождается сменой субъекта речи: у текстов, организованных разными субъектами сознания, — один субъект речи.
Понятие «отраженного чужого слова» (далее — ОЧС) было дано М. М. Бахтиным в работе «Проблемы поэтики Достоевского»: «Здесь чужое слово не воспроизводится с новым осмыслением, но воздействует, влияет и так или иначе определяет авторское слово (имеется в виду «слово» фразеологически определенного субъекта сознания. — С. К.), оставаясь само вне его. Таково слово в скрытой полемике и в большинстве случаев в диалогической реплике». «Самое чужое слово не воспроизводится, оно лишь подразумевается, но вся структура речи была бы совершенно иной, если бы не было этой реакции на подразумеваемое чужое слово» [Бахтин М. 1979: 226—227]. Б. О. Корман, сравнивая НПР и ОЧС, отмечает, что общим для них является то, что в обоих случаях на основное сознание (сознание субъекта повествования) накладывается дополнительное — того, о ком говорится или на кого делается намек (подразумеваемый субъект).
Различаются же они прежде всего характером основного сознания: при НПР оно определяется пространственной и временной точками зрения, а при ОЧС — фразеологической. Таким образом, в ОЧС совмещаются накладывающиеся друг на друга, но относящиеся к разным субъектам, связанные с разными сознаниями варианты фразеологической точки зрения.
Кроме этих двух основных форм «гибридных конструкций», можно выделить еще одну, как бы промежуточную, в трудах лингвистов обозначаемую термином «цитирование» (А. Вежбицкая). Разводя понятия НПР и цитирование, Е. В. Падучева отмечает, что в НПР повествующий как бы полностью устраняется из высказывания, передавая право на речевой акт «другому» — персонажу. А при цитировании «другой» лишь частично (и как бы «незаконно») вторгается на территорию «суверенного» высказывания повествующего. В НПР слово персонажа «входит в контекст его же собственного речевого (ментального, перцептивного и т. д.) акта, быть может не эксплицированного, а при цитировании слово персонажа используется в составе речевого акта повествователя» [Падучева 1996: 354]. Ср. такой пример из «Мертвых душ»: «Когда полицмейстер вспомнил было о нем <осетре>, сказавши «А каково вам, господа, покажется вот это произведение природы?», подошел было к нему вместе с другими, то увидел, что от произведения природы оставался всего один хвост». Второе упоминание произведения природы — это, несомненно, цитата, вставленная в текст повествователя из речи персонажа, но никак не его НПР.
Таким образом, мы видим, что цитирование может быть ироничным (это как бы скрытая полемика повествующего с персонажем), что сближает его (цитирование) с ОЧС, но цитата включается в текст, организованный не фразеологической, а преимущественно пространственной и временной точками зрения, что характерно для НПР.
Кроме того, по утверждению Е. В. Падучевой, между цитированием и НПР есть и функциональные различия: «При цитировании возникает двухголосие: к голосу Я, который является законным владельцем речи, примешивается — незаконно с точки зрения идеальной грамматической модели — голос другого. Между тем НПР тяготеет к монологической интерпретации: голос другого (а именно, персонажа) имеет тенденцию полностью вытеснять голос Я (повествователя)» [Падучева 1996: 360].
Особо следует обратить внимание на явление «психологической интроспекции» [Манн 1992: 41], которое реализуется в формах внутренней речи, в передаче душевных состояний персонажей, в видении изображаемого глазами героя, сквозь призму его сознания, в НПР. «Психологическая интроспекция» охватывает и содержательно-субъектную и формально-субъектную организации текста. Мы же, говоря о «психологической интроспекции», в основном будем иметь в виду содержательно-субъектные формы, точнее: только такие повествовательный формы, которые организуются психологической точкой зрения.
Итак, с точки зрения субъектной организации повествовательный текст представляет собой структуру сложную и неоднородную. Рассматривая особенности построения повествовательной структуры, литературоведы и лингвисты предлагают различные типологии повествовательных форм и классификации субъектов повествования. Так, Б. О. Корман определял тип повествующего по степени его «незаметности» в тексте: субъект повествования тем ближе к автору, чем в большей степени он растворен в тексте и незаметен в нем. Но субъект сознания отдаляется от автора по мере того, как он становится объектом сознания, то есть «чем в большей степени субъект сознания становится определенной личностью со своим складом речи, характером, биографией, тем в меньшей степени он непосредственно выражает авторскую позицию» [Корман 1990: 18]. Исходя из этого, можно сказать, что ближе других субъектов сознания к автору оказывается повествователь, «незаметность» которого в тексте создается за счет исключения фразеологической точки зрения; со своими объектами он связан лишь пространственно-временными отношениями. Дальше же всех субъектов сознания от автора оказывается рассказчик, который является определенным не только в пространственно-временных отношениях к своим объектам, но и сам выступает как объект во фразеологической точке зрения. Между повествователем и рассказчиком существует множество промежуточных форм. В частности, Б. О. Корман выделяет «личного повествователя», который отличается от повествователя преимущественно названностью и обозначается личным местоимением первого лица единственного числа (я). Такой субъект повествования «совершенно открыто присутствует во всем тексте, непосредственно определяя собой для читателя и лексику, и синтаксис, и движение мысли» [Корман 1972: 34].
Соответственно двум главным типам субъекта повествования в «теории автора» выделяются две основные повествовательные формы: драматический эпос (по Бахтину — полифонический роман) и чистый эпос. В драматическом эпосе повествование организуется преимущественно образом рассказчика или рассказчика-героя; в чистом эпосе основной текст принадлежит повествователю или личному повествователю. Для драматического эпоса характерно преобладание содержательно-субъектной организации над формально-субъектной, что обеспечивается с помощью ОЧС. В чистом эпосе соотношение содержательно-субъектной с формально-субъектной организацией может быть различным: возможно преобладание формально-субъектной организации над содержательно-субъектной, но может быть и противоположная ситуация (в последнем случае такое соотношение, по мнению Б. О. Кормана, происходит за счет НПР).
Особый случай представляет лирическая повествовательная форма (Е. В. Падучева, по Б. О. Корману — лирический эпос или лирическая проза), которая характеризуется сочетанием эпической формально-субъектной организации и преобладающей прямо-оценочной точки зрения и имеет следующие конститутивные признаки: «при сохранении пространственной и временной точек зрения, обязательных для повествовательного текста, и фразеологической, характерной для речей героев, усилена роль прямо-оценочной» [Корман 1990: 22]. Повествование ведется от 1-го лица; субъекту повествования принадлежат все дейктические элементы (языковые средства, манифестирующие физическую определенность субъекта, которому они принадлежат и который, таким образом, является как бы началом системы координат, организующей ситуацию повествования) и все эгоцентрические элементы (языковые средства, отсылающие читателя к определенному субъекту речи или сознания). В лирическом эпосе сюжетная линия либо крайне редуцирована, либо — вовсе отсутствует. Действующих героев может и не быть, по крайней мере, они не являются основными объектами повествования; в центре внимания находятся мысли, чувства повествующего по поводу каких-либо событий, явлений или лиц.
Такая типология повествовательных форм дает лишь общее представление о возможных типах повествования. На наш взгляд, более сложные случаи (к которым относится и проза Л. Добычина) не могут быть описаны в таких общих категориях, как драматический эпос, чистый эпос и лирический эпос. Необходимо выделение дополнительных, промежуточных повествовательных форм (в частности — внутри чистого эпоса).
Первая повествовательная форма, которую мы здесь рассмотрим, в современной филологии определяется как традиционный нарратив (далее — ТН; по терминологии Ф. Штанцеля, «аукториальная» система повествования). В ТН, как отмечает Е. В. Падучева, «залогом композиционной целостности текста служит сознание повествователя» [Падучева 1996: 206]. Причем, по утверждению того же исследователя, принципиально важным оказывается то, что в «чистых» формах ТН повествователь как бы и не является субъектом речи, поскольку отсутствует ситуация рассказывания о событиях [Падучева 1996: 336], и перед читателем словно самораскрывается «внесловесная действительность». Повествующий в «аукториальной» ситуации отделен («дистанцирован») от всего происходящего и ведет повествование «с некой высшей точки зрения» (Ю. В. Манн), «он не имеет полноценного существования ни в каком мире — ни в вымышленном, которому принадлежат герои, ни в реальном, которому принадлежит автор» [Падучева 1996: 203]. Благодаря своей «вненаходимости» (М. М. Бахтин), пространственной, временной и фразеологической неопределенности (неопределимости) повествователь обладает «эпическим» всеведением относительно внешней и внутренней жизни героев и всего изображаемого мира. Все вышеперечисленные признаки являются конститутивными для ТН.
Однако в некоторых случаях заметен отход от такой «идеальной» обезличенности, формально безличный стиль оказывается выражением не авторского видения мира, но — субъективного, персонифицированного взгляда — так что повествующий помещается именно в фабульную действительность, изображаемый мир показывается «изнутри» — глазами одного из участников описываемых событий — глазами героя. В таком повествовании как правило отсутствует грамматический субъект; но в этом отсутствии как бы подразумевается, что субъект действия очевиден: им является сам говорящий, то есть эти повествовательные отрывки мы должны «приписать» определенному персонажу. Такую повествовательную форму мы будем называть нетрадиционным нарративом (НТН).
Еще одна повествовательная форма, «свободный косвенный дискурс» (Е. В. Падучева; далее — СКД), характеризуется тем, что, хотя текст формально и принадлежит повествователю, в сущности, повествователь как бы вытесняется персонажем, который захватывает эгоцентрические элементы языка в свое распоряжение. Эгоцентрическими элементами, или «эгоцентриками», в СКД являются НПР, отдельные модальные и оценочные слова, обращения, императивы, вопросы, дейктические элементы. Принципиальное отличие СКД от ТН, «которое и лежит в основе всех его художественных функций, состоит в отсутствии четких границ между сферами сознания разных субъектов — повествователя и персонажа, одного персонажа от другого» [Падучева 1996: 353]. Отличие же СКД от НТН — в том, что первому из них принадлежит определенный набор эгоцентриков, в то время как НТН обходится без таковых.
Промежуточной между НТН и СКД является персональная повествовательная форма (ППФ, Ю. В. Манн). Субъект повествования в «персональной ситуации» «не является участником действия, не говорит о себе и о своих отношениях с другими лицами, и в этом смысле он сходен с повествователем «аукториальной ситуации». Однако в противовес последнему он... исключая себя из романного мира, переносит точку зрения в один или последовательно в несколько персонажей (отсюда термин «персональный»)» [Манн 1992: 47]. Последнее замечание сближает ППФ с СКД, но есть здесь и принципиальное отличие: отношения между повествователем и героями в «персональной ситуации» организуются не фразеологической точкой зрения, как в СКД (через эгоцентрики), а преимущественно психологической. Сознание персонажей организует повествовательный текст (что выражается, например, в отборе материала, в характере и последовательности описаний, акцентировании внимания на тех или иных явлениях, событиях или предметах и т. д.), но слово остается за повествователем, он является единственным субъектом речи (повествования).
Итак, все рассмотренные нами повествовательные формы можно представить в виде следующей типологии, в основании которой лежит тип субъекта повествования, а повествовательные формы располагаются в порядке увеличения дистанции между субъектом повествования и автором: традиционный нарратив, нетрадиционный нарратив, персональная повествовательная форма, свободный косвенный дискурс; драматический эпос; лирический эпос. Данная типология учитывает как крайние, предельные состояния повествовательных форм (объективное слово повествователя и субъективное повествование рассказчика), так и переходные, промежуточные формы (неявное повествование персонажей).
Исходя из сказанного, мы можем говорить о субъектной организации произведения в целом (и на повествовательном, и на «пряморечевом» уровнях). В конечном же счете субъектная организация текста является субъектной формой выражения авторского сознания. Как мы уже говорили, авторская позиция определяется на пересечении (столкновении, взаимовлиянии, слиянии и т. д.) всех голосов в данном произведении.
Однако анализ субъектной организации не может дать полного представления об авторской концепции. Необходим анализ и внесубъектных форм выражения авторского сознания. Субъект сознания «не только там, где открыто говорит от своего имени или обозначает себя как действующее лицо, но и там, где устанавливает последовательность событий, расположенность или сменяемость фактов, обозначает появление или уход персонажа и т. д. — словом, всегда, когда он рассказывает. Образ автора (как повествователя) начинается в тот же момент, как начинается рассказ, и завершается только с окончанием последнего» [Манн 1992, 53—54]. То есть позиция автора определяется прежде всего последовательностью, логикой сцепления, сменой отрывков текста, принадлежащих разным субъектам речи и сознания (сюжетно-композиционная организация); кроме того, авторские акценты проявляются во всевозможных повторах, рефренах, в заголовке, эпиграфе, посвящении и т. д. Если же повествование ведется от лица рассказчика (и вообще — от первого лица), внесубъектные формы могут быть поделены между автором и повествующим. Мы не будем давать подробный анализ внесубъектных форм выражения авторского сознания. Детальное описание и систематизация «рамочных форм авторско-читательских контактов» (заголовок, эпиграф, посвящение, предисловие, жанровые обозначения, авторские примечания, начало и конец текста, цитаты, аллюзии и реминисценции) уже сделаны (см., напр.: [Строганов 2002: 124—130]).
Таким образом, очевидно, что постижение авторской позиции действительно оказывается проблемой, решить которую — без тщательного и всестороннего анализа произведения — порой оказывается вовсе невозможно (о чем свидетельствует судьба творчества Леонида Добычина).
Проблема автора оказалась в определенном смысле судьбоносной для самого Л. Добычина: его произведения были как бы непрочитанными, непонятыми и потому отвергнутыми современной Л. Добычину критикой. Отсюда — обвинения его в формализме, в «формалистском пустословии», «безразличии», «равнодушии», «объективизме», «фотографичности», «натурализме» и т. д. Вот типичный для критики того времени отзыв о романе «Город Эн»: «Неприятный, надуманный стиль расцветает на благодатной почве — натуралистически безразличной поданной семейной хронике рассказчика. Мать, знакомые, прислуга, товарищи «героя»: кто что сказал, кто и как по этому поводу был растроган, и так без конца повторяясь, без всякого отбора, без акцента, без всякого авторского отношения к людям, героям романа. Сатирическое разоблачение символического города Эн бесконтрольно передоверено герою, который годен лишь на то, чтобы самому быть объектом сатиры» [Поволоцкая 1936: 9]. Даже доброжелательный к Л. Добычину критик Н. Степанов писал о том, что добычинские рассказы «утверждают иллюзию объективности “случайных записей”» [Степанов 1927: 170], а в «Городе Эн» он видел «своеобразие Добычина в “авторском невмешательстве”» [Степанов 1936: 215].
Логика восприятия отдельных произведений и творчества Л. Добычина в целом — как враждебной ему критикой, так и почитателями его таланта — прослеживается достаточно ясно: «объективизм» — «формализм», или «тупик узкого эстетизма» (К. Федин) — «формалистское пустословие» (Е. Поволоцкая). А затем появились и более «смелые» обвинения — в «реакционности», в «черносотенстве», в «идейной чуждости» и «антисоветизме» (Подробнее об этом см. [Последние дни 1996: 25—27]). Однако очевидно, что не Л. Добычин боролся с Советской властью, а власть боролась с ним.
Интересно проследить, как у некоторых современников Л. Добчина с годами изменяется восприятие его произведений и как развеивается миф о 1 Везде, кроме специально оговоренных случаев, в цитатах курсив наш. некоем «объективизме» его творчества. Например, в воспоминаниях В. Каверина: «Принцип «отсутствия автора» доведен в произведениях Добычина до предела: к такому итогу пришли участники семинара. Это тот антипсихологизм, который как бы превращает писателя в простого регистратора фактов. Жизнь начинает говорить за себя — автор превращается в человека-невидимку.
Теперь, через много лет, перелистывая школьную тетрадь, содержащую заметки о работе моего семинара, я понял, что, усердно стремясь «разобрать» Добычина, мы его, в сущности, так и не прочитали. Мы не поняли, что обыкновенность и даже ничтожность его героев — это не «остранение», не «смещение», не «принцип рапорта» и не «поиски фабулы», а выражение человечности, ответственности всех за всех, идущее, может быть, от гоголевской «Шинели». И не «отсутствие автора», да еще доведенное до предела, характерно для Добычина. Автор — негодующий, иронизирующий, страдающий от пошлости одних, от бессознательной жестокости других — отчетливо виден на каждой странице» [Каверин 1977: 486].
Тем не менее, и в современном литературоведении порой можно встретить высказывания об объективизме стиля Добычина, о «психологической закрытости Добычина-прозаика и эпистолографа, выразившейся в отсутствии в прозе образа автора и создании духовно «полого» героя, лишенного той психологической глубины, которую скрывает внутри себя сам автор» [Золотоносов 1996: 62]. Исследователи также утверждают, что «подобного типа структура восходит к теории объективного метода, созданной и утвержденной на практике Флобером; исключение из повествования непосредственной точки зрения повествователя неизбежно ведет к изменению структуры повествования; изображаемый мир как бы выводится из сознания повествователя, как бы освобождается от субъективности и остается в своем объективном, величественном облике, предстает как зримый, извне, дистантно воспринятый, сфотографированный мир» [Федоров 1996: 70-71].
Часто, говоря об авторе в творчестве Л. Добычина, ставят в один ряд такие понятия и категории, как повествователь, автор и писатель («Л. Добычин»). Ср., например: «Точка зрения его (Л. Добычина. — С. К.) повествователя — это точка зрения жителя захолустья, его коренного обитателя. Писатель «не знает», «не чувствует» ничего сверх того, что доступно «маленькому человеку»» [Агеев 1990: 241]. Порой к тексту подходят с точки зрения наивного биографизма: «Итак — город Эн. Динабург — Двинск — ныне Даугавпилс. Повествует автор о своем детстве и гимназических годах, проведенных в этом городе» [Жилко 1996: 89]. Или: «Добычин написал автобиографическое произведение («Город Эн». — С. К.), в котором довел до определенной чистоты (с точки зрения поэтики) идею “нейтрального письма”» [Ерофеев 1996b: 195].
Впрочем, В. Ерофеев отмечает, что «позиция Добычина может сойти за изображение гримас нэпа, примелькавшееся в литературе «попутчиков» той поры, однако в этом маскараде автор видит нечто большее, чем гримасы. Его нарастающий конфликт со временем связан с “невозмутимостью” повествователя-наблюдателя, который, однако, с внутренним напряжением, завуалированным иронией, следит за процессом перерождения обывателя в “нового человека”» [Ерофеев 1996b: 190]. Кроме того, В. Ерофеев, на наш взгляд, точно уловил «мерцающий» принцип повествования в прозе Л. Добычина: «Сам же голос лирического героя не только отражает другие голоса, но и внутренне не стабилен. Он пронизан потаенной иронией автора <...> и эта ирония как бы убивает саму лирическую суть героя, но в то же время это очень «деликатное» убийство: в отличие от сказа, где герой саморазоблачается в языке, здесь создан эффект мерцающей иронии.
И как бы в ритме мерцающей иронии возникает образ мерцающего повествования. То автор делает шаг в сторону своего героя, и тот вдруг оживает в роли его автобиографического двойника, то отступает, не предупредив, порой превращается в механическую фигурку. Эти стилистические колебания отражают некую подспудную динамику самой жизни. При этом важно отметить, что ирония не находит своего разрешения. Возникает ощущение достаточно ироничной прозы, позволяющей понять отношение автора к описываемому миру, и достаточно нейтрального повествования, позволяющего этому миру самораскрыться. Если взять внетекстовую позицию Добычина, то видно, что автор и судит, и не судит эту жизнь: его метапозиция двойственна, поскольку он видит в этой жизни и некую норму, и ее отсутствие» [Ерофеев 1996b: 198]. Добавим, что этот принцип «мерцающего» повествования проявляется не только в романе «Город Эн», но и в рассказах, и — даже — в письмах Л. Добычина.
Очевидно, что в текстах с подобного рода «мерцающей» субъектной организацией особенно остро встает вопрос об авторском отношении к изображаемому, об авторской позиции. Однако работ, исследующих проблему автора в прозе Л. Добычина, крайне мало. Только в последние годы стали появляться статьи и даже диссертационная работа [Попова 2005b], посвященные различным аспектам нарратологической проблематики: [Абанкина 1996; Абанкина 1998; Каргашин 1996; Каргашин 1998; Маслов 2004; Маслов 2007; Петрова Г. 2001; Сухих 2000; Сухих 2003; Сухих 2004], все работы З. А. Поповой, статьи В. В. Эйдиновой. Заслуга этих авторов в том, что они делают скрупулезный анализ повествовательной структуры добычинских текстов, однако системный характер такой анализ приобретает лишь в диссертации [Попова 2005b]. Тем не менее, нельзя не отметить, что З. А. Попова, используя теоретический и методологический аппарат зарубежной нарратологии, чересчур формализует и «высушивает» добычинскую прозу: «…проза ЛД [Л. Добычина. — С. К.] представляет собой не осмысление реальности, но осмысление литературных моделей этой реальности. В частности, в творчестве ЛД осуществляется рефлексия по поводу способов письма и собственно по поводу возможностей создания литературного произведения на основе классических повествовательных схем» [Попова 2005a: 4]. Следуя этой логике, З. А. Попова целью своей диссертации определяет «не выявление особенностей персонажного/нарраторского сознания», но определение, «какие принципы определяют функционирование и взаимодействие повествовательных инстанций». Автор диссертации ведет отчаянную борьбу с любыми «психологическими категориями, то есть категориями не нарратологической природы» [Попова 2005a: 5]. Однако, как было показано выше, чтобы правильно и полно проанализировать и описать субъектную организацию текста, необходимо учитывать и психологическую точку зрения персонажей или повествователя, особенности психологии субъектов речи, а особенно — субъектов сознания. Кроме того, «нарратология как область теоретической рефлексии, развивавшаяся в рамках французского структурализма и продолженная учеными, работающими на пересечении лингвистики и литературоведения, ориентирована прежде всего на осмысление достижений западных модернистов». Поэтому «специфика добычинской повествовательной поэтики, которая видится нам именно в минимизации речевой интерференции, оказывается как бы вне компетенции традиционной нарратологии» [Маслов 2004: 107]. Но, отрицая возможность применения нарратологической методологии к прозе Л. Добычина, Б. Маслов считает недопустимым и бахтинский подход: «…наиболее продуктивным для понимания Добычинской поэтики повествования представляется не концепция речевой интерференции Волошинова/Бахтина, а гипотеза непересечения сфер речевого присутствия» [Маслов 2004: 116]. Однако Б. Маслов не смог вскрыть сложность и многогранность прозы Л. Добычина. Исследователь то утверждает, что «добычинское повествование построено так, как если бы этого повествователя-посредника, выбирающего и упорядочивающего чужие высказывания, не существовало»; то вдруг приходит к выводу, что «функции авторской речи оказываются переложены на дискурс героя, но сам повествователь сохраняет за собой положение распорядителя этого дискурса» [Маслов 2004: 110, 117]. А почему происходят эти и другие явления у Л. Добычина — не ясно.
В свете нашей проблемы заслуживают особого внимания работы [Каргашин 1996; Каргашин 1998], в которых последовательно развивается мысль о том, что повествование у Л. Добычина оказывается, как правило, не безличным авторским словом, но выражает точку зрения конкретного человека — одного из персонажей рассказа. Исследователь отмечает, что «в целом повествовательная система оказывается у Добычина неоднородной (совмещающей разнообразные типы повествования), причем не «безличное повествование» является ее стилевой основой» [Каргашин 1998: 377]. Анализ субъектной организации рассказов Л. Добычина обнаруживает, что повествователь в них то выполняет функцию наблюдателя, то выступает в роли субъекта дейксиса, то обнаруживает себя благодаря наличию в тексте элементов субъективной модальности. Особо рассматривается повествователь как субъект речи. Повествовательная речь «не удерживается» на уровне «нейтрального письма» и нередко включает в себя слово героя (экспрессивное, просторечное или — реже — диалектное). Кроме того, в некоторых случаях сознание героя «проникает» в повествовательный текст (иначе: сам повествователь проникает в сознание героев, то есть случаи «психологической интроспекции») в виде сравнений, ассоциаций, «апелляции к своим». «Действительность, изображенная в прозе Л. Добычина, как правило, подана автором как уже известная, как мир хорошо знакомый, то есть как «мир своих»», «подобный прием... рассчитан на запечатление событий как бы с точки зрения одного из героев — своего человека в изображаемом мире». Исходя из этого, делается вывод, что общий принцип добычинского письма — стремление воссоздать «картину мира» изнутри изображаемого. И более того, объектом исследования самого Л. Добычина является «индивидуальное человеческое сознание», которое в его рассказах предстает как «неразвитое сознание современного — «нового» человека» [Каргашин 1998: 382].
В своей работе эти и другие формы размытого повествования, смешения голосов мы рассматриваем как «гибридные конструкции» и разного рода «психологические интроспекции». Снятие с текстов Л. Добычина «проклятия объективизма» и открытие их сложной субъектной организации дает возможность для адекватного понимания творчества писателя.
Исходя из всего вышесказанного, целью нашей работы является исследование различных видов и форм «авторской активности» в произведениях Л. Добычина, а главной задачей, которую необходимо выполнить для достижения поставленной цели, — анализ субъектно-речевой организации текстов писателя. Кроме того, для выполнения этой задачи необходимо: — проанализировать субъектную организацию текстов Л. Добычина в специфике выражения точек зрении (пространственных, временных, фразеологических, психологических); исследовать ономастику и заглавия произведений Л. Добычина с позиций субъектно-речевой организации; — проанализировать формально-субъектную организацию текстов (особенности «говорящего субъекта» у Л. Добычина); — рассмотреть субъектно-объектные и субъектно-субъектные отношения (я и другой в прозе Добычина; автор — герой — читатель); — определить место добычинской прозы в русской литературе 1920— 1930-х гг.
Интерес к прозе Л. Добычина не ослабевает — причем не только у российского читателя. Проза писателя переводилась на немецкий, голландский, сербский, итальянский, английский, польский, румынский, латышский языки. Появляется множество публикаций, посвященных биографии и творчеству писателя. Всё это говорит о том, что требуется определенный системный подход к изучению наследия Л. Добычина и подчеркивает актуальность данного исследования.
В настоящем исследовании впервые применяется системно-субъектный метод ко всему корпусу прозы Л. Добычина (роман, повесть, рассказы и письма), чем определяется научная новизна диссертации.
Материалом для анализа является всё литературное наследие писателя, которым мы располагаем на данный момент.
Основным методом исследования, которым мы пользовались в нашей работе, является системно-субъектный метод Б. О. Кормана. Кроме того, как уже было сказано, терминологический и методологический аппарат работы был углублен и расширен трудами Б. А. Успенского, Ю. В. Манна и Е. В. Падучевой. В разработке научной базы использованы труды М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского, Н. А. Кожевниковой.
Научно-теоретическая значимость работы заключается в расширении терминологического и методологического аппарата Б. О. Кормана за счет включения некоторых недостающих звеньев из работ других исследователей. Кроме того, мы исследуем практически неизученное явление — примитивизм в литературе. Применение системно-субъектного метода к творчеству Л. И. Добычина позволяет воссоздать картину художественного мира писателя, вписать его в контекст русской литературы 1920—1930-х гг. Результаты данной работы могут быть использованы при дальнейшем исследовании творчества Л. Добычина и преподавании русской литературы и культуры 1920—1930-х гг. в общих и специальных курсах. В этом ее практическая значимость.
Поставленные задачи и указанный метод исследования определяют структуру работы. Во Введении обосновываются актуальность и научная новизна работы, формулируются цель и задачи исследования, определяются его теоретический и методологический аппарат. В Главе 1 анализируется субъектно-речевая организация прозы Л. Добычина: ее содержательно-субъектная сторона (система точек зрения), заголовок с точки зрения субъектно-речевой организации, формально-субъектная сторона (говорящий субъект), а также субъектные отношения (я и другой, проблема читателя).
Рассматривая прозаическую систему Л. Добычина, особого внимания заслуживает рассказ «Портрет», давший название целому — итоговому — сборнику рассказов писателя. Рассказ, послуживший экспериментаторской площадкой для создания романа «Город Эн». Единственный опубликованный рассказ, имеющий перволичную повествовательную форму, таким образом связывает воедино рассказы и роман Л. Добычина.
В Главе 2 творчество Л. Добычина рассматривается в контексте русской литературы 1920—1930-х гг., анализируется лексический уровень текстов Л. Добычина. В центре его художественной вселенной оказывается слово, слова, словечки, вокруг которых и раскручиваются крохотные добычинские истории, складывающиеся иногда в роман или повесть. Слово у Л. Добычина часто маркируется (отсюда — обилие кавычек, ударений, абзацное выделение, контекстное остранение, метризация и проч.); исследуется поэтика примитивизма в литературе, ее место в творчестве Л. Добычина, особенности «детского текста» в романе «Город Эн» и соотношение последнего с «повестями о детстве». В Заключении формулируются выводы исследования.
Научные результаты нашего исследования с достаточной полнотой отражены в шестнадцати публикациях общим объемом 7 п.л.: «Б. Зайцев и Л. Добычин»; «Л. Добычин и поэтика примитивизма»; «Поэтика маркированного слова в прозе Леонида Добычина»; «Рассказ “Портрет” в прозаической системе Л. Добычина»; «”Точка зрения” у Л. Добычина: проблема соотношения личного и безличного начал в прозе писателя»; «Отрезанная голова Али-Вали, или Говорящий субъект у Л. Добычина»; «Заглавия произведений Л. Добычина с точки зрения субъектно-речевой организации»; «”Словоцентризм” Л. Добычина»; «Центоны из Л. Добычина»; [Рец.:] Голубева Э. С. Писатель Леонид Добычин и Брянск. Брянск, 2005; «Детский взгляд или взгляд на детство: “Город Эн” Л. Добычина и “Детство” Соколова-Микитова»; «Особенности субъектно-речевой организации повествовательного текста в “Детстве” И. С. Соколова-Микитова и “Городе
Эн” Л. И. Добычина»; «Я и другой в прозе Л. Добычина: Постановка проблемы»; «Проблема читателя в прозе Л. Добычина»; «Проблема автора в литературе о Л. Добычине» (В печати); «В поисках утраченного автора (по материалам литературы о писателе Л. Добычине)» (В печати).
Основные положения и результаты, полученные нами, обсуждались на заседаниях кафедры истории русской литературы Тверского государственного университета. Апробация результатов исследования осуществлена в форме сообщений по различным аспектам диссертации на научных конференциях: 1) Вторые Международные Зайцевские чтения. Калуга. 2000; 2) Культура российской провинции: век XX – XXI веку. Всероссийская научно-практическая конференция. Калуга. 2000; 3) Актуальные проблемы современного литературоведения: Межвузовская научная конференция. Москва. МГОПУ. 2000; 4) Шестые Добычинские чтения. Даугавпилс. 2000; 5) Актуальные проблемы современного литературоведения: Межвузовская научная конференция. Москва. МГОПУ. 2001; 6) XVI Тверская межвузовская конференция ученых-филологов и школьных учителей. Тверь. 2002; 7) 1-я Международная конференция «Русское литературоведение в новом тысячелетии». Москва. МГОПУ. 2002; 8) Восьмые Добычинские чтения. Даугавпилс. 2005; 9) Всероссийская научная конференция, посвященная 115-й годовщине со дня рождения И. С. Соколова-Микитова. Тверь. 2007; 10) Всероссийская научно-практическая конференция «Калуга на литературной карте России». Калуга. 2007.
Основные положения, выносимые на защиту:
Л. Добычин в текстах с экзегетическим нарратором использует различные повествовательные формы (традиционный нарратив, нетрадиционный нарратив, свободный косвенный дискурс, персональное повествование), которые сменяют друг друга, таким образом меняя точку зрения, с которой читателю предстоит воспринимать происходящие события.
В рассказах Л. Добычина наблюдается перекрытие традиционных зон автора зонами персонажей, размытие текста повествователя словом героя, так что создается иллюзия, что повествование ведется голосом какого-либо персонажа.
Рассказ «Портрет» является экспериментальной площадкой для Л. Добычина, где он впервые использует диегетического нарратора, присутствие которого, однако, ограничилось только названностью, перволичной определенностью, существенно не изменив основных принципов повествования в малой прозе Л. Добычина. «Портрет» связывает рассказы и роман «Город Эн» в единую прозаическую систему.
В романе «Город Эн» диегетический нарратор, его рассуждения и переживания, его мировоззрение оказываются в центре нашего внимания. Однако мы имеем дело не с лирической прозой. Автобиографичность — периферийное свойство романа, Л. Добычин не ставил своей целью написать книгу о своем детстве. Скорее это история о детских годах некоего ребенка, родившегося в конце XIX столетия в некоем русском провинциальном городке, и эта история изложена самим подростком.
Писатель осваивает эстетику примитивизма на литературной почве. Он создает особого нарратора, принадлежащего так называемой «третьей культуре» — промежуточному звену между «классическими образцами» и обывательской, нелитературной средой.
Субъектно-речевая организация заглавий Л. Добычина
Выбрать «правильное», единственно верное, точное заглавие для своего творения — задача для автора наиважнейшая, ибо традиционно заголовок считается зоной автора и одной из сильных позиций текста. В таком заголовке должны сходиться всевозможные авторские интенции, обнаруживающие себя в самм тексте, а с другой стороны — заголовок, в свою очередь, сам как бы высвечивает и помогает обнаружить эти интенции. Очевидно, что анализ этого уровня текстов является одним из наиболее важных элементов общего анализа отдельного художественного произведения и творчества писателя в целом. Исследуя работу писателя над заглавиями своих произведений, мы можем проследить, как формировалась, оттачивалась, выкристаллизовывалась авторская концепция. Заглавия произведений Л. Добычина рождались, видимо, в его письмах. Здесь мы встречаем названия как не дошедших до нас рассказов [ПССП: 260; 279], так и набросков, отдельные элементы которых, образные или сюжетные, можно теперь найти в законченных текстах. Интересна, в этом смысле, судьба рассказа «Дориан Грей» (1931), который в первой редакции назывался «Сорокина» (1926), а в последней редакции уже просто «Дориан» (1933). В 1925 г. Добычин писал М. Слонимскому: «Я затеваю Сочинение об отъезжающей из города девице — ей приходят в голову разные штуки и прочее» [ПССП: 274]. Позже Добычин сообщает тому же адресату: «У меня готово около половины отъезжающей девицы, и, может быть, к поездке удастся ее кончить» [ПССП: 276]. И вот последнее сообщение на эту тему: «Для книжки я сделал вот что: приготовил всё, что Вы от меня в разное время получали, и сочинил Сорокину (она уже не отъезжающая, ибо никуда не едет и не собирается)» [ПССП: 276].
Уже из этих примеров видно, что одним из способов номинации собственных (и не только собственных) текстов является метонимический перенос имя главного героя название текста : «Мне жаль, что нельзя напечатать Катерину Александровну. Из всего, что я писал, я ее больше всего люблю» [ПССП: 250]; «Может быть, Вы посмотрите, как теперь выглядит Лешка» [ПССП: 291] (здесь имеется в виду рассказ «Лешка). О рассказе «Савкина», в который Л. Добычин вносил много поправок, автор пишет М. Слонимскому: «Если Вы Савкину примете, то очень прошу это исправить (и обещаю больше про Савкину не писать Вам ни слова. Поверьте)» [ПССП: 273].
Еще один вид метонимического переноса, который использует Л. Добычин для номинации своих произведений, — имя автора название текста : «Вечером я видел поэтическую сцену на завалинке: молодые люди собрались над книжкой — Лермонтов с картинками…» [ПССП: 307—308]. Этот вид переноса активно используется у Добычина в романе «Город Эн»: «Ты читал книгу “Чехов”? — краснея, наконец спросила она» [ПССП: 137]; «Два раза уже я прочел “Достоевского”» [ПССП: 149]; «Как демон из книги “М. Лермонтов”, я был — один» [ПССП: 157]. Необходимо отметить, что такие «заголовки» книгам придумывает не автор, а герой. Это он, главный герой, берет книгу в руки, видит на обложке имя ее создателя — и называет книгу этим именем. Герою как будто неважно, какое именно произведение того или иного писателя он читает. Он в своем «отчете» фиксирует: «Два раза уже я прочел “Достоевского”», не две разных книги Достоевского, а два раза — «книгу “Достоевский”». Одной такой книги для нашего героя вполне достаточно, чтобы потом своим собеседникам говорить, что он «читал Достоевского (Лермонтова / Чехова / Тургенева / Гоголя и т.д.)».
Часто Добычин в письмах, называя свои произведения, дает им не столько имена (постоянные, неизменные), сколько «прозвища», в которых сам еще не уверен, но они, как правило, приживаются и становятся заглавиями. Например, так рождалось название рассказа «Савкина»: «Савкина Вам кланяется. Это особа из моего нового рассказа» [ПССП: 272]; «Савкину я пошлю Вам двенадцатого. Заглавия у нее нет …» [ПССП: 272].
Заглавиям произведений Добычина свойственны точность, конкретность, можно сказать, предметность. Так, Добычин, увидев в анонсе «Русского современника» (1925, № 4), что его рассказ «Козлова» был назван «Учительницей», пишет К. И. Чуковскому: «Многоуважаемый Корней Иванович, явите милость, отмените “Учительницу”, ибо она не “учительница” — что-то постное и, кроме того, с претензией на обобщение — лучше не называть, в каком департаменте» [ПССП: 253]. Не нравятся Добычину отвлеченные названия и у других писателей: «По объявлениям о выпускаемых Начальниками журналах я вижу, что дела С.-Ценского поправляются: там и отрывок из романа “Пробуждение” и повесть “Жестокость”. Для заглавий он любит отвлеченные слова» [ПССП: 266]. Такое отношение к заглавиям роднит Л. Добычина с А. П. Чеховым, который «нещадно боролся с претенциозными заглавиями … , предлагая давать такие, которые бы “ничего не обещали”» [Ковсан 2007: 62]. Возможно, исходя из этих соображений, Л. Добычин отвергает и предложенное Ю. Н. Тыняновым название второго (и последнего) сборника своих рассказов — «Пожалуйста»: «…мне оно не нравится. Если уж название на “п”, то я назвал бы ПУАНКАРЕ (есть такое место в книжке: Пуанкре, получи по харе)» [ПССП: 305]. Пытаясь выйти на более широкую дорогу, Добычин предлагает: «В конце концов я думаю, что не назвать ли ее скромно “Хиромантией”» [ПССП: 306]. Однако это название, вероятно, не устроило Добычина своей отвлеченностью, и в итоге был найден компромисс: сборнику было дано имя одного из рассказов (метонимический принцип) — «Портрет»: «Мне название очень интересно, потому что, может быть, это собрание сочинений и последнее…» [ПССП: 310]. О смысле названия этого сборника мы будем говорить ниже.
Стремление к точности, конкретности в заглавиях выражается у Добычина и в их предельной краткости — чаще всего они однословны. При этом «рассказы Добычина в основном названы по имени или фамилии героев: “Козлова”, “Ерыгин”, “Савкина”, “Лидия”, “Сорокина”, “Лешка”, “Конопатчикова” — таков почти полный состав первой книжки Добычина “Встречи с Лиз”» [Ерофеев 1989b: 7]. Вынесение в заглавие произведения имени или фамилии (или и того и другой) главного героя является вполне традиционным явлением в мировой литературе: «Гамлет», «Фауст», «Рудин», «Обломов», «Евгений Онегин», «Анна Каренина» и т. д. С одной стороны, автор таким образом указывает на то, что герой, имя которого вынесено в заголовок произведения, является главным объектом повествования. В этом проявляется указующий перст автора.
Рассказ «Портрет» в прозаической системе Л. Добычина
Исследователи не раз обращали внимание на особое место рассказа «Портрет» в прозаической системе Л. Добычина: [Лощилов 2005b, Мекш 1996a, Мекш 1998b, Попова 2005c]. Заглавие рассказа послужило названием и всего сборника, о котором сам писатель говорил, что ему это «название очень интересно, потому что, может быть, это собрание сочинений и последнее» [ПССП: 310]. Сборник «Портрет» (1931) действительно оказался последним собранием рассказов Добычина, составленным самим автором и опубликованным при его жизни, вобрав в себя при этом и рассказы ранее вышедшего сборника «Встречи с Лиз» (1927). Таким образом, вторым своим сборником Добычин как бы подводил итоги своего творчества. С другой стороны, рассказ «Портрет», дав название всему сборнику, благодаря этому оказывается в центре читательского и исследовательского внимания. Кроме того, нужно сказать, что благодаря своему заглавию рассказ Добычина оказывается на перекрестке мировой литературы: с одной стороны, он апеллирует к русской классической литературе («Портрет» Гоголя), с другой — к зарубежной («Портрет художника в юности» Д. Джойса; «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда).
Более того, рассказ «Портрет» оказывается и как бы центром добычинской прозы, которую можно рассматривать именно как прозаическую систему, что пытались сделать еще современники писателя. Например, В. А. Каверин говорил о сборнике «Встречи с Лиз» как о «цикле рассказов» [ПССП: 302]. Некоторые современные исследователи также говорят либо о циклах рассказов [Новикова 1996a: 249], либо даже о «сверхтекстовом единстве» [Неминущий 1996b: 255] у Добычина. И эти характеристики небезосновательны, так как вся малая проза Добычина объединяется рядом параметров: общностью жанра, идейно-тематической общностью и общностью персонажей: «Добычин был писателем одной темы»; «у Добычина “взаимозаменяемые” персонажи» [Ерофеев 1996а: 51, 52]. Если же мы обнаруживаем в этой системе некий центр (как в сборнике «Портрет» — одноименный рассказ), то, анализируя его и его взаимосвязь с другими элементами системы, мы получаем возможность постичь эту систему изнутри.
Тем не менее, начнем с отличий. Рассказ «Портрет» является одним из немногих произведений Добычина, в котором повествование ведется от первого лица. Это формально выделяет его из ряда остальных рассказов, но одновременно сближает его с романом «Город Эн», в котором используется так же форма повествования от первого лица, что позволяет назвать этот рассказ «эскизом, подготовкой к роману» [Ерофеев 1989b: 9]. Однако эта мысль требует уточнения. Действительно, и в «Портрете», и в «Городе Эн» рассказывание ведется от первого лица. Но общая перволичная повествовательная форма (Ich-Erzlung), тем не менее, не свидетельствует об одинаковом типе и функции я повествующего. Личность главной героини рассказа «Портрет», ее мысли, чувства, воспоминания, мечты, ее речь не являются центральным объектом читательского внимания. Героиня не рефлексирует, она говорит не о себе, а о других. Ее личность оказывается на одной плоскости с другими персонажами, которые часто даже заслоняют собой я повествующего субъекта, в отличие от «Города Эн», где рассказчик, напротив, оказывается на первом плане. Кроме того, в «Портрете» необходимо обратить внимание на то, что некоторые описания здесь поданы как бы в безличном стиле, являясь фиксацией «внесловесной действительности» (М. М. Бахтин), и не несут на себе отпечатка сознания повествующей: «Стояли церкви. Улицы спускались и взбирались. Старики сидели на завалинках. Сверкали капельки и, шлепаясь о плечи, разбрызгивались» [ПССП: 97]. Ср., напр., в «Сиделке»: «Спускалось солнце. Церкви розовелись. Шаги стучали по замерзшей глине» [ПССП: 83]. В обоих случаях перед нами есть увиденное, но нет видящего. Ни сознание видящего, ни его слово никак не окрашивают изображаемое в личностные (субъективные) тона. Вырванные из текста подобные цитаты невозможно однозначно отнести к какому-либо конкретному рассказу Добычина — они могут быть в любом его рассказе; и тем более нельзя сказать, что подобные описания принадлежат рассказу от первого лица.
С другой стороны, повествовательный текст в «Портрете» часто включает в себя экспрессивно-оценочную лексику: «Старушенции шептались» [ПССП: 97]; «Выгнув бок, костлявая Иванова в красной шляпе поздоровалась со мной» [ПССП: 99]; «Бензином завоняло» [ПССП: 100]. В повествовании от первого лица такие фразы вполне уместны, однако, как мы уже выяснили раньше, подобные фразы наиболее часто встречаются у Добычина именно в произведениях с повествованием от третьего лица: «Старуха Грызлова прогуливалась — в пелерине» («Дориан Грей») [ПССП: 80]; «Воняло табачищем и кислятиной» («Савкина») [ПССП: 65]; «Ругали дурищу Суслову» («Козлова») [ПССП: 53]. Как видим, субъективная точка зрения здесь проникает в чужую сферу, туда, где ее не должно было бы быть, ибо субъект повествования формально отсутствует.
Сопоставляя отдельные элементы поэтики «Портрета» и остальных рассказов Добычина, мы обнаруживаем подобную же ситуацию. С одной стороны, то, что уместно в повествовании от первого лица, Добычин использует в рассказах с третьим лицом; а с другой стороны, в «Портрете» часто нет того, что мы вправе ожидать от повествования от первого лица. Кроме того, повествовательная фраза (формально — слово героини) в «Портрете» часто строится по тому же шаблону, что и повествовательная фраза в других рассказах:
Особое место в поэтике «Портрета» (и в поэтике рассказов в целом) занимают повторы отдельных элементов: образов, мотивов, фраз, слов, звуков. Рассказ «Портрет» в этом смысле является замечательным примером. Уже в самом начале его дается установка на повторяемость: «Как всегда, придя с колодца, я застала во дворе хозяина» [ПССП: 97]. Конструкция «как всегда» повторяется в рассказе восемь раз, так что и всё происходящее в нем воспринимается как обычное, привычное. Кроме того, в половине случаев эта фраза занимает анафорическую позицию, что задает определенный ритм, который усиливает ощущение всеповторяемости.
«Литературные соседи» Л. Добычина (М. Зощенко, К. Вагинов и др.)
В 1920—1930-х гг. оттесненный на край литературной жизни модернизм объективно становится творцом подлинных художественных ценностей мирового значения, в отличие от официального, социально ангажированного искусства. Однако в литературном процессе обнаруживается третья сила, которая получила в научной литературе множество разнообразных обозначений: «странная проза», «вторая проза», «проза эн», «частные мыслители», поставангард и т. п. Корпус этой прозы достаточно подвижен, некоторые исследователи относят к ней Д. Хармса и А. Платонова, другие С. Кржижановского и М. Козырева, но неизменно называются имена К. Вагинова и Л. Добычина» [Шеховцова 2006b: 131— 132]. Добычина вписывают «в ленинградский авангардистский резерват конца двадцатых годов, … где основополагающий принцип авангардистской литературы — принцип переоценки — входит в свою завершающую, самую артистичную фазу» [Угрешич 1996: 281]. Считается, что «как никакая другая, проза Хармса, Вагинова и близкого к ним Добычина представляет собою тексты, созданные в иронической схватке не только с классической традицией, но и с самим модернизмом» [Московская 1999: 50].
Взаимоотношения Л. Добычина и русской литературы 1920—1930-х гг. складывались непросто. Оценки этих взаимоотношений давались различные. С самого начала, как только были напечатаны первые рассказы Л. Добычина, а затем с появлением каждой его книги, а особенно в процессе так называемых дискуссий по поводу его романа «Город Эн» современники писателя пытались определить его место в литературном процессе. И варианты ответов были самые разные.
Точка зрения В. А. Каверина: «Почему в литературе тех лет его место — пусть небольшое — считалось особенным, отдельным? Потому что у него не было ни соседей, ни учителей, ни учеников. Он никого не напоминал. Он был сам по себе. Он существовал в литературе — да и не только в литературе, — ничего не требуя, ни на что не рассчитывая, не оглядываясь по сторонам и не боясь оступиться» [Каверин 1982: 90].
Оригинальность Л. Добычина и его непохожесть ни на кого признавали и во вражеском лагере, то есть те, кто громил его роман в 1936 г.: «Конечно, если сравнить «Город Эн» с тем, что делает большинство советских писателей, можно сказать: так еще никто из них не писал! Но если вдуматься в эту добычинскую «новизну», станет ясно: это не искусство в том большом смысле, который мы в это слово вкладываем, — это игра в литературные бирюльки, без всякого чувства ответственности перед читателем. Литература для читателя превращена здесь в литературу для самого себя» [Штейнман 1936a: 2; курсив автора статьи]. И далее — почти «по-каверински»: «У Добычина нет последователей» [Штейнман 1936b: 3].
И. Серман, одним из первых начавший процесс воскрешения Л. Добычина, его возвращения к читателю, тоже настаивал на том, что перед читателем предстает писатель исключительный, оригинальный и ни на кого не похожий: «Его писательство было настолько не похоже на все, что делалось в литературе с середины тридцатых годов, у него было такое необщее выражение лица, что в официально признанной литературе с ним нечего было делать» [Серман 1983: 12]. И далее: «Он пришел в ленинградскую литературную жизнь 20-х годов с произведениями, удивившими тех, кого, казалось, уже ничем нельзя было удивить. Оригинальность литературной позиции Добычина поражала всех» [Серман 1983: 12]. Переходя от общих, вкусовых утверждений к аналитическим умозаключениям, современное добычиноведение нередко приходит к каверинскому выводу: «В стилистическом плане проза Л. Добычина представляет собой уникальное явление в советской литературе 20—30-х годов, не похожее ни на традиционное реалистическое письмо, ни на популярные в то время орнаментально-сказовые формы, ни на интеллектуальную ироническую прозу тыняновского типа» [Щеглов 1993: 27]; «Добычин не ассоциировался ни с какой из влиятельных школ и группировок того времени»; «Добычин был одиночкой, провинциалом, обладал упрямым, замкнутым характером, держался в стороне от литературного истеблишмента и писал в манере, советскому читателю в общем непривычной, хотя и понятной в более широкой перспективе искусства XX века (в частности, в свете таких фигур, как Хлебников или Джойс)» [Щеглов 1993: 25].
Однако не все видели в Л. Добычине «уникальное литературное явление». Существовала и противоположная точка зрения. Н. Я. Берковский по поводу добычинского романа «Город Эн» категорично заявлял: «Дело всё в том, что у него тема, содержание не работают. Они ему подарены. Он их получил в подарок от старой литературной традиции и ему ничего не остается, как вот этот подаренный материал оформлять. Конечно, ни в коей мере Добычин не новатор, это стилизатор» [Берковский 1936: 2]. Другой критик увидел в романе Л. Добычина лишь «подражательное позерство» [Герзон 1936: 215].
Но такие высказывания были продиктованы скорее официальной установкой ругать автора и его творение, нежели желанием понять и дать объективную оценку и «Городу Эн», и его создателю. Ср. письмо Л. Добычина М. Л. Слонимскому от 9 февраля 1936 г.: «Вчера вечером Коля Степанов сообщил мне по телефону, что ему только что позвонил Лозинский и объявил, что вычеркивает из сделанной Колей Степановым рецензии (для «Литерат. Соврем.») на «Город Эн» все похвальные места, так как имеется постановление бюро секции критиков эту книжку только ругать» [ПССП: 321—322]. Хотя подобные попытки (то есть собственно здоровая литературная критика) изначально предпринимались, но вскоре были задушены и отвергнуты как «политически неверный подход к проблеме», превратившись в политический процесс, а проще говоря, травлю и расправу.
Детский взгляд или взгляд на детство: Л. Добычин и И. С. Соколов-Микитов
Здесь мы рассмотрим некоторые особенности «детского текста», точнее, автобиографических повестей о детстве — с точки зрения субъектно-речевой организации. Объектом нашего исследования будут «Город Эн» Л. Добычина и «Детство» И. С. Соколова-Микитова.
Добычин и Соколов-Микитов были далеки друг от друга настолько, что возникает ощущение, что эти писатели жили на разных планетах и даже писали на разных языках. Трудно себе представить, что кто-нибудь из них мог читать прозу другого. Однако это было вполне возможно. Ведь они жили в одно и то же время и в одной и той же стране (не берем в расчет странствия Соколова-Микитова). Даже вращались порой в одних и тех же литературных кругах (например, и тот и другой общались с К. Фединым, с Серапионовыми братьями и др.). Они были почти ровесниками с разницей в два года.
Старший, Соколов-Микитов, и писать начал несколько раньше, в 1910-е гг., а Добычин — в начале 1920-х гг. А произведения, о которых пойдет здесь речь, были написаны и увидели свет примерно в одно время: «Детство» — в 1930-м, а «Город Эн» — в 1935-м (хотя последний задумывался еще в двадцатых). Оба автора сами весьма высоко оценивали те свои произведения, которые мы здесь рассматриваем. Добычин считал «Город Эн» произведением европейского значения. А Соколов-Микитов даже обижался, если на свой вопрос читателям, какое его произведение больше им понравилось, не слышал в ответ — «Детство»…
И добычинский, и соколовский тексты представляют собой так называемые автобиографические произведения о детстве (с различной степенью выраженности этой самой автобиографичности, о чем будет отдельно сказано). И в «Детстве» и в «Городе Эн» описывается примерно одно и то же время: перед нами предстает русская дореволюционная провинция. Повествование и в том и в другом произведении идет от первого лица. Но здесь и начинаются существенные различия. Именно в этих произведениях особенно видны принципиальные различия писателей, ибо берут они тему одну: свое детство, а в итоге получились тексты далекие друг от друга.
Первое слово повести Соколова-Микитова «Детство» — это местоимение я: «Я не могу определить, сон или явь это: на коленях матери я сижу у открытого окна, теплого от высокого летнего солнца» [Соколов-Микитов 1970: 19]. В одном предложении дважды употребляется местоимение я: в первом случае это местоимение называет того, кто рассказывает, кто «не может определить, сон или явь», а во втором случае местоимение я называет того, о ком рассказывается, кто сидит (точнее, когда-то давно сидел) на коленях матери. Итак, позиции определяются уже в самом первом предложении повести: есть субъект речи, повествующее я, рассказчик и есть объект повествования, то же я в далеком прошлом. Повествователь обозначает временную дистанцию между моментом повествования и детскими годами.
В тексте часто встречаются слова помнится, помню, вспоминаю, запомнил и другие указатели временных координат: «Памятны пахнувшие хлебом, овчиною деревенские приятели-ребятишки, в одних холщовых рубашках вываливавшие с крыльца на снег... Добрую память оставил учитель Петр Ананьич … Помню, как усаживал он меня за парту ... И весь этот школьный деревенский период детства остался как далекое, почти исчезнувшее воспоминание» [Соколов-Микитов 1970: 57].
Несмотря на временную дистанцию между я в настоящем и я в прошлом, неизбежно возникающую в тексте воспоминаний, сам повествователь утверждает, подчеркивает, что между тем, кем он был, и тем, кем он стал, нет психологической границы, отделяющей черты — он всё тот же, он един: я-ребенок и я-взрослый — это единое я: «Я смотрю на сохранившуюся уже пожелтевшую фотографию, где на березовом бутафорском пне сидит, подобрав в башмачках ноги, одетый девочкой мальчик. Глаза его печальны. Что, какая черта отделяет меня — нынешнего — от мальчика с перекрещенными пальчиками маленьких рук? Я не нахожу такой черты. Но знаю, что будет жить во мне, в каждом моем слове, до последних моих дней мальчик Ваня с печальными глазами, некогда смешно говоривший:
Буду генералом, потом офицером, потом солдатом, потом Пронькой-пастухом!..» [Соколов-Микитов 1970: 22]. В данном примере второе я, то есть я-объект заменяется на более отстраненный, более объективированный (уже с грамматической точки зрения) образ — на «мальчика с перекрещенными пальчиками маленьких рук». Это уже не я, а он. Автор-повествователь вообще пытается быть объективным в своем повествовании, пытается отстраниться, дистанцироваться от того, о чем он рассказывает, выстраивая эпическую панораму: вот что было, вот как было, вот как стало и т. п.
Субъект повествования обращается и ко времени, предшествовавшему его рождению, например, к детским годам его матери и отца. Но и здесь, где нельзя апеллировать к своей памяти, повествователь всё равно стремится быть объективным: он обязательно указывает на тот источник информации, благодаря которому ему стало известно то, чему он сам не был очевидцем, что выходит за рамки его прошлого, его воспоминаний. Например: «Бывало, еще до света накинешь шубейку на одно плечо, да так и носишься весь день по хозяйству, — рассказывала о своей молодости мать» [Соколов-Микитов 1970: 27]; «Уже подрастая, от окружающих меня близких людей я узнал, как поженились мои мать и отец, как сошлись, неразрывно сомкнулись в один путь их жизненные пути» [Соколов-Микитов 1970: 28]; «Детство отца, о котором он сам рассказывал мне в наши таинственные вечера, казалось мне сказкой» [Соколов-Микитов 1970: 53]. Повествователь у Соколова-Микитова стремится донести до читателя всё как было, подкрепляя свои воспоминания фактами и ссылками на источники.
Как утверждают исследователи жизни и творчества Соколова-Микитова, его «главная художническая черта — писать о том, что самим обжито, вошло в душу, согрело сердце» [Рыленков 1970: 499]; «Творчество И. С. Соколова-Микитова глубоко автобиографично, потому что всегда и обо всем он рассказывал, как очевидец и участник тех или иных событий» [Жехова 1984: 398]. С одной стороны, Соколов-Микитов словно стремится к эпичности, широкими мазками рисуя картину прошлого, часто манифестируя свою теперешнюю дистанцированность от того времени: «Удивительными кажутся мне эти, теперь уже далекие, времена, когда с такой легкостью наживались купеческие миллионы на спинах доверчивых мужиков; сказочными показываются и самые смоленские мужики, за полторы красных (то есть всего за пятнадцать целковых, получаемых от хозяйских приказчиков после сплава леса) всю весну по уши купавшиеся в ледяной воде, своими горбами умножавшие купеческие капиталы» [Соколов-Микитов 1970: 23].