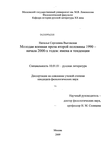Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Абсурд реальности (онтологический абсурд). Художественные средства выражения абсурда 61
. 1 Повесть «Где сходилось небо с холмами» (1974). Абсурд как энтропия материи и духа. Поэтика художественного времени 61
1.1 Биографическое время героя (фабульное время) 62
1.2 Ретроспективное время как парадоксы сознания героя 69
1.3 Время реальности и образы реального времени 72
1.4 Сюжет и фабула 79
2. Повесть «Утрата» (1987). Открытие абсурда социальной, эмпирической и метафизической реальностей. Пространственная картина мира. Фабульный синкретизм. Сюжет как исследование разных моделей существования в реальности 86
2.1 «Сюжет Пекалова» в аспекте жития и легенды. Модель социальной реальности, создаваемая массовым сознанием. Семантика пространства...89
2.2 «Сюжет лирического героя». Экзистенциальная реальность. Поэтика смещенной реальности 102
2.3 «Сюжет сорокалетнего». Природная реальность. Пространственная модель мира 110
3. Повесть «Лаз» (1991). Абсурд эмпирической реальности и абсурд культуры. Семантика художественного пространства 118
3.1 Художественное пространство «нижнего» города - переосмысление вертикальной семантики 119
3.2 Культурные аллюзии 125
3.3 Художественное пространство «верхнего» города - горизонтальная организация эмпирической реальности 130
3.4 Связь пространств как проблема связи разных реальностей 134
Глава 2. Абсурд сознания (гносеологический абсурд) и способы его воплощения 142
1. Повесть «Предтеча» (1982). Сюжетостроение. Субъектная организация 142
1.1 Сюжет самопознания («Тупики» сознания персонажа) 144
1.2 Сюжет сознания «другого» (процесс смены релятивных ценностей) 154
1.3 Система персонажей как типология современного социального сознания 162
1.4 Организация повествования и авторская позиция 165
2. Повесть «Отставший» (1987). Процесс познания и жизненный процесс. Мотивная организация 177
2.1 Ситуация «отставания» и варианты сюжетов «запаздывающего» познания 179
2.2 Мотив сна-отставания в «сюжете отца». Система сюжетных параллелей 182
2.3 Ситуация «отставания» и тема «страха» в «сюжете Леши-маленького» 189
2.4 Ситуация «отставания» в «сюжете Геннадия». Семантика пространства и времени 198
3. Повесть «Долог наш путь» (1991). Сюжет реальности и сюжет сознания 203
3.1 Образ реальности. Сюжет открытия онтологической противоречивости реальности 204
3.2 Сюжет пересочинения реальности 206
3.3 Культурные аллюзии 212
Заключение 223
Список использованной литературы
- Ретроспективное время как парадоксы сознания героя
- «Сюжет сорокалетнего». Природная реальность. Пространственная модель мира
- Сюжет самопознания («Тупики» сознания персонажа)
- Мотив сна-отставания в «сюжете отца». Система сюжетных параллелей
Ретроспективное время как парадоксы сознания героя
По мнению Л. Аннинского, Р. Киреев, В. Маканин и др. «выдвинули новую концепцию реальности», «они пытались понять загадку „серединного" человека, вынужденного «вырабатывать невиданную способность к адаптации, умение, не удивившись, удержаться и прижиться в любой си-туации» . Критик видит в прозе «новой волны» своеобразный «вариант спасения» в «сомнамбулическом дрейфе по жизни» .
Герои «сорокалетних» открывают свою «правду» жизни: жизнь не определима и не преодолима, в ней все релятивно, относительно, поэтому сама «жизнь дороже и мудрее идей, принципов, целей и смыслов», она «такая какая есть; другой не дано» (пример - повесть А. Курчаткина «Гамлет из поселка Уш»).
Изображение «потока» жизни, реальной силы бытия определило и эстетическую программу этой прозы: показать неидеальность жизни, ее «страшный» лик (Л. Петрушевская). Физиологическая сторона, убогость, антиэстетичность вещного быта воспринимается здесь как «правда жизни», как разоблачение прежних мифов. Объективность связана и с тем, что реальность возводится к знаковости - типичности, стереотипности, т.е. происходит не просто фиксация жизни, но выстраиваются ее модели, варианты, тем самым декларируется полифония, дискретность жизни.
Писатели этого направления создают образ бытия как «внебытия» (ср. «бескрылая бесплодность реальности»3 , реальности «застрявшей где-то в промежутке между бытием и небытием» ). Этот мирообраз строится на грани реальности, фантастики, натурализма и гротеска как одного из поэтических средств выражения абсурда. Гротеск как совмещение несовместимых явлений и понятий сталкивает и сближает крайности разного рода: верх и низ, духовность и телесность, упорядоченность и стихийность. Гротеск позволяет «совмещать два противоположных «модуса» авторского повествования: максимальную дистанцированность от изображаемого мира и максимальное в него вживание»33.
По мнению М. Липовецкого, «сорокалетние» создают «мирообраз «кромешного мира» разрушающий всякую иллюзию существования метафизической сущности, подвигающий человека к пониманию «зыбучей фантасмагоричности, обманности всего»34. С. Чупринин также в свою очередь констатирует, что в литературе «сорокалетних» определяется состояние «тихого безумия реальности», «какой-то фантасмагоричности, которая перестает быть патологией, превращаясь в привычную норму существования, возведенную в масштаб извечного закона бытия»3 .
Качество абсурдного бытия определяется свойствами физического времени/пространства. Время реальности дано в этой литературе как уни 27 версальное, качественно проявляющееся в распаде, энтропии. Образ времени вырастает до образа мнимого времени, демонстрируется как «дурная повторяемость». В этом ненаправленном потоке человек отчуждается от самого себя, сталкивается с осознанием невозможности обретения какой бы то ни было истины, невозможности экзистенциального исхода (в отличие от литературы «экзистенциального» реализма). Время в литературе «сорокалетних» М. Липовецкий характеризует как «время безвременья», укладывающееся в рамки «статичного, жестокого, вычеркивающего годы, силы, мечты, а взамен оставляющего пробел, черточку между датами, либо пыль, либо прогоревшие угольки. Но этот образ Времени заполняет собой всю картину мироздания - диктует общий ритм бытия» .
Открывающийся абсурдный характер бытийного времени диктует новую концепцию истории, суть которой сводится к цепи случайностей, воздействующих на жизнь человека, обессмысливающих ее. Сцепление случайностей создают здесь фантастические комбинации, которые обнажают абсурдность истории. В повести «Капитан Дикштейн» М. Кураєва, накла-дываясь одна на другую, случайности фантастически изменяют жизнь и судьбу человека, при этом фантастический характер реальности раскрывается через судьбу частного человека. История тем самым предстает не как объективная реальность, закономерный ход вещей, а как цепь случайностей. Абсурд в игровой (фантасмагорической) прозе «сорокалетних» соотносится с силой социальных обстоятельств, ощущаемых как сила времени, с которой невозможно бороться.
Бытовой абсурд в прозе «сорокалетних», ставший предметом анализа Л. Аннинского, отмечавшего, что для «серединного» героя «ложь стала... формой информации, скепсис - отдушиной»57, вырастает из абсурда бытия. В прозе Л. Петрушевской в центре повествования - жизнь с утраченным смыслом, в силу этого превращающейся в хаос, не укладывающейся в стандарт. Л. Петрушевская говорит о бытовом хаосе - переворачивании привычных норм существования. «Люди у Петрушевской словно выпали из традиции, они существуют здесь и сейчас... Они выведены за пределы культуры, хотя, кажется, думают, что принадлежат ей» . Попытка преодолеть бессмысленность жизни оборачивается абсурдом поведения. Но во многих рассказах Петрушевской прослеживается стремление выйти из абсурда. Н. Иванова соотносит творчество Л. Петрушевской с традициями игровой прозы, в которой происходит преодоление «пошлости» жизни посредством гротеска. Гротеск, по мнению Ивановой, разрушает «серьезно-напыщенную, помпезную картину мира»59, продукта официальной соцреа-листической литературы. В «субъективном гротеске, - с точки зрения критика, - сопряглось безысходное отчаяние и экзистенциальная надежда... гротеск... связан с ощущением праздника жизни, ее неисчерпаемого богат-ства, ее феерической радостью» .
«Сюжет сорокалетнего». Природная реальность. Пространственная модель мира
Основной принцип, организующий пространство в повестях В. Маканина, лучше всего выражается оппозицией: геометрическая противоречивость/непротиворечивость, теоретическим понятием, введенным в искусствознание Б. В. Раушенбахом. «Под геометрической противоречивостью понимается противоречие между геометрическим образом, который возникает при восприятии картины зрителем, и теми формальными геометрическими свойствами, которыми изображение обладает» . Однако при всех деформациях художественное пространство не теряет своего объективного, т.е. внеположного автору, характера.
В художественном мире В. Маканина установка на воссоздание реальности, тождество вещей, положений, объективный интерес к действительности осмысляется как поле взаимодействия амбивалентно оцениваемых начал: «изменчивость, неупорядоченность» и «неизменность, упорядоченность». На стыке этих взаимоисключающих начал рождается онтологический абсурд: тождество становится смещенным, «сдвинутым»; реальное пространство размывается, становится гиперпространством. Смысловое «перетекание», изменение субстанциальных качеств художественных пространств вызвано онтологической подвижностью самого бытия.
Здесь помимо вышеназванных принципов действует принцип дополнительности - методологический принцип, сформулированный Н. Бором, согласно которому, для того, чтобы наиболее адекватно описать физический объект его нужно описывать во взаимоисключающих, дополнительных системах описания57, одной логической конструкции становится недостаточно для описания всей его сложности. В связи с этим можно говорить об определяющей структуру художественного пространства идее стереоскопичности, дополнительности художественного мира В. Маканина.
Замена единой, геометрической точки зрения множественным, стереоскопическим взглядом на мир свидетельствует о многоаспектном подходе к исследованию проблемы реальности. Следует отметить, что возникающая пространственная трансформация оказывается не сутью постмодернистской игры, но результатом «вглядывания» в окружающую реальность, попыткой верификации наличествующего бытия. Попытаемся показать это на одном из «блоков» повести «Утрата».
Эмпирическая реальность как субъективная версия мира в этой новелле разворачивается по горизонтали: осуществляется в хронологической дискретности, передается как точечная направленность, замыкающаяся в границах сознания героя-повествователя, которое характеризуется субъективной .нецелостностью. Разорванность сознания и его несвязанность с реальностью раскрывается через метафору болезни (посттравматическое состояние, галлюцинации - страхи перед высотой), чувство неустойчивости существования и потери смысла жизни.
Образ реального мира (образ времени как способ передачи такого содержания) восстанавливается через обращенность к опыту переживаний, ощущений лирического героя, поэтому пространственно-временные параметры будут иметь уже не столько онтологический, сколько гносеологический характер. Будучи отраженными, а не реальными время-пространство в сознании героя-повествователя принимают форму фобии , выраженную в боязни высоты, отрыва от реальности, и, одновременно с этим, болезненные, субъективно мучительные переживания героя, которые он не в силах контролировать, приобретают характер сублимации, в которой герой трансформирует этот страх в наиболее приемлемых для себя формах .
Боязнь материальности мира, его неодухотворенности раскрывается через метафору духовных страданий героя, обнаруживающего растекание, размывание границ эмпирической реальности. С одной стороны, сознание героя-повествователя фиксирует устойчивость и функциональность мира (лестницы, больничные коридоры, палаты, дома), с другой - конкретное пространство, заполненное вещами и насыщенное деталями («фонарь с матовым плоским абажуром, в котором скапливалась дождевая вода», «кожаные домашние тапки», «тренировочные с белой полосой штаны») постепенно замещается ирреальностью («глухая дверь», «лаз», «лестницы в три марша», «земляные своды», «шум реки над головой»). Нельзя точно сказать, возникает ли деструкция лишь в сознании героя, являясь плодом его воображения, тогда как объективный мир существует в своей неизменности («психушка», больничная палата для шоковых больных, соседи по палате, врачи и медсестры, грязный бинт и пр.) или же время-пространство действительно ветвится возможностями и вариантами. Осознание абсурда рождает желание вернуть время вспять - вспомнить прошлое, придать потоку времени смысл, значение, насытить современную действительность событиями, «утяжелить» время (бессобытийное время сделать событийным).
А. Генис ввел понятие гиперреальности61, на наш взгляд, точно отразившее специфику художественной реальности Маканина. Действительно, мир, предстающий в своей телесной вещественности, организованности, функциональности (вода как стихия, но лишь в галлюцинациях героя, в жизни же течет лишь по трубам), в сознании же реализуется как бессмысленность. И тогда сознание героя-повествователя как сознание современного человека, пытаясь преодолеть боязнь «отрыва» от реальности происходит утрата реальности как критерия, точки отсчета), собирает разрозненные фрагменты реальной жизни с целью восстановления связи с ней, обретения утраченного смысла существования.
Сюжет самопознания («Тупики» сознания персонажа)
Анекдот и притча имеют немало общего. Общими для поэтики обоих пралитературных жанров являются: компактность сюжета, емкость ситуации, лаконичность композиции, неразвернутость характеристик и описаний, акцентированная роль немногочисленных деталей, краткость и точность словесного выражения . Но при этом анекдот отличается от притчи картиной мира, в которой случайность является основополагающим принципом. Признание отсутствия порядка (логики), жизни как случайного стечения обстоятельств предполагает позицию внутренне свободного, игрового отношения к миру. Однако у В. Маканина нет игры, есть пристальное, бескомпромиссное всматривание в реальность, проверка ее логикой, идеалом. На наш взгляд, анекдот, используемый Маканиным, вскрывает абсурдность жизни и мотивирует странность, нелепость героя, пытающегося упростить жизнь, предлагая «систему правильной жизни», и в этой ситуации Якушкин оказывается мнимым пророком и целителем. В тексте повести культурные аллюзии, возникающие в связи с Якушкиным, вступают в диалог с традиционными христианскими сюжетами, анекдот же служит толчком (своего рода «конфузной ситуацией») для обнаружения метафизической пустоты, а потому бессмысленности сведения сложного, неоднозначного эмпирического мира к логике притчи.
В композиции в результате монтажного принципа возникает перекрещивание разных воспринимающих сознаний, между которыми возникают различные отношения, вся гамма которых формирует в конечном итоге ав торскую оценку, которая способствует «организации целостности художественного произведения и выявлению идейных позиций писателя»15. В массовом сознании предельная практика Якушкина обретает черты мистической и ассоциируется с деятельностью шамана и алхимика16 («.. .прошедший слепоту пещерных шаманов и как ступеньку приобретший опыт говорунов-пророков, он вышел впрямую на труд алхимиков...») (с. 18). Сам же Якушкин видит себя в роли подвижника, несущего несовершенному, больному духом и телом человеку свет истины. Наряду с теми, для кого деятельность Якушкина сопряжена с таинственностью и окружена ореолом святости, кто находит в «словесной вязи» Якушкина «что-то свое и скрытное», есть и такие, кто видит в нем лишь «шизофреника с уголовным прошлым, с упавшим на голову бревном». «Искорку», которая порой проскакивает, слышат немногие. Врач, выслушавший гневные обвинения знахаря в приверженности к химии, в неумении лечить непростое и недооценке «совести, именуемой также интуицией», впадает в состояние, в котором непроизвольно начинает дергаться шея и щека. Журналист, случайно занесенный на сборище «якушкинцев», оценивает услышанное как «пророческий бред». Молокаевы, бывшие близкие знакомые и соседи, дочь Леночка, зять видят в Якушкине лишь «старичка», который «слаб умом». Для брата Якушкин - «псих», «больной», «спятивший». Возникающее вследствие подобной авторской игры ощущение неразличимости, «дурной бесконечности» накладывается на попытки интерпретации деятельности Якушкина, что указывает на стремление автора избежать однозначных, категоричных оценок в изменчивом мире. Персона Якушкина, таким образом, оказывается противоречивой в силу того, что сюжетная ситуация, связанная с ним, обставляется множеством зеркал, в связи с чем, достаточно сложно выявить логику поведения героя.
В сюжете Якушкина выявляется принцип сюжетостроения, основой которого становится многократное варьирование ситуации познания. Повторение одних и тех же эпизодов приводит к их смысловому изменению, одновременное, неиерархическое сосуществование которых указывает на неоднозначный, противоречивый характер художественного мира автора. Повторение редуцирует события познания до анекдота, профанирующего, снижающего результативность знахарской деятельности Якушкина.
На уровне событийного ряда профанация Якушкина происходит в эпизоде с Вовкой, являющимся, в свою очередь, «наоборотным» повторением эпизода, в котором Якушкин рассказывает свои пациентам «притчу о старом человеке, который окликает племя, идущее к пропасти». Якушкин-ский внук объясняет занемогшему деду, «что не всякая лошадь, идущая вдоль обрыва, туда сваливается, не всякое племя, вслепую спешащее, гибнет - не всякий умирающий умирает, на это и надежда» (с. 104). В притче, интерпретированной и адаптированной детским сознанием, исчезает образ Спасителя - Мессии («старого человека, который окликает племя, идущее к пропасти»), но появляется мотив судьбы в античном ее понимании как рока (абсурда?), который уподобляется некой ненаправленной силе, уничтожающей человека. «Играя в Пророка», малолетний внук Якушкина сдвигает, поворачивая изнанкой «истину», подвергая ее своего рода испытанию на прочность. При этом объективацию Спасителя судьбой в известной степени можно считать знаком всеобщего перевоплощения: это не столько частный случай, сколько выявление силы бытия. В результате «обратного» изображения, с одной стороны, отчетливо проявляется характер самого бытия как смерти, телесного и духовного распада, обессмысливающего любую жизнь, с другой - раскрывается наивное стремление мифологизированного сознания (сознание играющего ребенка) выйти за границы материального бытия, представляемого как животворящий хаос
Играя, Вовка раскрывает в Якушкине шута, а шутам, как известно, все позволено: и свобода в суждениях и порицаниях, и чересчур смелые жесты, и бесчинства, и сквернословие, олицетворяющее собой некую грубую силу, т.е. все то, что так ярко представлено в самом Якушкине. Но в отличие от средневекового шута Якушкин играет всерьез. В мире без смысла можно выработать только собственные, субъективные смыслы, которые и будут опорой существования.
Повторение сюжетной ситуации не только ослабляет результативность события, указывая на его неистинный характер, но становится своего рода «кривым зеркалом», в котором герой узнает себя, т.е. становится ситуацией опосредованного познания своего «я». Критическое осознание себя через «другого» демонстрируется в «наоборотном» эпизоде с Сухан-цевым, новым, заменившем Якушкина, докторе. Якушкин, слушая Сухан-цева, узнает в нем себя: «Он сидел, окаменев: у Суханцева было то самое» (с. 96); в его лице обличает себя самого же: «это... никакой не пророк, «это - шарлатант!» (с. 96). Узнавание себя в «другом» здесь не становится фактом нравственного перерождения, лишь приводит к эмоциональному шоку, выйдя из которого, Якушкин, не найдя, куда же пристроить свою великую любовь к людям, пытается направить свою силу на бродячих собак и пьяниц. Повторение ситуации ведет к симультанному нагромождению разных ее смысловых значений, что указывает на амбивалентное качество бытия, оборачивающегося в конкретных реализациях противоположными сторонами. В поэтике В. Маканина сюжетообразующий повтор передает авторское восприятие онтологической противоречивости, изменчивости, текучести, т.е. тех качеств бытия, которые указывают на его абсурдный характер.
Мотив сна-отставания в «сюжете отца». Система сюжетных параллелей
Фабульная организация «Сюжета...» воспроизводит базовую фабульную модель мирового археосюжета, восходящего к протосюжету инициации. Воспользуемся при анализе сюжета системой исторически сложившихся фаз сюжетного развертывания текста, предложенной В. И. Тюпой . Протосюжетная схема складывается из четырех ключевых фаз: фазы обособления (собственно пространственный уход, а также уход « в себя», предполагающий разрыв или существенное ослабление прежних жизненных связей) - фазы партнерства («установление новых межсубъектных связей (любовь, вражда, дружба)» ) - фазы испытания смертью («может выступать в архаических формах ритуально-символической смерти, может заостряться до смертельного риска, может редуцироваться до легкого повреждения или до встречи со смертью в той или иной форме (например, зрелище чужой смерти)» - фазы преображения («перерождение сопровождается возвращением героя к месту прежних, ранее расторгнутых или ослабленных связей, на фоне которых акцентируется его новое качество» ). Естественно, что «Сюжет...» строится не в полном соответствии с эксплицированной моделью, но аналитическое рассмотрение его на фоне матрицы «мирового сюжета» позволяет глубже проникнуть в конструктивное и смысловое его своеобразие.
Для «молодого командированного» фазой обособления оказывается командировка в южные степи, на отдаленный комбинат. Фаза партнерства соответствует знакомству с Олей и рождающейся любви к ней. Следя за работой конвейера, молодой командированный становится свидетелем убийства коров, что оборачивается для него лиминальной фазой (опосредованное переживание «чужой» смерти). Оставаясь на комбинате, герой вступает в фазу преображения, которое действительно с ним происходит, неявное, но крайне существенное для художественного смысла повести в целом - он решает навсегда остаться на комбинате, признавая тем самым неизбывность зла на земле. Постижение чужого страдания и осознание собственной виновности обрекает героя на нравственную рефлексию, не способную изменить способ существования человека. Вот почему становится невозможным его бегство из мира зла, знание истины заставляет принять существующий абсурд. «Сюжет о командированном», таким образом, становится воплощением «долгого пути» человека, сопровождающегося освобождением от ложного эгоцентризма, сосредоточенностью лишь на самом себе, рождением персонального сознания.
Аллюзивный фон повести раздвигает пространственно-временные координаты современного мира с целью выхода из системы прагматического мышления в культурные, библейские аналогии. Создаваемое при этом «вертикальное» измерение жизни, должно сориентировать человека в настоящем (в сложных отношениях с реальностью «вертикаль» помогает не только искать смысл, силу духа, но и надежду, веру - самолета, который перенесет туда, «где еще есть кислород и жизнь» (с. 525)). Однако Макании, не отменяя значимости идеалов, нравственных ценностей, оставляет им только персональную значимость, изменить же бытие они бессильны. Остающиеся жить в безыллюзорном мире люди оказываются разобщены, открывшаяся им тайна разъединяет, заставляя в отдельности надеяться на спасение - разжигать свой костер надежды. Маканин оставляет иллюзию как ситуацию возможного спасения от отчаяния.
Подобной формой временного, иллюзорного освобождения от беспощадной правды бытия становится и фантазия, творческое воображение человека - искусство. В хронотопе воображения, пересочинения жизни автором исследуются иллюзорные формы преодоления страха перед сущностной природой бытия. Потребность в освобождении от власти природной необходимости толкает к акту творческого воскрешения жизни, собирания расчлененной природы в целое (так, молодой командированный прокручивает видеокассету с записанным путем смерти в обратном направлении; рассказчик воскрешает умершего Илью Ивановича в памяти, «одевая» его в воображении, а в реальности собирая его одежду, чтобы сдать в комиссионный магазин). На поверку оказывается, что как раз эта склонность искусства к мифологизации иллюзий, его способность притуплять нравственные страдания, снимает экзистенциальную вину («...мы сопереживаем, чтобы погрузиться и отчасти совпасть с человеком, у которого болит, -чтобы тем самым не видеть его боль со стороны. ... А изнутри не больно») (с. 511), становится таблеткой, которая облегчает страдания человеку, но не устраняет их.
Таким образом, диалог Маканина с культурным наследием включает в себя как притяжение, так и отталкивание. Маканин с точки зрения сегодняшнего времени открывает проявление экзистенциальных и онтологических проблем, не разрешаемых историей. При этом Маканину удается избежать постмодернистской окультуренности, когда жизнь предстает сквозь матрицу культурных схем, он скорее извлекает из них логическую схему, а затем соотносит ее с подобными истолкованиями в литературе.
Отсутствие у Маканина утопизма, корректировка традиционных представлений о человеке, о силе нравственных идей, о культуре по-разному воспринимается критикой. Ряд критиков (И. Дедков, А. Казинцев, А. Ланщиков, В. Куницын) отказывают В. Маканину в следовании духу русской классики с ее гуманностью, с ее верой в небессмысленность человеческой жизни72. На другом полюсе дискуссий - прочтение его творчества как подчеркнуто литературного, во многом традиционного, проникнуто реминисценциями из творчества Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого . Попробуем показать правомерность такой противоречивой оценки Маканина критикой на примере соотнесения повести «Долог наш путь» с рассказом Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича».
Действительно, открытая ориентация Маканина на творчество русского классика Л. Н. Толстого стала заметна в 1990-е годы: повесть «Долог наш путь» соотнесена с рассказом «Смерть Ивана Ильича» именем персонажа (Илья Иванович); рассказ «Кавказский пленный» отсылает к «кавказским рассказам»; повести «Отставший», «Гражданин убегающий» ориентированы на произведения Л. Толстого об «уходе» и пр. Однако проекция на произведение Толстого «Смерть Ивана Ильича» в исследуемой нами повести подчеркнуто зеркальная: имя маканинского героя Илья Иванович. Заявленное отталкивание от культурных традиций, в частности, творчества Л. Толстого, проявляется и в трактовке центральной ситуации. В центре маканинской повести - не смерть, приведшая к прозрению, а прозрение, приведшее к смерти. Логика жизни героя Толстого проявляет концепцию линейного нравственного развития личности: принятие материальных ценностей и как следствие - ослабление духовных связей; затем болезнь тела, обнаружившая ложность ценностных установок того общества, взгляды которого разделял герой; нравственное воскрешение в момент смерти (возвращенные смертью высшие ценности помогают герою преодолеть страх смерти и способствуют обретению чувства родства).