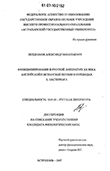Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Проблема соотношения сакрального и профанного в притче 12
1.1. Проблема соотношения сакрального и профанного в притче (история вопроса) 12
1.2. Влияние сакрального и профанного на элементы притчи 26
1.3. Сакральный смех в притче 43
1.4. Становление оппозиции сакрального и профанного: притча в эпоху синкретизма и эйдетическую эпоху 53
1.5. Взаимодействие сакрального и профанного в средневековой литературе: процесс опритчевания 69
Глава 2. Формы присутствия притчи в европейской литературе XX века 93
2.1. Соотношение сакрального плана и плана авторских идей в пьесе Б. Брехта «Добрый человек из Сычуани» 113
2.2. Сакральное и профанное поведение персонажей в повести Л. Толстого «Хаджи-Мурат» 125
2.3. Профанный и сакральный быт: притча в ранних рассказах Л. Андреева и романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» 135
2.4. Конфликт притчевой формы и профанного сознания в произведениях Л. Толстого и У. Голдинга 152
2.5. Диалог профанного и сакрального: «Жизнь Василия Фивейского» Л. Андреева, «Двойной язык» У. Голдинга 174
Заключение 190
Библиография 198
Приложение 215
- Проблема соотношения сакрального и профанного в притче (история вопроса)
- Становление оппозиции сакрального и профанного: притча в эпоху синкретизма и эйдетическую эпоху
- Соотношение сакрального плана и плана авторских идей в пьесе Б. Брехта «Добрый человек из Сычуани»
- Профанный и сакральный быт: притча в ранних рассказах Л. Андреева и романе Б. Пастернака «Доктор Живаго»
Введение к работе
В литературе XX века притча играла значительную роль. К притче обращались такие писатели, как Л. Толстой, Л. Андреев, Д. Хармс, Б. Брехт, Ф. Кафка, Дж. Оруэлл, А. де Сент-Экзюпери, Ю. Олеша, Б. Пастернак, У. Фолкнер, Ж.-П. Сартр, А. Камю, Дж. Д. Сэлинджер, Ф. Дюрренматт, М. Фриш, Г. Гессе, Г. Гарсиа Маркес, Э. Шриттматтер, П. Зюскинд, В. Маканин. В творческом наследии русских и западноевропейских писателей XX века встречаются притчи, приближенные к классическому жанровому образцу, а также сложные, синтетические произведения, в которых повествовательная стратегия притчи присутствует на уровне элементов содержательной формы (фабулы, системы персонажей, предметного мира произведения).
«Роман-притча», «повесть-притча», «сказка-притча», «современная притча», «страшная притча» - эти и другие словосочетания можно сегодня встретить в предисловиях и послесловиях к изданиям произведений таких несхожих писателей, как У. Голдинг, Р. Бах, П. Брюкнер, С. Кингl . Последние два года слово «притча» часто встречается в аннотациях к книгам российских и зарубежных авторов . При этом слово «притча» является, скорее, неким индексом, которым отмечен и род иносказательных художественных произведений, и особый горизонт читательского ожидания, и особая авторская точка зрения на произведение. Все эти связанные с притчей явления рассматриваются нами как проявления притчевого начала. Термин «притчевое начало» выступает в качестве категории, в которой сосредоточены все апеллирующие к притче смыслы.
Обращение художников слова к притче необходимо рассматривать в контексте воцарившейся в культуре XX века идеи смерти Бога. Объектом
рефлексии, связанной с осмыслением смерти Бога, стал человек, пределы и глубины человеческой личности. За этими глубинами, которые оказались совсем не бездонными, обнаружилась «тьма человеческого сердца» (У. Голдинг). Неподвластное разуму трансцендентное не исчезло со смертью Бога, но, наоборот, стало вездесущим и многоликим, приблизилось к человеку вплотную, заговорило с ним. В авторской притче XX века отобразился драматический диалог человека и трансцендентного, профанного и сакрального.
Сакральное и профанное предстают в XX веке как единицы поля культуры (Л.Г. Андреев). Их содержание несоизмеримо усложнилось со времен древнеиндийской, античной и средневековой христианской притчи. Трансформация этих составляющих повлекла за собой изменения притчи на жанровом уровне: произошел синтез притчи с другими литературными жанрами, изменились составляющие системы формальных жанровых признаков.
Обращение к притче художников XX века было также связано с их глубоким интересом к поэтике восточной литературы, философским учениям Древнего Востока. Духовные течения Индии, Китая, Японии значительно повлияли на культуру3 и, в частности, на литературу прошедшего столетия. Изучение влияния даосизма, буддизма, дзен-буддизма на творчество русских и западноевропейских писателей чрезвычайно перспективно. Так, ещё только ждут своего исследователя материалы «индийского» наследия Л. Толстого, серьезно никогда не изучавшегося4.
Восточная притча имеет ряд особенностей, которые особенно отчетливо проявляются при анализе соотношения сакрального и профанного.
Современные писатели обращаются к восточной притче, что указывает на необходимость определения форм влияния восточной притчи (особенно, даосской притчи) на творчество писателей XX века.
Притча всё чаще становится объектом внимания российских литературоведов. Значительное число работ отечественных ученых посвящено изучению древнерусской притчи. В этой области значительным вкладом стали труды С. Добротворского, Д.С. Лихачева, С.С. Аверинцева, Н.И. Прокофьева, Е.К. Ромодановской, И.В. Силантьева.
Изучению притчи посвящены литературоведческие статьи и фундаментальные исследования, в которых притча рассматривается в контексте творчества писателя, литературного направления или периода. Это работы А. Зверева, В. Зельченко, В. Лапшина, А. Бармина, С. Григорян, Н.Н. Прокофьевой, Н. Старыгина, А. Адамовича, В.И. Кукулитис, В. Скороденко, Н.Н. Манукян, С.Д. Щербиной и других.
В работах В.И. Тюпы, С.З. Агранович, И.В. Саморуковой, Э.А. Радь, И.В. Кузнецова, А.Г. Бочарова, Е.И. Ковтун, Ю.И. Левина, А.К. Ишановой, И.Г. Панченко, Т.Ю. Климовой рассмотрена поэтика притчи.
Отечественным литературоведением накоплен значительный материал, в котором отображено функционирование в художественном произведении таких разнообразных явлений, как притчевое сознание, притчевое время, притчееый дискурс, система персонажей притчи, фабула и толкование притчи. На современном этапе возникает необходимость углубленного изучения этих явлений, поэтому изучение форм присутствия притчи в литературе XX века с точки зрения специфики соотношения сакрального и профанного является актуальным.
Предметом исследования выступали формы присутствия притчи в русской и западноевропейской литературе XX века.
В качестве объекта выступало соотношение сакрального и профанного притчи в произведениях русских и западноевропейских писателей XX века. Целью работы было изучение форм присутствия притчи в художественных произведениях русских и западноевропейских писателей XX века с точки зрения специфики соотношения сакрального и профанного. Для реализации поставленной цели потребовалось решить ряд задач: ? рассмотреть специфику функционирования термина «притча» в системе литературоведческих категорий;
? проанализировать становление оппозиции сакрального и профанного в эпоху синкретизма и эйдетическую эпоху (от неолита до Возрождения);
? рассмотреть специфику присваивания нейтральным текстам функций и наименования притчи в средние века и в XX веке (процесс опритчевания);
? исследовать разновидности фабул притчи на примере даосских и евангельских притч;
? рассмотреть концепции притчи Л. Толстого, Б. Брехта и У. Голдинга;
? на основе анализа разновидностей фабул притч рассмотреть влияние поэтики восточной притчи на произведения Л. Толстого, Б. Пастернака, У. Голдинга, Б. Брехта;
? проанализировать специфику и функции бытового плана притчи в ранних рассказах Л. Андреева и романе Б. Пастернака «Доктор Живаго»;
? изучить взаимодействие притчи и мифа в романах У. Голдинга «Повелитель мух»;
? исследовать особенности диалога сакрального и профанного в повести Л. Андреева «Жизнь Василия Фивейского» и романе У. Голдинга «Двойной язык».
Научная новизна работы состоит в следующем:
описан процесс, при котором нейтральным текстам присваиваются функции и наименование притчи, - процесс «опритчевания»;
? исследована особая форма взаимоотношения сакрального и профанного планов притчи - притчевый смех, рассмотрены формы бытования притчевого смеха в произведениях писателей XX века;
? обосновано разделение плана быта и профанного плана притчи, на основании этого разделения проанализированы произведения Л. Андреева и Б. Пастернака;
? впервые разработана концепция двух типов фабул притчи: фабулы «эксперимент» и фабулы «сакральное поведение»;
? на материале пьес Б. Брехта изучены особенности присутствия в авторской притче XX века плана авторских идей;
? исследована специфика взаимодействия мифа и притчи в произведениях У. Голдинга;
? изучен прием реверсивности как элемент повествовательной стратегии притчи в литературе XX века;
? рассмотрено влияние восточной притчи на авторскую притчу русской и западноевропейской литературы XX века;
? раскрыта специфика диалога сакрального и профанного притчи в повести Л. Андреева «Жизнь Василия Фивейского» и романе У. Голдинга «Двойной язык».
Теоретическая значимость работы заключается в выявлении специфических особенностей соотношения сакрального и профанного в притче: с точки зрения оппозиции планов Человека и Абсолюта дана классификация фабул притчи, разделены план быта и профанный план притчи, исследовано явление притчевого смеха, обозначена оппозиция притчи и мифа.
Материалом исследования послужили произведения: Л. Толстого -«Хаджи-Мурат», «Три смерти»; Л. Андреева - «Предстояла кража», «Жизнь Василия Фивейского»; Ю. Олеши - «Зависть»; А. Платонова - «Чевенгур», «Котлован»; Б. Пастернака - «Доктор Живаго»; Б. Брехта - «Добрый человек из Сычуани»; У. Голдинга - «Повелитель мух», «Наследники», «Хапуга
Мартин», «Ритуалы плавания», «Зримая тьма», «Клонк-Клонк», «Чрезвычайный посол», «Бог-скорпион», «Двойной язык».
В качестве дополнительного материала привлекались сборники: «Притчи человечества» под редакцией В.В. Лавского; «Чудаки, туты и пройдохи Поднебесной. Китайские притчи и анекдоты» под редакцией А. Воскресенского; авторские притчи В. Тарасова из сборника «Книга для героев»; «Новеллино» под редакцией М.Л. Андреева, И.А. Соколова; «Притчи Царя Соломона» в синодальном переводе.
Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на межвузовской научной конференции «Вторые Андреевские чтения» в январе 2004 года в УРАО (Москва), на межвузовской научной конференции «Смех в литературе: семантика, аксиология, полифункциональность» в феврале 2003 года в Самарском государственном университете, на конференции молодых ученых и аспирантов в апреле 2003 года в Самарском государственном педагогическом университете, на лекциях и семинарских занятиях Института филологического образования и Института иностранных языков Самарского государственного педагогического университета.
Положения, выносимые на защиту:
1. В литературе Средних веков происходил процесс намеренного и искусственного присваивания тексту функций или имени притчи -процесс опритчевания, который протекал на нескольких уровнях. На первом уровне автор преподносит аудитории текст как притчу. Опритчевание текста автором связано с дидактической интенцией. На втором уровне происходит опритчевание аудиторией, когда читатель или слушатель понимает любой воспринимаемый текст как притчу. Опритчевание текста аудиторией связано с гипертрофированным состоянием ожидания притчи.
2. Можно выделить два типа фабул притчи - фабулу «сакральное поведение» и фабулу «эксперимент». Фабулу «эксперимент» составляют немотивированные, иногда ситуативно абсурдные действия субъекта,
направленные на достижение результатов испытания. В притче-эксперименте присутствуют фигуры испытателя и испытуемых, чрезвычайно высок уровень аллегоричности и символичности, манифестируется сакральность текста, которая очевидна в силу той же нецелесообразности действий. Основой текста, содержащего фабулу «сакральное поведение», является сакральное поведение субъекта. Иллюстрацией такого поведения являются действия главного героя повести Л. Толстого «Хаджи-Мурат», написанной под влиянием восточной притчи. Бытовое в фабулах «сакральное поведение» теснее связано с сакральным, нежели в притчах с фабулой «эксперимент». Категория быта является самоценным элементом в системе планов притчи. В классической притче план быта и план профанного не только не тождественны, но находятся в оппозиции друг другу. План быта отмечен влиянием сакрального (особенно в классических даосских и буддийских притчах). В авторской притче начала XX века план быта проходит под знаком профанного (произведения Л. Андреева). Особого рода предметность определяет исключительно положение категории быта в притче: некоторые реалии предметного мира подаются в укрупненном виде, как через увеличительное стекло. Именно так изображается предметный мир в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго», что позволяет говорить о притчевом характере глав, посвященных жизни Лары и Юрия Живаго в Варыкино. В романе Б. Пастернака быт обретает черты сакрального.
В классической притче источником смеха является абсурдный характер профанного поведения, над которым смеется сакральное. Притчевый смех проявляется в притче в самых разных формах: от общей иронической настроенности повествователя (произведения У. Голдинга) до частных комических ситуаций, в которые попадают герои-функционеры притч. Сакральное поведение логично только внутри сакральной системы. Вовне оно бессмысленно, абсурдно, нелогично и при профанном отгадывании или истолковании вызывает смех. Для того, кто находится внутри сакрального, прежде абсурдное описание сакрального поведения обретает смысл, а источником смеха становится ставшая абсурдной профанная логика. В авторских притчах XX века притчевый смех перестает быть только смехом сакрального над профанным. В притчевых произведениях Л. Андреева соотношение сакрального и профанного планов притчи изменяется: здесь профанное смеется над сакральным.
5. В авторской притче XX века выделяется план авторских идей. План авторских идей в авторской притче замещает план сакрального. Исследование пьес Б. Брехта показывает, как в содержании плана авторских идей проблематика частных вопросов и тем постепенно замещается вневременными ценностями.
6. В притче и в мифе сакральное и профанное соотносятся неодинаково. В притче сакральное и профанное находятся в постоянном диалоге. Диалог этот предполагает момент перехода, но этот переход всегда является перерождением, поэтому граница между сакральным и профанным в притче непреодолима. В мифе сакральное и профанное тоже ведут диалог, персонажи легко нарушают границы между мирами, но при этом они остаются элементами своего мира (поэтому часто они боятся быть узнанными в чужом мире). В романах У. Голдинга притча выступает как пародия мифа, изображая миф, она взламывает его изнутри. Романы-притчи У. Голдинга развенчивают островной миф как вариацию мифа о всемогуществе человека.
7. В произведениях Л. Андреева и У. Голдинга проблема диалога сакрального и профанного предстает как проблема взаимопонимания человека и Абсолюта. В этом диалоге логика сакрального выражается «безмолвной речью» событий, происходящих с человеком.
Методологическая основа диссертации. В работе были использованы сравнительно-исторический, структурно-типологический компаративистский методы исследования.
Теоретической базой диссертации являются труды А.Н. Веселовского, О.М. Фрейденберг, Е.М. Мелетинского, М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева, Б. Успенского, Н.Т. Рымаря, В.И. Тюпы, С.Н. Бройтмана. Структура исследования отражает реализацию намеченных целей и задач. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии, состоящей из 260 названий на русском, английском и немецком языках и приложения, содержащего иллюстративный материал.
Первая глава «Проблема соотношения сакрального и профанного в притче» состоит из пяти параграфов, в которых рассматривается функционирование термина «притча» в системе литературоведческих категорий, влияние сакрального и профанного на систему элементов притчи, природа и функции притчевого смеха, становление оппозиции сакрального и профанного притчи в эпоху синкретизма и эйдетическую эпоху, опритчевание в средневековой литературе.
Вторая глава «Формы присутствия притчи в европейской литературе XX века» состоит из пяти параграфов, содержанием которых является изучение соотношения сакрального плана и плана авторских идей в пьесе Б. Брехта «Добрый человек из Сычуани», анализ сакрального и профанного поведения персонажей в повести Л. Толстого «Хаджи-Мурат», описание реверсивности композиции рассказа Л. Толстого «Три смерти» и сборника У. Голдинга «Бог-скорпион», изучение конфликта островного мифа и притчевой формы в романе У. Голдинга «Повелитель мух», исследование соотношения сакрального, профанного и быта в рассказе «Предстояла кража» Л. Андреева и романе «Доктор Живаго» Б. Пастернака, исследование диалога профанного и сакрального в повести Л. Андреева «Жизнь Василия Фивейского» и романе У. Голдинга «Двойной язык».
Проблема соотношения сакрального и профанного в притче (история вопроса)
Отечественным литературоведением накоплен большой материал по исследованию притчи. Первая значительная работа - это напечатанная в «Православном Собеседнике» статья С. Добротворского «Притча в древнерусской духовной письменности»5. В статье даётся развернутый анализ роли притчи в древнерусской духовной письменности. С точки зрения С. Добротворского, человеку изначально свойственно символическое созерцание природы, «по которому она представляется одушевленным выражением творческой мысли, родственным душе человека и неразрывно соединенным с его внутренним миром»6. Появление притчи автор статьи связывает с возникновением произвола в системе «человек-природа». Под «произволом» исследователь понимает «более или менее условное понимание явлений природы, своеобразное их толкование», возникновение которого порождает переход «от символизма к аллегоризму - притче»7.
Основа статьи - дифференциация древнерусских притч по происхождению. С. Добротворский выделяет следующие тексты: притчи святого Писания, прологи и сочинения святых отцов («О винограднике», «Иже во святых»), притчи о Варлааме и Иоасафе, притчи «Gesta Romanorum», а также притчи, написанные древнерусскими книжниками.
Ставя перед собой цель классифицировать древнерусские притчи, С. Добротворский создает модель, по которой с большими или меньшими вариациями будут строиться последующие работы о притче. Сначала даётся концептуальная модель, указывающая на место притчевых явлений в общем поле культуры, затем делается экскурс в генезис притчи, приводятся замечания автора статьи о том, что нельзя сводить проявления притчевого к локальным трактовкам. Осуществляя классификацию, С. Добротворский использует элементы структурного и сравнительно-исторического методов анализа.
После статьи в «Православном собеседнике» список работ о притче пополнялся в основном за счёт словарных статей энциклопедий. Это статья «Притча» А.Д. Гатцука в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона8, большей частью воспроизводящая работу С. Добротворского. В 1935 году в Литературной энциклопедии под редакцией А.В. Луначарского появилась статья R.S.9 Композиция и ряд положений этой статьи стали образцом для более поздних статей энциклопедий и справочников.
Поскольку притча была жанром духовной литературы и считалась в некотором смысле явлением «антиреалистическим»10, изучать её в рамках официальных исследований было небезопасно. В начале 1970-х годов началось изучение притчи в творчестве Бертольда Брехта. После статьи В.А. Лапшина «Пьесы-притчи Б. Брехта» n , опубликованной в «Вестнике Московского университета», тема притчеобразия современных произведений перестала быть закрытой.
В 1970-х - 1980-х гг. на страницах журнала «Вопросы литературы» разгорелась полемика об обращении современной литературы к притче и мифу. В этой полемике приняли участие А. Адамович, А. Цветков, В. Якименко, А. Эбаноидзе, П. Мовчан. Начало полемике положила статья А. Адамовича о притчеобразном реализме В. Быкова, который, по мнению автора статьи, всё же позволяет писателю охватывать всю полноту жизни и человеческих характеров. В качестве оппонента А. Адамовича со статьей «Возможности и границы притчи» выступил А. Цветков, полагавший, что Василь Быков, «пытаясь удержаться в границах притчи, ... порой идет на создание искусственных, лабораторных обстоятельств, прибегает к их конструированию. А в таком случае неизбежно пропадают, отбрасываются важнейшие, характернейшие, сущностные стороны воссоздаваемой действительности»12.
Следующий спор разгорелся вокруг теории В. Кубилюса, утверждавшего, что мифологизм — это «третий шаг литературы в фольклор». Именно на этом этапе развития, пишет В. Кубилюс, «литература обращается к мифу и притче, как к средствам, которые позволяют присоединить нравственно-философские искания современного человека к извечным исканиям всего человечества, сделать их звеном в цепи, тянущейся к нам от Гильгамеша»х 3.
Размышляя над высказыванием Томаса Манна о том, что мифологическое в жизни человечества представляет собой раннюю и примитивную ступень, а в жизни отдельного индивида эта ступень поздняя и зрелая, А. Эбаноидзе делает вывод, что мифологизм является характерной чертой развитых литератур14. А. Эбаноидзе не считает мифологизм и притчевость единственно возможными инструментами познания действительности, но оговаривается, что они «призваны окрылить «земную массу бытия», дать художнику прорваться в область «вечного, общечеловеческого», приблизиться к осмыслению не только внешней стороны, но и надвременной, изначальной сути бытия - «вневременной схемы, издревле заданной формулы»15. Признавая закономерность «мифопритчевых» тенденций: «гении, воскрешая забытые схемы и формулы, воссоздавая выработанные народом идеи и нормы, наполнили их новым содержанием, делая эти схемы и формулы более ёмкими...» 16 , П. Мовчан приходит к выводу о закономерности обращения современной литературы к фольклорным формам: «возвращение к фольклорному слову, вызванное информационным взрывом, в результате которого слово как бы уменьшилось в своих параметрах, - вполне правомерно»17.
В. Якименко дает в своей статье ретроспективный обзор проникновения мифа в литературу и говорит о тенденциях почти разрушительных. Ссылаясь на американского литературоведа И. Франка, он говорит о полном исчезновения исторического времени в современной литературе. «Обращение искусства к мифологии как к вечной материи, -пишет В. Якименко, - а тем более модели, универсальному средству познания действительности предполагает момент рассудочного логического конструирования на базе мифологии и даже более того - использование общемифологических структур для выражения современного содержания. Подобный подход к мифу уничтожает не только неповторимые для каждой национальной мифологии черты, (...) но противоречит и самой структуре мифа, её сущности и природе»18.
Становление оппозиции сакрального и профанного: притча в эпоху синкретизма и эйдетическую эпоху
Изучение генезиса притчи целесообразно проводить с позиций исторической поэтики, рассматривая развитие притчевых форм в чередовании поэтических эпох: эпохи синкретизма, эйдетической эпохи и эпохи художественной модальности76.
Н.И. Кравцов определяет притчу как жанр, предшествующий сказке, легенде, преданию и руководствуется в этом определении принципом «от простого - к сложному» . Н.К. Гей также считает притчу самой ранней формой древней прозы, которая, в свою очередь, породила сказочные и басенные жанры. Исследователь подчёркивает становление образного «ядра» в историческом определении искусства, соотнося этот процесс с моментом выделения из синкретического первобытного комплекса обрядово-магического действа художественной целостности мифа, притчи, предания, позже - сказки, песенно-былинных и басенных жанров, внутри которых образ получает реальную возможность для своего самовыдвижения .
С.З. Агранович и И.В. Саморукова связывают возникновение притчи с процессом десакрализации архаического мифа. «В рамках коллективного сознания десакрализация происходит через фольклор: мифологические тексты, утрачивая связь с отмирающим ритуалом, становятся принадлежностью возникающего искусства» . Исследователи наблюдают притчевые процессы в образованиях, первым из которых является фольклорная загадка, вторым - толкование традиционного мифа.
Авторы книги «Гармония - цель - гармония. Художественное сознание в зеркале притчи» пишут о существовании в древнем обряде инициации особого рода образования, «празагадки», в котором сакральное отгадывается сакральным. Концепция развития притчи из «празагадки» видится ученым неверной, потому что они делают акцент на том, что основа притчи - это сакрализация бытовой ситуации.
Обряд инициации проверяет знание мужчины-охотника сакральной картины мира. Возникновение обряда свидетельствует, прежде всего, о социальном расслоении древней общины на тех, кто достоин и тех, кто не достоин охотиться, размножаться, носить оружие и т.д. Инициация была предтечей института вождя и являлась первой формой стратификации по принципу «ты с нами или не с нами». Возникла она ещё на стадии верхнего палеолита в виде приема новичка в группу охотников.
Перед нами явное противоречие: условием прохождения обряда инициации было знание сакральной картины мира. Очевидно, что были и те, кто не проходил обряд. Значило ли это то, что у него знания о сакральной картине мира отсутствовали? Как же тогда быть с «мифопоэтическим представлением»? Грубым упрощением было бы предполагать, что женщины не имели такого представления, потому не проходили обряд инициации.
Такая проверка на сакральное знание, скорее всего, являлась замещающим предлогом. Доступ в группу самцов у животных всегда ритуален. При «знакомстве» новый член группы демонстрирует свои качества и сообразно с ними занимает положение в стае80. Знание сакральной картины мира - это знание мира вообще, поэтому ограничительным фактором могли стать только возраст и физическая сила, от которых и зависело, закончен или нет процесс социализации (вплоть до недавнего времени большую часть обряда инициации у племен, находящихся на первобытной ступени развития, составляли изнурительные физические испытания).
Противоречие снимается, если отделить явление инициации от усложненного обрядового действа. Инициация становится только вступлением в мир взрослых, то есть шагом на новую ступень мышления, при этом речь идет о любом члене общины, а не только об охотниках.
Корни противоречия лежат в понимании сознания эпохи синкретизма, как явления генетически не изменяющегося до самого момента превращения его в прозаически разделяющее сознание. Но внутри как традиционалистской (эйдетической) эпохи, так и эпохи художественной модальности наблюдаются периоды, которые отражают локальные изменения процесса разделения общего синкретического сознания на сакральное и профанное сознания. Стадия синкретизма тоже содержит такие изменения, на основании исследования которых целесообразно разделить этот этап на две существенно отличающихся друг от друга фазы: период собственно синкретизма и период отмирания синкретизма.
Период собственно синкретизма характеризуется, прежде всего, именно абсолютно синкретичным сознанием, которому неведомо разделение мира на профанное и сакральное.
Это период двух миллионов лет абсолютного слияния с природой прачеловека олдувайской эпохи раннего палеолита, когда природа была домом в буквальном смысле этого слова. Возможно, природа-дом не внушала страха, и в то время не существовало многочисленных табу. Природа была богом, и прачеловек, чувствуя себя её частью, был элементом космоса. Но он уже умел обрабатывать камни и сделал шаг к своему изгнанию из лона природы. Важным нюансом является то, что олдувайские люди, по-видимому, жили не общинами, а порознь.
В условиях ашельской эпохи (600 000 - 100 000 лет назад) невозможно было прожить в одиночку, поэтому люди объединялись в небольшие первобытные коллективы. «Ашельский человек уже умел поддерживать огонь и добывать его. В качестве жилищ использовались пещеры, обычно неглубокие гроты. Нередко люди селились на площадках под скальными навесами, которые защищали их от ветров. Известны и стоянки под открытым небом, на некоторых из них найдены остатки примитивных жилищ. Охота на крупных животных составляла основу хозяйства людей ашельской эпохи. Вспомогательную роль играло собирательство» . Дом, который уже не был природой, отделил человека от природной стихии. Нарождающийся быт разрушал целостность, синкретичность восприятия человеком мира.
Около 100 000 лет назад ранний палеолит сменился средним - эпохой мустье. Человек эпохи мустье обладал, видимо, зачатками членораздельной речи. Неандертальцы тоже жили коллективами и уже умели строить настоящие жилища из жердей, бивней и шкур мамонта, шили одежду, добывали огонь.
В этот период начинается эпоха отмирания синкретизма. Независимость людей от природы (прежде всего, от её капризов) означала постепенное отдаление человека от нее. Появилась хижина - совершенно другой, свой, человеческий дом. Он, как и оружие из камня, сделал человека более независимым. Мир вне дома стал другим миром - непредсказуемым, капризным, а потому - опасным. Человек начал понимать свою исключительность, своё отличие от природы . Создав быт, эту вторичную природу, человек укрылся в ней, как в скорлупе, ещё более подчеркнув оппозицию своего и чужого.
Соотношение сакрального плана и плана авторских идей в пьесе Б. Брехта «Добрый человек из Сычуани»
История о проститутке Шен Де, рассказанная водоносом Ваном, преследует своей целью обнажить корни общечеловеческой проблемы «доброго человека». Нравственно-этическая тематика вполне оправдывает выбор жанра. Пьеса представляет собой параболу, которая то погружает читателя в реальный мир китайской провинции Сычуань, то возносит в мифический мир путешествующих по земле богов, с высоты которого ярче видна «абсурдность доброго существования».
В параболе Б. Брехта остро встает вопрос об отграничении планов притчи от планов пьесы-параболы. В притче мы наблюдаем два плана: сакральный план и профанный план. При этом профанный план сливается с фабулой, а план абсолюта - с толкованием. В параболе Б. Брехта толкование дистанцируется от сакрального плана, который вообще может не присутствовать, а подменяется планом авторских идей. При этом фабула параболы начинает включать в себя толкование, которое, в отличие от факультативного толкования притчи, не только обязательно, но и несет на себе смысловую нагрузку.
Б. Брехт предназначает фабуле «охватывать все внешние проявления событий, содержать те факты и мгновенные порывы, которые должны доставлять удовольствие зрителям» . «Мысль - вот то главное, что должен разбудить спектакль» 171 , поэтому идейный план является двигателем действия. Такой способ проявления драматического противостоит тому, который К.С. Станиславский называл «сквозным действием», - выявлению смысла, «подводного течения» пьесы в самом развитии сценических событий . В. Пронин резюмирует основную идею «Доброго человека из Сычуани» следующим образом: «Мораль предопределена социальными предпосылками» . Воплотившаяся в лозунге «Сперва жратва, а нравственность потом!» («Трехгрошовая опера»), идея эта кочует из пьесы в пьесу Б. Брехта и в «Добром человеке» приобретает характер «подвешенного» вопроса: может ли человек быть добрым в исключающих доброту обстоятельствах, таких обстоятельствах, при которых добрый человек просто обречён на гибель. «Брехт-материалист гуманен: он полагает, что нельзя предъявлять человеку непомерные нравственные требования, не создав для каждого сносные условия для существования» .
В. Пронин здесь несколько смещает акценты проблемы. Речь в параболе идет скорее не о «сносных условиях существования», и не о «нравственных требованиях» как таковых. Мысль пьесы движет внимание аудитории не от профанного мира к Шен Де (создайте ей условия для реализации доброты), а от героини к профанному миру. План авторских идей представляет Шен Де и через неё судит весь остальной мир: Шен Де единственный человек во всем мире, способный действовать по законам Абсолюта. Если следовать мысли В. Пронина, - то сколь огромными должны быть нравственные требования к человеку, обеспеченному материально? Но не часто рантье становится, скажем, Флобером. И современная культура не подвигает рантье на нравственные подвиги, хотя именно это должно произойти, если перевернуть формулу «жратва сперва — потом нравственность»: «сытый обязательно будет нравственным» - против этого тезиса направлена полемическая мысль Б. Брехта.
Наслаждение нравственной силой не открывается в людях, не культивируется в них, потому как кажется, что это не то, что может двигать «прогресс», а, следовательно, и всё человечество вперёд. В параболе, помимо существующего в притче плана абсолюта, выделяется план идей автора. В «Добром человеке» этот план почти совпадает с планом Абсолюта. Увидеть составные части этого синтетической модели непросто, потому что план Абсолюта проявляется через героя-функционера Шен Де.
План авторских идей состоит из авторских интенций. Принципы «эпического театра» «учить и призывать» воплощены в параболе, основные свойства которой (как и свойства притчи) - дидактичность и аллегоричность. Принцип эпического театра - не воплощать определённое событие, но рассказывать о нем - соответствует констатирующему тону параболы.
На протяжении всей пьесы мы сталкиваемся с любопытной особенностью: слова героев непременно предвосхищают их действия. Создаётся иллюзия, что герои заранее знают о том, что им придётся делать. Так персонажи поясняют свои действия, и эти небольпше вставки образуют в параболе отдельный уровень толкования.
Ян Сун говорит Шой Да, что Шен Де пойдёт за ним (Суном), стоит только ему положить ей руку на плечо и сказать несколько ласковых слов. Затем так и происходит. Шен Де, огорчившись видом ребёнка, роющегося в помойке, предсказывает своё будущее: жестокость по отношению к другим, выраженную в принципе «с волками жить, по волчьи выть». И мы видим, как Шой Да захватывает домик-барак, предназначенный Шу Фу для бродяг, жестоко эксплуатирует тех, кому вчера так самоотверженно помогала Шен Де. Б. Брехт предваряет действия, поступки героев рассказом героев об этих событиях, чтобы освободить внимание читателя и акцентировать его на поиске ответа на вопрос: «Как поступить Шен Де?» Герои Б. Брехта не только предсказывают свои действия, но и поясняют их публике . 116 Женщина и Мужчина, обидевшие Шен Де в прошлом, приходят к девушке, когда она разбогатела, и утверждают, что Шен Де обязана приютить их в благодарность за те ласки, которыми они якобы осыпали её в прошлом. И Шен Де объясняет публике: «Шен Де: (публике) Когда гром гремел... Когда гроши, которые были со мной, кончились, они выгнали меня на улицу. Они, вероятно, боятся, что я откажу им. Бедняги: Они без приюта, Без счастья, без доли. Нужна им поддержка Как им откажешь?»176 Шен Де чаще других героев пьесы комментирует свои поступки, но и боги, и Племянница, и Мужчина, и Сун поступают так же. Эти вставки можно было бы назвать небольшими зонгами, но последние не служат пояснению, но являются либо типизирующими образами-символами («О восьмом слоне»), либо фигурами усиления и контраста («Терцет богов»). Вставками Б. Брехт заставляет зрителя оторваться от переживания действия и взглянуть на него с позиций не только наблюдателя, но и судьи.
План авторского комментария формируют интермедии. В них боги приходят к Вану, и водонос даёт светлейшим отчёт о том, что происходило во время их отлучки. При этом рассказ Вана - это не то, что действительно случилось, а то, как сам водонос понял события. Наивная (в истории о тюке предписаний и саде, где вырубают деревья, эта наивность граничит с всеведением) интерпретация происходящего оттеняет драматичность положения Шен Де. Поясняя прошлое, рассказы Вана нацелены на настоящее и будущее.
Можно сделать вывод о том, что план авторских идей в пьесе «Добрый человек из Сычуани» реализован трижды: рассказом, предваряющим действие, рассказом, комментирующим действие, и рассказом о событии, которое уже произошло.
План толкования в притче не обязательно совпадает с планом Абсолюта (так как последний может отсутствовать). В обрамляющих сюжетах толкование выполняет важную функцию: связывает общую идею «обрамленной повести» со смыслом, который скрыт в каждой из историй. План авторских идей параболы генетически восходит к общей идее «обрамленной повести», но нельзя утверждать, что план авторских идей параболы Б. Брехта тождественен такому же плану сборников историй и притч, так как комментарий в параболе Б. Брехта расположен не вне фабулы, а внутри неё. Сложная система комментариев играет в параболах драматурга роль медиатора между фабулой, планом идей автора и зрителем и образует план комментария.
Профанный и сакральный быт: притча в ранних рассказах Л. Андреева и романе Б. Пастернака «Доктор Живаго»
Рассказ Л. Андреева «Предстояла кража» относится к циклу рассказов об «обыкновенных» людях. Проблематика и поэтика цикла были родственны распространенным в конце XIX века произведениям прозы о «маленьких» людях. Из всех произведений, созданных Л. Андреевым с 1898 по 1904 г., в рассказе «Предстояла кража» особо отчетливо и многогранно проявились элементы притчи и притчевый характер повествования.
На притчевый характер произведения указывает специфика времени и пространства. Время в рассказе не имеет исторических примет, известно только, что действие происходит зимой, «нынче ночью». Такая неконкретность временной характеристики приближает рассказ к классической притче.
Повествование сосредоточено на пространстве, выхватывает из мира, окружающего героя, отдельные образы и «оживляет» их. Старый и прогнивший дом благодаря гротескному характеру описания приобретает черты «живого существа», перерождающегося из элемента предметного мира произведения в действующее лицо рассказа, нечто активное, участвующее в действии. В углах дома таятся страшные тени, быт становится источником ужаса и страха, который обволакивает героя рассказа, отталкивает его от вещей и предметов.
То же происходит и с улицей, на которую бежит из дому герой рассказа: Как и дом, улица гонит человека. В поисках укрытия герой бежит дальше. Укрытие от тайных шёпотов и пугающих теней герой находит на открытом пространстве замерзшей реки, где только поле и небо «холодными светлыми очами смотрели друг на друга» (84). Подобно будущим персонажам стихотворений А. Блока, герой рассказа Л. Андреева находит успокоение в мире стихии. В романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» мы обнаруживаем прямо противоположную ситуацию, когда персонаж стремится в быт, пытается выделить мир быта из хаоса, в котором смешались и стихии и быт (это изображают места романа, в которых рассказывается о занесенных снегом железнодорожных составах, в которых прятались и жили люди; Юрий Живаго стремится во чтобы то ни стало создать в Варыкино мир уюта и тепла, в котором мог бы укрыться он сам и любимые им). Как и пространство притчи, пространство рассказа неконкретно и открыто вовне. Не названо имя города, безымянны улицы и река. Действие перемещается из сумрака ужасающего героя дома на открытое пространство улицы и далее - на заснеженное пространство реки, за которым простерлась мгла, которая манит человека. При том, что система персонажей осложнена антропоморфными элементами пространства, центральным её образом является фигура человека без имени, что отсылает нас к особенностям поэтики классической европейской притчи, которой была свойственна безымянность персонажей. Когда повествование в начале рассказа заходит о центральном персонаже, на уровне текста восприятие читателя настраивается на воссоздание обобщенного образа человека, форма настоящего времени предполагает, что речь идёт не о конкретном, но о всяком человеке, «человеке вообще». «Когда человек один и бездействует, то все пугает его и злорадно смеется над ним темным и глухим смехом», «Когда человек один, его пугают далее люди, которых он давно знает» эти высказывания содержат в себе два смысла, они рассказывают и о герое рассказа, и о любом другом человеке, страшащемся бездействия. И лишь когда повествование переходит на форму прошедшего времени, персонаж становится конкретным (настолько, насколько может быть конкретным образ безымянного человека, являющегося носителем и выразителем одного лишь чувства). В качестве ещё одного персонажа рассказа-притчи Л. Андреева можно рассматривать щенка, из-за которого человек, которому предстояло совершить кражу, вернулся домой. Щенок появляется из ниоткуда, просто оказывается «в беспредельной пустыне». При этом повествователь словно раздваивается, он то уверен, что щенок выбежал вслед за человеком, то сомневается в этом. Человеку кажется, что щенок этот его, но «он не помнит (...) быть может, и щенка никакого у них в доме не было, а это воспоминание пришло откуда-то издалека, из той неопределенной глубины прошлого, где много солнца, красивых и странных звуков и где все путается» (87). Уже после того, как сомнение в принадлежности щенка человеку высказано, повествователь настойчиво повторяет, что человек гнал щенка к дому. После того, как человек поднял щенка за кожу на затылке «и так отнес на десять шагов ближе к дому» становится понятно, что человек гнал щенка к своему дому. Неуверенность повествователя в том, откуда щенок появился придает образу персонажа черты чего-то потустороннего, ирреального. Особенность соотношения сакрального и профанного в этом произведении состоит в том, что повествование сосредоточено на диалоге между человеком и неведомой ему силой. Человеку предстояла кража, во время которой не исключено было убийство. Не в силах оставаться дома, он выходит на улицу и идёт на простор замерзшей реки. Там он находит продрогшего щенка, жалеет и относит к себе домой. Таков внешний событийный ряд этого короткого рассказа. Резюме истории и её мораль приведены в тексте: «Ему красть, а он несет щенка» (88). Но эта достаточно простая схема осложняется диалогом, который звучит на всей протяженности повествования. Первый и самый главный участник диалога, голос которого заглушает все остальные голоса, носит имя «всё»: «Всё пугает его и злорадно смеется над ним темным и глухим смехом» (84). «Всё» - собирательный образ силы, ополчившейся против человека. Это и странная мышь, которая не перестаёт скрести, даже если над ней стучать палкой, и собака, вступающая в молчаливый заговор с прохожими, и дом, шепчущий человеку таинственные угрозы.