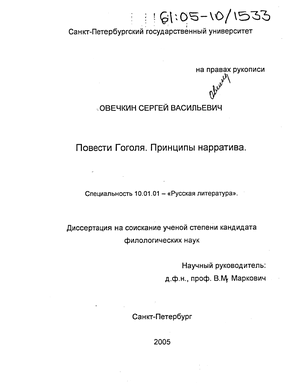Содержание к диссертации
Введение
Глава I. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 23
1. Эксплицитный и имплицитный читатель «Вечеров...» 23
2. Событие «преображения» мира 32
3. Событие «преображения» персонажа 41
4. Событие вставного рассказа 50
5. Событие «второго сюжета» 56
6. Событие «Ивана Федоровича Шпоньки...» 63
7. Выводы 67
Глава II. «Миргород» 69
1. Повествователь «Миргорода» 69
2. «Старосветские помещики». «Неистовая» идиллия 70
3. «Тарас Бульба». Романическая эпопея 80
4. «Вий». «Плутовская» трагедия 94
5. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: сатира «отчужденного» романтика 106
6. Трансформация жанра: сдвиг нарративной маски 116
Глава III. «Петербургские повести» 119
1. Введение 119
2. «Невский проспект»: конец света с неопределенными последствиями 120
3. «Нос»: деконструкция истории 126
4. «Портрет»: экскурсе полидискурсивность 132
5. «Записки сумасшедшего»: история души 139
6. «Шинель»: парадигматика vs. синтагматика 146
7. Выводы 158
V. Заключение 161
VI. Библиография
- Эксплицитный и имплицитный читатель «Вечеров...»
- Событие «преображения» мира
- Повествователь «Миргорода»
- «Невский проспект»: конец света с неопределенными последствиями
Введение к работе
Постановка вопроса о принципах нарратива в прозе Гоголя - это одновременно и предельно локализованная, и, очень широкая постановка вопроса. Связано это с двумя значениями понятия «нарративность»1. С одной стороны, мы имеем при этом в виду опосредованность повествуемого мира - его преломление через призму повествователя. С другой -событийность рассказываемой истории, то есть сюжетность повествуемого мира. Понятно, что поскольку повествователь характеризуется определенным языковым и мировоззренческим горизонтом, который может быть выявлен в большей или меньшей степени, а сюжетность, в свою очередь, отличается определенной структурностью, то принципы нарратива находятся в компетенции самых различных дисциплин - стилистики, композиции, герменевтики. В этом смысле практически любая работа о прозе Гоголя, общего и даже специального характера, касается принципов нарратива. И критики начала века, и исследователи 1920-х гг., и более поздние гоголеведы оставили в своих книгах наблюдения, иногда ставшие классическими, о принципах нарратива в прозе Гоголя2.
Однако возможен и более специальный взгляд на проблему - с точки зрения оформившейся в 1960-е гг. как особая дисциплина нарратологии. Системный взгляд на повествовательную ситуацию, с одной стороны, и структуру сюжета - с другой, взгляд, объединяющий их, характеризует этот подход, начало которому в отечественной науке положили формальная школа, М.М. Бахтин, В.Я. Пропп. В этом смысле проза Гоголя становилась объектом нарратологического описания достаточно редко. А монографической работы такого рода в гоголеведении на сегодняшний день просто не существует.
Пионерские работы формальной школы, создавшие основу современной теории прозы, вовсе не случайно часто брали в качестве материала прозу Гоголя. Это отчасти связано с возрождением ее традиций в
1 Шмид В. Нарратология. М., 2003. С. 11-13.
2 Так, например, невозможно не учитывать при описании гоголевского нарратива
книги В.В. Гиппиуса «Гоголь» (1924), А. Белого «Мастерство Гоголя» (1934), Г.А. Гуковского
«Реализм Гоголя» (1959) или более поздние стилеведческие исследования С.Г. Бочарова и
М.Н. Виролайнен.
символистском романе и орнаментальной прозе, отчасти с ее специфичностью (точно так же парадигматическим автором для теорий В. Шкловского стал крайне специфичный Стерн). Необычность гоголевской прозы и в контексте романтической повести, и в контексте реалистического романа была удобна для демонстрации «обнажения приема». Этот «обнаженный прием» и стал отправной точкой для первых, говоря современным языком, нарратологических работ, посвященных прозе Гоголя. Этими работами стали статьи Б.М. Эйхенбаума «Иллюзия сказа» (1918) и «Как сделана "Шинель" Гоголя» (1919). Находившийся под влиянием немецкой «слуховой» филологии, Б.М. Эйхенбаум первым заговорил о сказовой форме повествования как форме, создающей иллюзию устной речи, и отметил, что сказовая установка оказывает влияние на разные аспекты произведения - выбор слов и их постановку, синтаксические обороты и, что, пожалуй, важнее всего, композицию3.
Своеобразие концепции сказа у Эйхенбаума сказалось в трактовке им прозы Гоголя, которую он однозначно характеризовал как сказовую, лишь выделяя в ее эволюции подпериоды «сказок» и «особых форм сказа»4. Этот пункт, как и концепция сказа в целом, были оспорены В.В. Виноградовым в его работе «Проблема сказа в стилистике» (1925). Сказ был понят как «художественная имитация монологической речи, которая, воплощая в себе повествовательную фабулу, как будто строится в порядке ее непосредственного говорения»5. Это уточнение, переводящее понятие сказа из сферы слуховой филологии в сферу филологии «синкретической», оказало влияние на всю дальнейшую историю понятия. Мое диссертационное исследование, которое также не может не коснуться проблемы сказа, принимает в качестве отправной точки виноградовское определение.
Для гоголеведения оказалось не менее важным уточнение Виноградова, добавленное к пониманию гоголевской прозы как «сказовой». Ранние повести ученый однозначно определил как сказ - как «комическую
3 Эйхенбаум Б.М. Иллюзия сказа // Эйхенбаум Б.М. Сквозь литературу. Л., 1924. С.
152.
4 Там же, С. 155.
5 Виноградов В.В. Проблема сказа в стилистике // Поэтика. I. Временник словесного
отдела ГИИИ. Л., 1926. С. 33.
игру словесными уродствами» Рудого Панька и его захолустных приятелей . Но эволюцию Гоголя Виноградов трактовал иначе, чем Эйхенбаум: «Любопытен в этом отношении путь Гоголя, который, постепенно освобождаясь от захолустной обстановки и масок рассказчиков с ярлыками Рудого Панька, начал создавать сложные комбинации письменных, сказовых, ораторских форм монолога с диалогом («Шинель», «Мертвые души»). Здесь автор как бы постепенно поднимал сказовые приемы Рудого Панька на уровень норм литературно-художественной прозы, своеобразно их деформируя и сочетая с другими стилистическими элементами»7. Такой историзации здесь подвергается виноградовская концепция «оркестра голосов», в котором возникает «иллюзия непрестанной смены рассказчиков и неожиданной метаморфозы их в писателя-'книжника"»8.
Этот момент хотелось бы подчеркнуть особо. Виноградов отметил здесь, на мой взгляд, конститутивную черту гоголевского нарратива - его неоднородность. Это наблюдение, проверенное анализом текста, стало отправной точкой для данной работы.
Хотя виноградовские уточнения укоренились в науке, нельзя не отметить, что тезисы Б.М. Эйхенбаума также нашли продолжение в устойчивой традиции. Это, например, относится к его определению гоголевского сказа как «воспроизводящего», а также к следующему положению: «сюжет у Гоголя имеет значение только внешнее и потому сам по себе статичен <...> Настоящая динамика, а тем самым и композиция его вещей - в построении сказа, в игре языка»9. Подобные тезисы можно встретить у А Белого, у В. Набокова, а из современных ученых - у Д. Фангера, которого в известном смысле можно считать последователем Б.М. Эйхенбаума.
Гораздо более бесспорными представляются другие положения Эйхенбаума, также не утраченные наукой. Так, например, ученый пишет, что «прием доведения до абсурда или противологического сочетания слов часто
Виноградов В.В. Проблема сказа в стилистике. С. 37.
7 Там же, С. 39.
8 Виноградов В.В. Избр. труды: Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 191, 254-
255.
9 Эйхенбаум Б.М. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б.М. О прозе. П., 1969.
С.311.
встречается у Гоголя, причем он обычно замаскирован строго логическим синтаксисом»10. Содержательную интерпретацию ' повествовательных алогизмов даст впоследствии Ю.В. Манн.
Или другое, очень важное замечание о приеме, «придающем всей повести иллюзию действительной истории, переданной как факт, но не во всех мелочах точно известной рассказчику»11. Этот нарративный прием -игра с компетенцией повествователя - отмечается и в более поздних работах. Получит свою интерпретацию этот прием и в данном исследовании.
В.В. Виноградов занимался гоголевским повествованием и в других работах. Классическими стали книги «Этюды о стиле Гоголя» (1923), «Гоголь и натуральная школа» (1924), «Эволюция русского натурализма» (1928). И хотя именно здесь он будет говорить о принципиальном для нарратологии вопросе - необходимости различения автора и повествователя - и придет к концепции «оркестра голосов», его интересы здесь лежат главным образом в области стилистики (нельзя при этом не отметить его вклад в изучение композиции гоголевских произведений). Ученый отметит важность стилистических контекстов французской «неистовой школы», натуралистического «физиологизма», сопоставит Рудого Панька и его собеседников с рассказчиками романов Вальтера Скотта. Описание стилистики и языка Гоголя Виноградовым станет основополагающим для гоголеведения. Но собственно повествовательная ситуация уйдет из фокуса его внимания.
Для нашей темы куда важнее, однако, замечание Виноградова, сделанное им в статье «Проблема сказа в стилистике» - замечание о том, что «для стилистики вопрос о функциях рассказчика - проблема семантики»12. Сам ученый, как уже было сказано, занимался по преимуществу синтактикой гоголевского текста. Проблема семантической и прагматической интерпретации повествовательной ситуации решалась позднее применительно к отдельным текстам или группе текстов, но монографического описания прозы Гоголя с этой точки зрения, как было сказано выше, не существует. Отдельные приближения к такому описанию не могут служить примером удовлетворительного решения проблемы.
10 Эйхенбаум Б.М. Как сделана «Шинель» Гоголя. С. 313.
11 Там же, С. 318.
12 Виноградов В.В. Проблема сказа в стилистике. С. 27.
Поставленная формалистами проблема сказа как повествовательной техники Гоголя надолго оставалась центральной в тех случаях, когда ученые брали прозу Гоголя в нарратологическом аспекте. Этапной стала книга «Поэтика сказа» (1978)13, вводная глава которой дает обстоятельный обзор истории изучения формы сказа в литературоведении. В выделенном авторами жанре «сказовой новеллы» ученые находят два коммуникативных плана - между рассказчиком и его фиктивным слушателем и между автором и читателем. Эта коммуникативная ситуация интерпретируется учеными в семантическом и прагматическом аспекте: «особый интерес приобретает образ самого повествователя. Выступая в качестве субъекта речи, повествователь предстает как объект авторского исследования и читательского понимания»14.
Специфику этого повествователя авторы монографии находят в некоем сказовом «мы» - в установке повествователя на ценности известной социальной группы15. Из этой установки ученые и выводят особенности сказового повествования, в том числе повествования в сказах Гоголя.
К «сказовым новеллам» авторы монографии относят повести цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Нельзя не отметить безусловно ценные положения книги, относительно, например, фольклорности сказа Гоголя, которая состоит в самой «логике мышления рассказчиков и героев»16. Или такое наблюдение: «Множественность рассказчиков (вариативность) в «Вечерах» <...> подчеркивает многоплановость этого мира, то, что в нем таятся возможности самые разные»17. Однако ограниченность монографии локальным предметом исследования - «сказовой новеллой» - приводит к тому, что эволюцию принципов нарратива Гоголя с позиций этой группы ученых описать невозможно. Она предстает здесь так: формирование сказового типа повествования у Гоголя18 (причем уже на этом этапе отмечается возникновение «книжно-романтических» интонаций19), затем
13 Мущенко Е.Г., Скобелев В.П., Кройчик Л.Е. Поэтика сказа. Воронеж, 1978.
14 Там же, С. 28.
15 Там же, С. 69.
16 Там же, С. 70.
17 Там же, С. 72.
18 Там же, С. 64.
19 Там же, С. 87.
on ^
разрушение «чистого сказа» и возвращение к письменно-книжной традиции, к «образу автора»21.
Последняя формулировка показывает тот принципиально важный момент, в котором открывается концептуальная недоработанность нарратологии авторов монографии. В книге последовательно смешиваются две концепции автора. Одна из них следует виноградовскому определению, согласно которому автор - это «концентрированное воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с повествователем, рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся идейно-стилистическим средоточием, фокусом целого»22. Другая концепция предполагает возможность присутствия «прямого слова» автора в повествовании23. Логическое противоречие очевидно. Отсюда и концепция, утверждающая, что в Ich-Erzahlung (форма, которую авторы последовательно отграничивают от сказа) «"чужая" речь героя-повествователя не только способна сливаться с авторской, но проявляет устойчивую тенденцию к такому слиянию»24. Я предполагаю в своей работе последовательно руководствоваться процитированным виноградовским определением автора, и именно в соответствии с ним употреблять более позднее понятие «имплицитный автор» (В. Изер). В этом мои методологические позиции соответствуют позициям В. Шмида, вводящего понятие «абстрактного автора»25.
Поэтому недопустимо, на мой взгляд, рассматривать эволюцию гоголевской прозы как переход от сказового слова к слову «авторскому». Следует описывать специфику нарратора на каждом этапе эволюции повествовательных техник Гоголя, и к уровню автора (как «фокуса целого») приближаться не иначе, как посредством герменевтических процедур.
Важно отметить еще один принципиальный недостаток, свойственный, на мой взгляд, «Поэтике сказа». Авторы удачно отметили «протеистичность
Мущенко Е.Г., Скобелев В.П., Кройчик Л.Е. Поэтика сказа. С. 88.
21 Там же, С. 89.
22 Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971. С. 118.
23 Следует, впрочем, отметить, что и сам Виноградов не вполне последовательно
разграничивал «образ автора» и «нейтрального» повествователя.
24 Мущенко Е.Г., Скобелев В.П., Кройчик Л.Е. Поэтика сказа. С. 37.
25 Шмид В. Нарратология. С. 41-57.
носителя сказа» в «Серебряном голубе» А. Белого . Однако подобная «протеистичность» в сказе «Вечеров...» ускользнула от их интерпретации, ориентированной на смешение автора как смыслового фокуса и автора как субъекта речи. Полемика с трактовкой «Вечеров...», предложенной авторами коллективной монографии, предполагается в главе 1 данной работы.
Можно заметить, что существенные уточнения в эту трактовку уже были внесены более проработанной концептуально монографией Н.А. Кожевниковой «Типы повествования в русской литературе XIX-XX веков»27. Предметом исследования являются здесь «композиционные единства, организованные определенной точкой зрения (автора, рассказчика, персонажа), имеющие свое содержание и функции и характеризующиеся относительно закрепленным набором конструктивных признаков и речевых средств (интонация, соотношение видо-временных форм, порядок слов, общий характер лексики и синтаксиса)»28. Последовательное сочетание стилистического и композиционного аспектов, взятых с точки зрения семантической функции, является несомненным достоинством этой монографии, равно как и более, хотя не до конца последовательно выдержанное виноградовское (в соответствии с процитированной выше поздней работой) понимание категории автора. Как следствие, более убедительной теоретически и историко-литературно выглядит и интерпретация Н.А. Кожевниковой сказа у Гоголя.
Вводя оппозицию «сказового» и «книжного»29, автор монографии обращает особое внимание на повесть «Вечер накануне Ивана Купала». Удельный вес «книжного» в этой классической «сказовой» повести явно превышает ту норму, которую позднее установит реалистический сказ с его социальной определенностью рассказчика. Тем не менее, по мнению ученого, это - сказовая повесть: «определяющим оказывается функциональная значимость разных элементов, а не их количественное соотношение»30. Таким образом, здесь мы находим отмеченную выше
Мущенко Е.Г., Скобелев В.П., Кройчик Л.Е. Поэтика сказа. С. 148.
27 Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX-XX веков. М.,
1994.
28 Там же, С. 3.
29 Там же, С. 51.
30 Там же, С. 63.
«протеистичность» сказового рассказчика. Такое понимание гоголевского сказа, очевидно, утвердилось в современной науке: В. Шмид пишет применительно к гоголевскому сказу о рассеянном субъекте повествования31.
Повесть «Вечер накануне Ивана Купала», очевидно, была выбрана для анализа в силу ее яркой характерности, поскольку и сказ Гоголя в целом характеризуется Кожевниковой следующим образом: «книжное начало может быть столь явно выражено, что отдельные фрагменты, вырванные из контекста, не несут на себе признаков сказа и осознаются как сказ лишь в общей композиции целого произведения»32. Однако в силу теоретически поставленных задач монографии и широкого охвата материала это положение не получает достаточного развития. Практически не проясненным конкретными анализами остается вопрос о сказе применительно к другим повестям цикла «Вечера...» В этом отношении монография Кожевниковой ничего не добавляет к тезису Виноградова об «оркестре голосов». Соотношение «книжного» и «сказового» в повестях первого гоголевского цикла должно быть прослежено системно, причем должен быть поставлен вопрос о функции этого соотношения, чего также нет в монографии Кожевниковой. Оба эти аспекта станут предметом рассмотрения в главе 1 данного диссертационного исследования.
Необходимо специально остановиться на функциональном аспекте динамики «сказовое»/«книжное» в нарративе «Вечеров...», поскольку монография Кожевниковой является в данном случае последним словом гоголеведения, а значит, указанная лакуна не покрывается другими работами. Между тем, эта динамика, как всякое нарушение внутритекстовой нормы, может иметь не только стилистическую, но и сюжетную функцию. Здесь мы входим во вторую полусферу того значения, которое имеет понятие «нарративность». Сравнительно недавно появилось серьезное обобщающее и во многом новаторское исследование сюжета Гоголя - книга М. Вайскопфа «Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст»33. Исследование композиции гоголевских текстов было всерьез начато
31 Шмид В. Нарратология. С. 69.
32 Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX-XX веков. С. 64-
65.
33 Вайскопф М. Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. М., 1993.
русскими формалистами и имеет свою давнюю традицию, но книга израильского ученого, пожалуй, впервые дала полное (хотя, возможно, не бесспорное) морфологическое описание гоголевского сюжета. Автор книги, впрочем, не предложил структуралистской схемы, а дал максимально полный набор мотивов (единицы, вычлененные им, вряд ли можно назвать функциями), который с теми или иными вариациями реализуется в гоголевском тексте и который, очевидно, является дериватом схемы волшебной сказки по В.Я. Проппу. Таким образом, инвариант гоголевского сюжета можно считать описанным.
Однако здесь мы сталкиваемся с теоретическим вопросом - дает ли морфологический подход действительный ключ к сюжету? Иными словами, можно ли говорить о сюжете, не проанализировав уровень наррации и ее презентации? Я считаю, что элиминировать вопрос о том, что происходит с мотивами при их нарративизации, анализируя сюжет, нельзя35. И здесь открывается настолько широкое поле для исследования, которое имело бы отправной точкой тот или иной инвариантный список мотивов, что один этот вопрос мог бы стать темой самостоятельной большой работы. Вот почему в этой именно форме задача мной не ставилась. Однако категория «события» вошла в фокус моего внимания; предполагается выделить в сюжете Гоголя ряд событий, которые являются следствием той или иной динамики именно на уровне наррации и ее презентации. Системный подход к событию такого рода в гоголеведении еще не применялся; и одно из важных мест в этой части исследования займет изучение сюжетной динамики, возникающей при актуализации перехода «сказовое»/«книжное». Оно должно заполнит ту лакуну в исследовании Н.А. Кожевниковой, о которой речь шла выше.
В монографии Н.А. Кожевниковой существенны также наблюдения автора над нарративом «Мертвых душ». Функциональную интерпретацию
34 Кроме уже указанных, можно назвать, например, работу: Слонимский А.Л. Техника
комического у Гоголя. Пг., 1923.
35 По замечанию В. Шмида, метод морфологического анализа реконструирует не
структуру «сюжета», а структуру «истории» («фабулы») - Шмид В. Нарратология. С. 155. С
минимальными оговорками это замечание относится и к результатам исследования В.Ш.
Кривоноса, изложенным в его монографии «Мотивы художественной прозы Гоголя» (СПб.,
1999).
получили «формулы обобщения» , развивающиеся от типизаторской активности повествователя к открытию тотального масштаба обобщения в медитациях «автора»; отмечены такие конститутивные черты гоголевского нарратива, как неоднородность повествования, игра с компетенцией повествователя37; особо поставлен вопрос об активной роли эксплицитного читателя, вовлекающей реального коммуниканта в диалог с текстом, т.е., по сути, о герменевтической ситуации. Все эти аспекты, но на своем материале, я прослеживаю в диссертационном исследовании.
Нарратив «Мертвых душ» стал предметом описания в еще одной работе, ставшей классической - книге «Нарративные маски русской художественной прозы» М. Дрозды38. Эта книга представляет не только историко-литературный, но и несомненный теоретический интерес. Ключевым для нее стало положение о том, что художественный смысл нарратива представляет собой результат взаимодействия между предметом повествования и нарративной точкой зрения текста в ее отношении к предмету, с одной стороны, и к реципиенту, с другой. Операционально удобным представляется само понятие «нарративной маски», как раз и определяемой этим взаимодействием. Из чрезвычайно плодотворных для данного диссертационного исследования теоретических замечаний приведем только одно: «сюжет <...> не независим от нарративной точки зрения, а создается именно ею как наделяемая смыслом последовательность событий, как результат определенной их интерпретации»39. Это положение, входящее в резонанс с теорией В. Изера40, будет последовательно применяться мной в ходе исследования.
Исследование нарратива «Мертвых душ» в книге Дрозды привело к весьма ценным результатам. Прежде всего, отмечено, что «в «Мертвых душах» авторское «я» [М. Дрозда, разумеется, говорит здесь о повествователе - CO.] не заняло постоянный пункт наблюдения»41.
Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX-XX веков. С. 93.
37 Там же, С. 92-100.
38 Дрозда М. Нарративные маски русской художественной прозы // Russian Literature.
Amsterdam, 1994. Vol.35, №3/4.
39 Дрозда M. Нарративные маски русской художественной прозы. С. 306.
40 Iser Wolfgang. L'acte de lecture. Bruxelles, 1985.
41 Дрозда M. Нарративные маски русской художественной прозы. С. 373.
Следствием этого является и вариативность компетенции повествователя, и стилистическая вариативность повествования. Обобщая, автор говорит, что «видение мира в его тотальности то и дело превращается в погружение в локальную стихию действия и наоборот: прямо из неподвижного пространства «мертвых душ» обращаясь в необъятный мир движения и свободы, автор, этот голос бесконечного, постоянно подчиняется зачислению и локализации»42. Это чрезвычайно ценное и емкое определение онтологии «автора» «Мертвых душ». Не менее ценным представляется общий вывод, который можно отнести (как показал анализ, проведенный в моем исследовании) ко всей прозе Гоголя: «Гоголевский повествователь всегда на сцене в виде непрерывного изменения угла зрения, т.е. в виде главного, обнаженно-активного начала семантического построения текста»43. В книге Дрозды, однако, это положение не проиллюстрировано. В силу локальности объекта описания и небольшого размера главы о Гоголе даже тема нарратива «Мертвых душ» сохраняет возможность дальнейшего, более подробного исследования. Главный же объект моей работы - повести Гоголя - книгой Дрозды не затронут вовсе.
М. Дрозда, говоря об отношении повествовательной ситуации к реципиенту, выходит к еще одной важной нарратологической проблеме -проблеме эксплицитного и имплицитного читателя. Она также не обойдена гоголеведением, как отечественным, так и зарубежным. Существует монография В.Ш. Кривоноса «Проблема читателя в творчестве Гоголя»44, в которой осуществляется многоаспектное рассмотрение проблемы. Темами отдельных глав стали проблема читателя в самосознании Гоголя, реальные и фиктивные автор и публика в пьесе «Театральный разъезд», но для данной диссертации особое значение имеет глава «Автор и читатель в гоголевском повествовании». Исследователь дает очерк образа читателя в русской прозе 1830-х гг., отмечая, что эта проза усваивает «опыт непринужденной беседы автора со своим адресатом»45. В этом контексте и рассмотрены различные формы эксплицитной драматизации читателя в гоголевском повествовании. «В повествовании», пишет В.Ш. Кривонос, «возникают различные
42 Дрозда М. Нарративные маски русской художественной прозы. С. 374.
43 Там же, С. 380.
44 Кривонос В.Ш. Проблема читателя в творчестве Гоголя. Воронеж, 1981.
45 Там же, С. 56-57.
коммуникативные планы» : горизонт повествователя, в котором находится фиктивный читатель, соотносится с горизонтом автора, в который входит читатель реальный. В результате этот последний усваивает язык алогизмов и других повествовательных приемов, возникает предполагаемое в «концепированном читателе» единство с авторской позицией. Автор оговаривает, что «проблема, поставленная в настоящей главе, далеко не исчерпана»47, поясняя, что усилия в работе были сосредоточены на главном для нее вопросе: «как в писательской практике и эстетике Гоголя осуществлялась взаимосвязь проблем смеха и читателя»48. Между тем, очевидно, что установлением общей комической перспективы проблема читателя в повествовании Гоголя не ограничивается. С другой стороны, недостаточно проанализировать эксплицитные формы выражения этой категории. Спектр возможных перспектив, предполагаемых для имплицитного читателя, следовало бы поставить в связь с анализом репертуара текста и текстовых стратегий49. В своей работе я по преимуществу рассматриваю этот аспект. Вопрос о возможном влиянии мной ставится редко или не ставится вовсе, существенным является само описание допустимой конкретизации смыслообраза или описание герменевтической ситуации.
Несколько ранее, чем книга Кривоноса, вышла из печати статья Д. Фангера «Гоголь и его читатель»50. Несмотря на небольшой объем, проблема рассматривается здесь также многоаспектно, однако изложение носит тезисный характер. Ключевым понятием становится «опыт» читателя, а предметом анализа - способы, благодаря которым этот опыт становится читателю доступен. Как следствие, Фангер рассматривает повествовательные техники Гоголя - в «Вечерах...» (со ссылкой на книгу ВВ. Гиппиуса обозначен репертуар повестей), «Миргороде», в других группах текстов и произведениях. Ничего принципиально отличного от традиции тезисы Фангера не содержат, но предмет последовательно рассмотрен в читательской перспективе. Концентрированным выражением сути статьи
Кривонос В.Ш. Проблема читателя в творчестве Гоголя. С. 67.
47 Там же, С. 101.
48 Там же, С. 145.
49 Iser Wolfgang. L'acte de lecture. II. Ch. 1, 2.
50 Fanger D. Gogol and His Reader. Stanford, 1978.
Фангера является следующее утверждение: в классически «гоголевском» произведении «проблематика вызывающе смещена с опыта, переданного в тексте ("содержание") на читательский опыт текста»51. Это положение, как и тезис о «дразнящем читателя»52 произведении, продуктивны для концепции ученого, поскольку не остаются на уровне формального, а переводятся на уровень описания герменевтической ситуации.
Поскольку ряд положений статьи Д. Фангер затем повторил в своей монографии «Творение Гоголя»53, целесообразно здесь же рассмотреть эту книгу. Нарратив Гоголя все время остается в фокусе внимания автора. На сегодняшний день это наиболее полное и удовлетворительное описание гоголевского повествования. Единственным его недостатком можно считать некоторую тезисность изложения и нехватку убедительных примеров. Впрочем, тезисы Фангера настолько выверены и свежи, что систематический их подбор может служить введением в любую работу по данной теме.
Вполне удовлетворительно охарактеризован нарратив «Вечеров...»: «игра с контрастными стилями и нарративными позициями, избегающая идентификации с любой из них»54. Привлекает уместное использование историко-литературного подхода - указание на новаторство фольклоризма Гоголя, смешивающего «сверхъестественные элементы народной традиции с элементами современного, личного нарративного сознания. Это, разумеется, приводит к соединению двух несоединимых поэтик, что вызывает постоянную интерференцию систем <...> в которой не только идентичность людей и вещей, но и идентичность нарративной перспективы становится объектом изменений настолько же резких, насколько немотивированных»55. Тезис этот вполне подтверждается системным аналитическим подходом (см. глава 1), но требует дальнейшего развития -во-первых, как говорилось выше, сюжетологического, во-вторых, мифопоэтического и, далее, эстетического. Считающий Гоголя модернистом avant la lettre Фангер избегает весьма уместной в данном случае категории
51 Fanger D. Gogol and His Reader. P. 80.
52 Ibid., P. 79.
53 Fanger D. The Creation of Nicolai Gogol. Cambridge, Massachusetts; London, 1979.
54 Ibid. P. 86.
55 Ibid., P. 91.
гротеска, использованной в моей историко-литературной интерпретации «Вечеров...».
Описано изменение повествовательной ситуации в «Миргороде»56. Однако сами отдельные повести охарактеризованы, на мой взгляд, неудовлетворительно. Не вызывают возражения отдельные тезисы - о том, что «новая цель - сложность»57, что в центре проблематики становится «ценность определенного образа жизни в духовной экономии случайного посетителя [нарратора - СО.]»58. Но показательно, что по поводу «Тараса Бульбы» сказано лишь о «неудобствах, связанных с всезнающим повествователем»59. Очевидно между тем, что центр тяжести нарратологической проблематики лежит здесь в соотношении романного и эпопейного. А Фангер слишком легковесно относится к жанру -«Старосветские помещики» однозначно охарактеризованы как идиллия, «Повесть о том...» - как нечто не имеющее отношения к сатире (взамен предлагается «чистый эстетический эффект»60), а «судьба Хомы Брута» свободно подвешивается между вызванными текстом системами значения61, хотя трудно не заметить ее укорененность по крайней мере в двух таких системах - плутовском и романтическом текстах (смешавшихся в барочный композит) - и отчетливую трагедийность этой судьбы. Следует отталкиваться при анализе «Миргорода» от поэтики жанра, и тогда сложность нарратива получит убедительное историко-литературное объяснение. Эту задачу ставит глава 2 моего диссертационного исследования.
Наиболее убедительными выглядят тезисы Д. Фангера о «петербургских повестях», поскольку там его ключевое положение («Замешательство <...> не ограничивается опытом гоголевских персонажей, а окрашивает читательский опыт гоголевского протеического повествования»62) находит наилучшие иллюстрации. «Петербургские повести» действительно чрезвычайно уместно описывать с точки зрения той
Fanger D. The Creation of Nicolai Gogol. Cambridge, Massachusetts. P. 95.
Ibid., P. 95.
Ibid., P. 96.
Ibid., P. 99.
Ibid., P. 107.
Ibid., 102.
Ibid., P. 92.
герменевтической проблемы, которую они ставят перед читателем. И здесь действительно логично взять за отправную точку характеристику стратегии текста как «изначального дразнящего намека»63. Но и тут возможны уточнения и дополнения. Можно подробно проанализировать соотношение истории и наррации в «Невском проспекте» и «Шинели». «Нарративную полифонию» «Портрета»64 можно рассмотреть в ее генезисе из «монофонии» первой редакции. Голос «одинокой объективированной души»65 Поприщина можно рассмотреть в его характерной и принципиальной двуплановости. Трудно что-нибудь добавить к характеристике герменевтической ситуации повести «Нос»: «Большинство этих интерпретаций правдоподобны <...> но каждая неубедительна, поскольку слишком многое в тексте ускользает от них. Гоголь создал головоломку, к которой могут подойти многие ключи, но ни один ее не открывает»66. Но можно описать связанный с онтологией субъекта текста нарративный прием, который эту ситуацию конституирует. Словом, целью в данном случае (см. глава 3) будет - компенсировать тезисность Фангера и, где это необходимо, уточнить его положения.
Из наблюдений над «Мертвыми душами» наибольший интерес представляет замечание о синтезирующей установке романа67. В заключении, намечая перспективы дальнейшей работы, я буду говорить об этом.
Если же характеризовать книгу Фангера в целом, то это типичная работа конца 70-х. Не случайны в ней слова о «чистом удовольствии повествования»68 и «удовольствии от текста»69. И если к ней необходимы коррективы, то это будут коррективы историко-литературной методологии к известным традициям западной критики.
Фангер Д. В чем же, наконец, существо «Шинели» и в чем ее особенность // Н.В. Гоголь: материалы и исследования. М., 1995. С. 58 (эта статья является русским переводом раздела о «Шинели» из книги «Творение Гоголя»).
64 Fanger D. The Creation of Nicolai Gogol. P. 114.
65 Ibid., P. 116.
66 Ibid., P. 120.
67 Ibid., P. 182.
68 Ibid., P. 92.
69 Ibid., P. 262.
Еще более необходимы такие коррективы к книге К. Попкин «Прагматика незначительности: Чехов, Зощенко, Гоголь»70. Раздел этой интересной работы, посвященный Гоголю, занят исключительно нарративом, но из всех принципов нарратива Гоголя Попкин выбрала один: избыточность, словесную плодовитость гоголевского письма, или, если более подробно, «способность расширяться» («описания», «сообщения», «спецификация», «повторы» и пр.) и «случайность» («отсутствие последовательности», «отсутствие релевантности»). Дав почти полный список интерпретаций гоголевской «полноты», ученый характеризует эту полноту как «болтовню»71. Рудый Панько и Поприщин являются, согласно автору, не «источником» гоголевского дискурса, а его «инскрипцией»72. Мотивы гоголевских сюжетов оказываются тематизациеи дискурсивных практик. Прагматический аспект описываемого нарратива состоит в активности читателя, не прекращающего чтение несмотря на то, что текст обманывает его «желание». Этот комбинированный лакановско-дерридеанский подход приходит к предписанной исследовательскими предпосылками интерпретации: читатель движим «напрасным поиском субстанции в мире размножающегося текста»73. Как признает сам ученый, его исследование - «это читательская стратегия, а не описание композиции гоголевских произведений»74. В этом и состоит его единственный недостаток (как философская эссеистика это вполне приемлемо). Неудивительно, что даже единственное бесспорное наблюдение К. Попкин - «нашему доступу к истории препятствует именно медиум, который должен представлять ее»75 - относится (на мой взгляд) лишь к ограниченной группе текстов. Анализ (см. глава 3) должен показать, в отношении к каким текстам это утверждение верно. Эта критика также нуждается в историко-литературной компенсации.
Popkin С. The Pragmatics of Insignificance: Chekhov, Zoshchenko, Gogol. Stanford, 1993.
71 Ibid., P. 129.
72 Ibid., P. 170.
73 Ibid., P. 203.
74 Ibid., P. 208.
75 Ibid., P. 14.
На этом фоне классическим образцом выглядит описание гоголевского повествования Ю.В. Манном в его «Поэтике Гоголя»76. Прежде всего, рассматриваемый прием - «алогизм в речи повествователя»77 - рассмотрен вместе с системно связанными с ним приемами: его двойником - «странное и неожиданное в суждениях персонажей» - и целым рядом других, объединенных в две группы: странно-необычное в плане изображения и в плане изображаемого. Отмечено сочетание этих форм с психологически мотивированным, «правильным» ходом действия. Во-вторых, эта система приемов помещена в контекст эволюции гоголевской поэтики - эти «странности» органически вырастают из «завуалированной фантастики» предшествующих произведений. В третьих, эволюция эта рассмотрена в контексте литературной эволюции эпохи: «на границе 20-30-х годов прошлого века вопрос о фантастике приобрел в европейской литературе методологическую остроту»78. В результате не только выяснена функция приема (создание, в системе с противоположным приемом, неоднозначной, неопределенной онтологии художественного мира), но и место его в координатах исторической поэтики79.
Одна из возможных интерпретаций «аномальной» онтологии, связь хаоса и алогизма с демонической силой80 (у Гоголя есть тексты, где хаос логичнее связать с карнавальностью81), принята В.М. Марковичем в его монографии «Петербургские повести Н.В. Гоголя»82. Большая часть этой книги посвящена принципам нарратива в «петербургских повестях». Отметив один из принципов - гетерогенность субъекта повествования - автор выстроил целостную концепцию синтактики и семантики нарратива «петербургских повестей». Поскольку в главе 3 анализ будет поэтапно сопоставляться с тезисами В.М. Марковича, изложение этой концепции отнесено в указанную главу. Здесь хотелось бы лишь сказать, что, как и в
76 Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996.
77 Там же, С. 99.
78 Там же, С. 118.
79 Наблюдения Ю.В. Манна над нарративом «Мертвых душ» здесь не описываются.
Они будут учтены в заключении непосредственно при рассмотрении этой периферийной для
данной работы темы.
80 Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. С. 76.
81 Там же, С. 9-38.
82 Маркович В.М. Петербургские повести Н.В. Гоголя. П., 1989.
случае книги Д. Фангера, мой анализ будет носить дополнительный и уточняющий характер. Он должен показать, что такие уточнения и дополнения возможны. Одним из дополнений станет итоговая постановка вопроса об интерпретации «хаотического» нарратива, которая решила бы парадокс гоголевской художественной апокалиптики83, сочетавшейся у автора «Арабесок» с чувством исторического процесса в духе послегердеровского историзма84.
Проделанный обзор показывает то существенно важное, что описано наукой как принципиальные моменты гоголевского нарратива85. Эти достижения являются отправной точкой и необходимым фоном понимания моего диссертационного исследования.
Обзор также показал, какие лакуны существуют в нарратологии Гоголя. Нет адекватного современной теории повествования системного описания нарратива «Вечеров...». Отсутствует описание нарратива цикла «Миргород», которое бы учитывало ключевой вопрос поэтики этих повестей - поэтику жанра. Сюжет Гоголя описан таким образом, что из рассмотрения выпали события сюжетного текста, организуемые динамикой на уровне наррации и ее презентации. Работы, оперирующие понятием «читатель», практически не ставят вопроса о репертуаре текста и связанных с ним стратегиях. Не осуществлена возможная и даже необходимая для гоголевской поэтики мифопоэтическая и связанная с ней историко-литературная интерпретация динамичности нарративной перспективы. Сама динамичная нарративная маска повестей Гоголя подчас уходит из поля внимания исследователей. Даже наиболее удачно описанный нарратив «петербургских повестей» все
Маркович В.М. Петербургские повести Н.В. Гоголя. С. 138.
84 «Гоголь считает "дьявольским наваждением" не земное начало (в том числе и
языческое, чувственное в нем), но как раз его разрушение» (Манн Ю.В. Поэтика Гоголя.
Вариации к теме. С. 75).
85 Из новейших работ следует указать статьи С.А. Шульца: 1) Миф о художнике в
контексте нарративной двуплановости повести «Вий» // Гоголезнавчі студії. Гоголеведческие
студии. Нежин, 2004, №5; 2) Записки сумасшедшего Н.В. Гоголя: топика и нарратив // Slavica
Tergestina / 10. Trieste, 2002. Но это скорее многообещающие заявки на дальнейшую
большую работу. Не рассмотрены в обзоре также книги: Driessen F.C. Gogol as a short-story
writer. A study of his technique of composition. The Hague, Mouton, 1965; Кривонос В.Ш.
«Мертвые души» Гоголя и становление новой русской прозы. Проблемы повествования.
Воронеж, 1985. Эти работы учитываются в ходе исследования.
еще требует к себе внимания - отчасти из-за пренебрежения ориентированных на формальную школу ученых уровнем истории, отчасти из-за неполноты контекста описания, то есть невнимания к репертуару текста, отчасти же потому, что контекст актуального гоголеведения ставит вопросы, на которые может ответить лишь повторное обращение к анализу.
Актуальность исследования, таким образом, обусловлена прежде всего отсутствием монографического описания принципов нарратива в повестях Гоголя. Это значит, что композиция повестей еще далеко не изучена. Далее, такое описание даст возможность семантической и прагматической интерпретации повествовательной ситуации. Эта возможность будет содействовать решению спорных вопросов в герменевтике произведений Гоголя.
Цель диссертации - описать функции конститутивного принципа гоголевского нарратива - неоднородности повествования - в системном соотношении с другими его принципами и в историко-литературном контексте.
Основные исследовательские задачи:
1. Системно описать динамику «книжное»/«сказовое» в цикле
«Вечера...» в соотношении с другими динамическими формами уровня
наррации и ее презентации и предложить ее сюжетологическую и
эстетическую интерпретацию.
2. Описать динамику нарратива повестей цикла «Миргород» в связи с
сущностными для цикла проблемами поэтики жанра.
3. Описать взаимодействие наррации и истории в текстах
«петербургских повестей», имея в виду герменевтическую ситуацию, которую
создает это взаимодействие.
4. Исследовать нарратив, постоянно применяя категорию
«имплицитный читатель» в аспекте репертуара текста и текстовых стратегий.
Материал исследования - циклы повестей Гоголя. Группировка материала по циклам выбрана в силу принципиальной важности принципа циклизации для гоголевской поэтики и выявленной общности принципов нарратива для каждого цикла. Вне рассмотрения остаются повести, не входящие в циклы, поэма «Мертвые души», принципы повествования в которой требуют, в силу синтетической поэтики, отдельного рассмотрения, и неповествовательные произведения Гоголя. При необходимости к анализу
привлекаются ранние редакции, современные повестям статьи и переписка Гоголя.
Методология. В основе исследования лежит современная теория повествования, разрабатывавшаяся В.В. Виноградовым, М.М. Бахтиным, Ю.М. Лотманом, Б.А. Успенским, Е.В. Падучевой, Ж. Женеттом, В. Шмидом и другими учеными. В соответствии с ней повествовательная ситуация рассматривается с точки зрения ее семантической и прагматической функций. Основным категориальным аппаратом становится система понятий «точка зрения, событие, история, наррация, презентация наррации». При этом художественная повествовательная проза рассматривается как эстетический феномен, что предполагает учет категорий исторической поэтики А.Н. Веселовского и обращение к современным вариантам историко-литературной методологии (Ю.В. Манн, А.В. Михайлов).
В то же время используются некоторые достижения рецептивной эстетики (В. Изер) и герменевтики (Г. - Г. Гадамер).
Научная новизна исследования. Впервые осуществлено монографическое описание нарратива повестей Гоголя, исходящее из одной его многофункциональной характеристики - неоднородности повествования.
Исследованный в ходе работы историко-литературный контекст показал, что эта черта весьма специфична: нормой для повествования 1820-1830-х гг. является его гомогенность. Можно предположить, что использованная оппозиция «гетерогенность/гомогенность повествования» не только релевантна, но и обладает большой эвристической ценностью, что делает возможным дальнейшие исследования русской прозы в этом направлении.
Привлеченный к описанию нарратива Гоголя контекст русской прозы 1820-1830-х гг., как правило, или не был ранее указан, или не была проинтерпретирована семантическая ценность сопоставления с этим контекстом, что делает возможным использование отдельных наблюдений в комментаторской практике.
По ходу изложения обнаруженный материал интерпретировался таким образом, что интерпретация, как правило, оказывалась в каком-либо принципиальном отношении новой для гоголеведения.
Необходимые выводы из проделанной работы будут изложены в Заключении.
Эксплицитный и имплицитный читатель «Вечеров...»
Отношение между эксплицитным и имплицитным читателем первого цикла Гоголя предсказывает встречающуюся в русской повести 1830-х годов схему: конфликт или ложное согласие с эксплицитным читателем vs. истинное согласие с читателем имплицитным (В.Ф. Одоевский, А.Ф. Вельтман)1. Причем в последнем предполагается соучастие в новаторской литературной позиции автора-романтика. Иронический образ читателя «Вечеров...» в первом предисловии к циклу («"Это что за невидаль: Вечера на хуторе близ Диканьки? Что это за вечера? ... »2) спроецирован на существующий в культуре образ читателя предромантического текста таким образом: для читателя-современника здесь был очевиден намек на цикл А. Погорельского «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (1828)3. В этом цикле Малороссия была более или менее условным местом рамочного диалога, окружавшего достаточно традиционные опыты в повествовательном жанре: сентименталистские «Изидор и Анюта» и «Путешествие в дилижансе», нравоучительную переделку Гофмана «Пагубные последствия необузданного воображения» и первый в русском нарративе опыт синтеза романтических новшеств с фольклорной фантастикой - «Лафертовская маковница». Однако действие последней повести происходит в Москве, так что можно сказать, что собственно украинскую этнографическую экзотику в этом цикле предшественник Гоголя не использовал. Рамочная конструкция цикла Погорельского создавала сильную установку на «просвещенное» дистанцирование от этой экзотики ( «Кому случалось слышать это пение в северной Малороссии, тому не покажется непонятным, что я не сердился на лай собак, крик филинов и визг летучих мышей, от времени до времени заглушавших песни красавиц»4). «Простонародный» романтизм «Вечеров...» настолько резко с этой установкой порывал, что сильная социальная маркированность третьей фразы предисловия «Вечеров...», «произносимой» тем же предполагаемым читателем («И швырнул в свет какой-то пасичник!»), была более чем оправдана новым подходом к фольклорному материалу.
Какое именно значение проза Погорельского имела для «Вечеров...» (это было значение контрастного фона), видно из сопоставления гоголевского цикла с семейно-авантюрным романом «Монастырка» (1830; 1833). Некоторые общие с Гоголем образы (прежде всего картина ярмарки и «цыганский атаман Василий») Погорельским включены в систему совершенно другого жанра, с другой, более конвенциональной поэтикой, на правах фактора местного колорита (роль «цыганского атамана» -романтического «помощника» в авантюрном сюжете возникла во 2 части романа едва ли не вслед за уже вышедшей «Сорочинской ярмаркой»).
Намек на текст романа Погорельского (гл. 2, «Вместо предисловия», впервые: «Литературная газета», 1830) также присутствует в предисловии к первой части гоголевского цикла. Ср. у Погорельского: «Я в Петербурге читала Жуковского сочинения и помнила, что он говорит о бардах ... барда, в дистракции мне как-то представилось, что которую так хвалят, должна быть жена какого-нибудь барда или поэта ... Здесь барда не то, что у вас в Петербурге: здесь так называют гущу, которая остается на дне, когда делают вино!» (169). У Гоголя: «Это у нас вечерницы\ Они, изволите видеть, они похожи на ваши балы; только нельзя сказать, чтобы совсем. На балы, если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку; а у нас соберется в одну хату толпа девушек совсем не для балу ... и сначала будто и делом займутся: веретена шумят, льются песни ... нагрянут в хату парубки с скрыпачом - подымется крик, затеется шаль, пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя» (I, 69).
Сопоставление это интересно в нескольких отношениях. Во-первых, повествователь Гоголя здесь прямо адресуется к своему «просвещенному» читателю, противопоставляя, как и Погорельский, «чужой» «Петербург» (« ... про сад и говорить нечего: в Петербурге вашем, верно, не сыщете такого», I, 71) и «свою» «Малороссию». Во-вторых, имплицитно предполагается (как и в начале предисловия) читатель, способный оценить эту игру с претекстом, то есть читатель, знакомый с системой литературных условностей, которая представляла литературный образ Малороссии, и соучаствующий в ее пересоздании новым автором. При этом (в-третьих) меняется способ противопоставления: из невинного каламбура монастырки получается «проникнутое знанием света» замечание рассказчика, «своего» народной культуре.
В дальнейшем изложении я исхожу из принятого в литературоведении понимания функции рамочной конструкции, которая в подобных случаях задает способ восприятия системы персонифицированных рассказчиков. Снятие дистанции между повествователем и повествуемым миром создает условия сближения литературного жанра и фольклорного жанра-субстрата. С другой стороны, противопоставление «своего» и «чужого» предполагает в данном случае возможность описаний, рассуждений и обобщений, построенных на представлении рассказчика о «светской» культуре. Большее или меньшее (подчас довольно глубокое) знание о ней входит в компетенцию повествователя. Нарративная маска рамки динамична. Именно это ее качество является той доминантой, которую повествование рамки передает частям цикла.
Отношения «Вечеров...» к конвенциональному образу «Малороссии» нуждаются в некотором рассмотрении. То значение, которое имела для «поэтизации» литературной Украины романтическая и пушкинская поэма («Полтава», «Воинаровскии»), не должно остаться неучтенным: этот контекст, в каждом случае по-разному, создавал условия для поэтического видения этнографической экзотики. С прозаическими произведениями дело обстоит несколько иначе. Проза Нарежного, скорее всего, была адресована другому кругу публики, нежели тот, который в 1831 г. адекватно прочел романтическую повесть Гоголя (в 1824 г., когда вышли «Запорожец» и «Бурсак», потенциальный читатель Гоголя в русской литературе интересовался романтической поэмой и повестью, элегией и балладой). По-своему далек от романтической повести Гоголя Погорельский. Ближе всех к Гоголю, и по времени, и в подходе к экзотике оказывается О. Сомов, но и его фольклоризм в большой степени отличен от гоголевского.
Событие «преображения» мира
Категория «события» в сюжете «Вечеров...» может распространяться на различные явления. Прежде всего, поскольку морфологию сюжета большинства повестей можно рассматривать как дериват структурной схемы волшебной сказки (М. Вайскопф), «событием» следует считать функции этой схемы, продвигающие движение сюжета. Однако поскольку схема эта осложнена переплетением мотивов различного происхождения, под категорию «события» подпадают части композиции, несводимые к функциям схемы В.Я. Проппа или производной от нее схемы М. Вайскопфа. Я полагаю, что есть основания рассматривать как событие сюжетного текста переход повествователя к описательной медитации. Во-первых, в этом случае происходит пересечение границ семантического поля17 точкой зрения повествователя: из одного нарративного пространства, подчиненного законам последовательной каузальности и сюжетного времени, она переходит в другое, организованное лирическим временем и симультанной каузальностью (последовательность перехода может быть обратной).
Во-вторых, при этом в повествовании «Вечеров...» неизбежно происходит сдвиг нарративной маски. В то же время, как будет показано ниже, такая смена позиции повествователя небезразлична к сюжетной позиции персонажа. Повествователь осуществляет это пересечение границ вместе со своим героем или вслед за ним. Это закономерно для гоголевского сюжета: описательная медитация не изолирована от его движения, и связанная с ней смена качеств точки зрения повествователя имеет следствием преображение повествуемого мира в целом. Так и следует обозначить эту группу событий.
Приведу выписку из начала «Сорочинской ярмарки». Нужно сопоставить эту композиционную часть с ее возможным претекстом и определить функцию этого построенного отчасти на параллелизме тематических и словесных мотивов, отчасти на их противопоставлении межтекстового отношения.
«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно-жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой, неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нем ни облака. В поле ни речи. Все как будто умерло; вверху только, в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. ... Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешень, слив, яблонь, груш; небо, его чистое зеркало - река в зеленых, гордо поднятых рамах... как полно сладострастия и неги малороссийское лето!
Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа тысячу восемьсот ... когда дорога, верст за десять до местечка Сорочинец, кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку». (I, 74-75).
А. А. Бестужев, «Замок Нейгаузен» (1824): «Видали ль вы восход солнца [ср. «Знаете ли вы украинскую ночь?» - CO.] из-за синего моря? Уже холодеет раннее утро, и заря зарумянилась на небе. Легкие туманы улетают к ней навстречу, и пролетом их едва тускнеет стеклянная поверхность морская, подобно зеркалу, тускнеющему под дыханьем красавицы. Дальний берег, мнится, висит в воздухе и зеленою стрелкою исчезает в небосклоне. Все тихо; только изредка клик плещущихся вдали лебедей по заре раздается, и нетерпеливый ветерок порой заигрывает с звонкими камышами. И вот вспыхнул восток, и золотая к нему тропа пересекла воды: солнце в лоне туманов, без блистания, как бы в раздумье, стоит на краю небосклона и, вдруг воспрянув от вод, величественно устремляется по небу.
Такое утро сияло над диким берегом Ливонии, когда человек двадцать русских гостей любовались им»18.
Это сопоставление показывает прежде всего, что проза Бестужева была стилистическим источником описательных медитаций раннего Гоголя (это отмечалось в литературе19). Но межтекстовое соответствие имеет и другое значение: определяя отношение жанра новой «украинской» повести к жанру романтической «рыцарской» повести, оно создает традиционно-поэтическое измерение нового текста, «возвышая» и преобразуя «простонародный» материал. Ничего подобного не было у Сомова: ср., напр., в «Юродивом» - «Луна, верная спутница летних ночей украинских, сыпала серебряный свет на рощицы, на холмы и поля и рисовала взору прелестные картины, дополняемые пылким воображением» (86). То, что у Сомова уходит в «знаковый» причастный оборот, у Гоголя разворачивается в систему огромных лирических описаний. Есть и отличие: у Бестужева картина восхода прямо адресована «любованию» «русских гостей» - у Гоголя дана цепь опосредовании: от обобщенно-лирической точки зрения повествователя, через ряд временных («лет тридцать будет назад») и персонажных (толпа народа, одинокий воз) локализаций к одному из главных героев повести - «хорошенькой дочке». Эта цепь передает лирический заряд описания персонажу, выявляя в нем «поэтическую» подоснову; при этом две точки зрения сохраняют относительную самостоятельность и динамику. Для прозы Бестужева характерна «имитация языка автора персонажами»20 -персонажи Гоголя сохраняют речевую самостоятельность, определяющую их горизонт и так создающую условия для события открытия этого горизонта, «преображения» персонажа.
Повествователь «Миргорода»
М.М. Бахтин писал о специфической проблеме автора романа -«необходимости иметь какую-то существенную невыдуманную маску, определяющую как позицию автора по отношению к изображаемой жизни ... , так и его позицию по отношению к читателям»1. Проблема связи между жанром и жанровым обликом повествователя здесь поставлена в связь с проблемой отказа автора романа от эпической суверенности, но очевидно, что она имеет более широкое значение. Жанр предполагает определенный субъект текста - с определенным словарем, с определенным кругозором, мировидением, которые в конечном счете определяют (или определяются через, в данном случае это одно и то же) его дискурсивную практику. Если повествователь Карамзина хочет рассказать сентиментальную повесть, он сам должен быть чувствительным человеком. Если рассказчик представляет идиллию, он должен владеть идиллическим словарем и быть способен к идиллическому видению мира. Отсюда ясно, насколько тесно связаны структура собственно повествования и жанровая природа текста. Логика отбора повествуемого материала (определяющая историю и наррацию) и характер презентации наррации определяются жанровой моделью. Однако возможна обратная зависимость: стоит внести в эту : логику непредусмотренные изменения - и станет неоднозначным сам жанр как модель мира. Так идиллия становится «повестью» со всей присущей этому жанру, в 1830-е гг. бывшему зародышевой формой и заменителем романа, открытостью.
Повести «Миргорода» - каждая - имеют в своей основе вполне определенный имплицитный жанр. Однако насущная характеристика гоголевского повествования - прием сдвига нарративной маски, гетерогенность субъекта повествования - не дает повести вполне отлиться в предуказанную жанровую форму. И здесь, как и в повестях «Вечеров...», мы можем говорить о «преображении» повествуемого мира. Разница состоит в том, что в повестях «Миргорода» это «преображение» не имеет характера локального события, оно имманентно тексту в целом. Текстовые структуры в результате не могут принять устойчивую, не переходящую в иную, соположенную, форму. Картина мира такой повести существенно сложна. 2. «Старосветские помещики». «Неистовая» идиллия Повесть «Старосветские помещики» давно (начиная с отзывов Пушкина и Белинского) понята критикой как идиллия. Краткую, но исчерпывающую характеристику повести как идиллии дал М.М. Бахтин2. Однако сразу стало понятно, что эта идиллия по меньшей мере необычна. Повествователь ведет себя таким образом, что у интерпретатора возникают серьезные сомнения в его способности к идиллическому видению (по крайней мере к идиллическому видению повествуемого мира)3. Проявляется это двояко: в отборе повествуемых элементов и в стилистике повествования. Отмечу сначала то в истории, что бесспорно квалифицирует ее как идиллию. Предмет рассказа - благополучная чета супругов (уже здесь возникают общеизвестные трудности, о которых ниже - «привычка» взамен «любви»). Их история неотделима от истории «благословенного» локуса, изолированного от «большого» мира и напитанного поэзией сельского труда и быта. Тщательно разработан опирающийся на эти мотивы идиллический пейзаж, например:
«Все эти давние, необыкновенные происшествия давно превратились или заменились спокойною и уединенною жизнию, теми дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит, и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу»4.
То, что повествователь способен представить такой пейзаж, принципиально важно. В повествовании реализованы эпизоды чистого, беспримесного идиллического видения мира (указанное описание «дремлющих и вместе каких-то гармонических грез» представляет собой целостную часть текста, отграниченную рамками абзаца). Однако способность к такому видению представляет собой некое необязательное состояние души рассказчика, по отношению к которому он вынужден своим мировоззрением специально определяться: « ... длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами ... воз с дынями, стоящий возле амбара, отпряженный вол, лениво лежащий возле него, - все это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило все то, с чем мы в разлуке» (II, 14). Отсутствует «прямая безоговорочная интенциональность»5. Повествователь очевидно находится в переходной к другому жанру зоне, и он совершает этот переход: « ... вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящим на столе ... и боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний!» (II, 18). Это уже зона элегии. Претекст - финал «Сорочинской ярмарки» («Миргород» обозначен как «Повести, служащие продолжением "Вечеров..."») - предполагает в имплицитном читателе знание о том, что это именно позднеромантическая элегия, элегия разочарованного и отчужденного. Это видение мира, конечно, несовместимо с идиллическим, и в повести должны найтись другие его следы.
Они находятся. Прежде всего - в комментариях повествователя к повествуемому материалу. Возьмем, например, фразу, с которой начинается элегическая медитация о скрипе дверей - «Но самое замечательное в доме - были поющие двери» (II, 17). Такое высказывание предполагает завершение некоего перечня замечательных, с точки зрения рассказчика, вещей. В этот перечень входят «маленькие, низенькие» комнаты, огромные печи, «чрезвычайно приятные в зимний вечер сени». Один тематический блок посвящен уставленной «сундуками, ящиками, ящичками и сундучочками» комнате Пульхерии Ивановны. Все это вполне укладывается в идиллический ряд, хотя трудно не заподозрить рассказчика в некоторой нелюбви к «мешочкам» («Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится», II, 17). Предпочтение тоскливого скрипа дверей тоже логично - элегия требует «унылого» для своего осуществления. Но в этот ряд замечательных вещей неожиданно входит описание, чуждое и идиллии, и элегии, описание «картин и картинок» («герцогиня Лавальер, обпачканная мухами», «множество небольших картинок, которых как-то привыкаешь почитать за пятна на стене», II, 17). Это натура, которую можно живописать, но невозможно любить. Отметим в повествователе и эту черту - no-честному нелюбовное отношение к некоторым включаемым в рассказ на равных правах с другими «замечательными вещами» деталям.
«Невский проспект»: конец света с неопределенными последствиями
Повествование «Невского проспекта» легко распадается на пять частей: простодушный «фельетонный» панегирик «всеобщей коммуникации Петербурга», затем - история художника Пискарева, рассказывая которую, повествователь зачастую приближается к горизонту персонажа, так что его собственные сентенции иногда трудноотличимы от несобственно-прямой речи последнего; затем - история поручика Пирогова, в которой авторская ирония скрыта (это важно) сближением повествователя со своим героем; затем - парадоксальный внутренний монолог рассказчика о «дивной игре судьбы»; и, наконец, патетический финал. Эти части включают в себя более мелкие отступления от нейтрального тона (обычно в сентенциозных высказываниях повествователя), которые еще более усложняют картину. Синтез единого мировоззренческого облика повествователя чрезвычайно затруднителен.
В самом деле, доходит даже до того, что рассказчик откровенно сам себе противоречит. Допустим, что некоторые патетические пассажи в истории Пискарева можно отнести на счет несобственно-прямой речи, поскольку дело идет о передаче его восприятия. Таковы, например, фразы: «Все, что остается от воспоминания о детстве, что дает мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампаде, - все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось в ее гармонических устах» (III, 18). Или другое: «Но не во сне ли это все? ужели та, за один небесный взгляд которой он готов бы был отдать всю жизнь, приблизиться к жилищу которой уже он почитал за неизъяснимое блаженство, ужели та была сейчас так благосклонна и внимательна к нему?» (Ill, 19).
Но, во-первых, сама способность к передаче такого восприятия предполагает в рассказчике известные личностные качества. Во-вторых, и это важнее, повествователь весьма выразительно высказывается в этой части и «от себя»: «В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает нами, как при виде красоты, тронутой тлетворным влиянием разврата. Пусть бы еще безобразие дружилось с ним, но красота, красота нежная... она только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях» (III, 22). И именно эта сентенция повествователя несколько ниже, в новелле о Пирогове, повторяется в речи повествователя в полностью противоположном смысле: «Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице, вместо того чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны; самый порок дышит в них миловидностью» (III, 40).
Эта «непоследовательность» повествователя не может ускользнуть от внимания читателя. Налицо две позиции, с которых одно из ключевых событий истории Пискарева - падение красоты - будет оцениваться совершенно различным образом. В первом случае оценка события повествователем будем приближена к оценке Пискарева, и тогда оно будет восприниматься по законам восприятия трагической судьбы Ганриеты в «ужасной действительности» («Мертвый осел и обезглавленная женщина»)5. Такая конкретизация тем более возможна, что к поэтике «неистовой школы» отсылает и стилистика одного из высказываний повествователя: «если был когда-нибудь влюбленный до последнего градуса безумия, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот несчастный был он» (III, 30). Во втором случае падение красоты во всяком случае не воспринимается трагически. Судьба проститутки перестает быть чем-то из ряда вон выходящим, и оценка ее повествователем гармонирует с совсем другими его фразами: «составивши такой легкомысленный план» (III, 31; по поводу решения Пискарева создать с проституткой семейную идиллию); «вместо того чтобы воспользоваться такой благосклонностью, вместо того чтобы обрадоваться такому случаю, какому, без сомнения, обрадовался бы на его месте всякий другой, он бросился со всех ног ... и выбежал на улицу» (III, 21).
Ключевое событие истории в этом слое наррации фактически перестает быть событием. Структура истории перераспределяется таким образом, что один из ее элементов теряет значимость, выпадает из структуры. А поскольку это - осевой элемент, страдает и все, что на эту ось «нанизано». История Пискарева получает такую перспективу, в которой она перестает быть подлинно бытийной и становится «сновидческой». Место подлинно трагического события в ней замещают грезы Пискарева, который «столько же принадлежит к гражданам Петербурга, сколько лицо, являющееся нам в сновидении, принадлежит к существенному миру» (III, 16).
Можно возразить на это, что душевная трагедия Пискарева, какими бы фантазиями ни была порождена она, и является подлинно бытийной, как, скажем, в «Блаженстве безумия» Н.А. Полевого. В известном смысле так и есть. Эта нота безусловно присутствует в общем аккорде смысла. Но аккорд этот диссонирует. Во-первых, парная новелла благодаря системе эквивалентных мотивов (Пирогов точно так же преследует свою красавицу, так же многократно пытается добиться своей цели, так же терпит неудачу) создает для Пискарева сниженного двойника - «романтика пошлости» (В.М. Маркович). Возможность такого уподобления «наступает» на романтизм и делает уже его несколько пошловатым. Тем более, что некоторые детали грез Пискарева действительно несут едва уловимый отпечаток пошлости: «"Вам было скучно?" произнесла она: "я также скучала. Я замечаю, что вы меня ненавидите..." прибавила она, потупив свои длинные ресницы» (III, 26).
Во-вторых, что важнее, в случае Пискарева трудно говорить о традиционном романтическом конфликте мечты и существенности, поскольку в указанной перспективе он с существенностью фактически не соприкасается. Он «вплывает» из «серинького мутного колорита» (III, 17) в пространство своих грез, сквозь которые просвечивает какой-то третий мир (комната художника «с растворенным окном, сквозь которое мелькает бледная Нева и бедные рыбаки в красных рубашках», III, 17).
«Ни к чему не думал он притронуться; глаза его без всякого участия, без всякой жизни глядели в окно, обращенное в двор, где грязный водовоз лил воду, мерзнувшую на воздухе, и козлиный голос разносчика дребезжал: старого платья продать. Вседневное и действительное странно поражало его слух» (III, 28).
Это «вседневное и действительное» настойчиво напоминает о себе и в «фельетонной» зарисовке Невского проспекта. Мир «бедных рыбаков в красных рубашках» и «русских мужиков, спешащих на работу» бытииствует не менее настоятельно, чем пискаревская мечта, «являющаяся в сновидении».