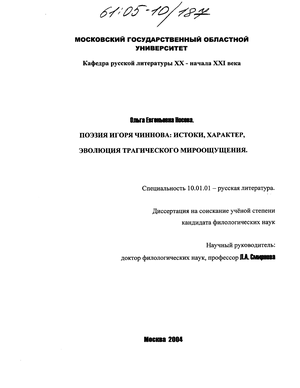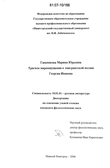Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Общие для Русского зарубежья черты и индивидуальные особенности мироощущения И.Чиннова .
1. Типологические сближения лирики И. Чиннова 50-х - 60-х годов с поэзией «парижской ноты».
2. Эволюция трагического мироощущения И. Чиннова (на материале собраний стихов 50 - 90-х годов).
Глава II. Философско-эстетическая основа поэтической системы И. Чиннова .
1. Чувство прекрасного — стимул постижения катаклизмов мира .
2. Мотив бессмертия: открытие духовных ценностей бытия.
3. Творчество как противостояние трагическим проявлениям жизни.
Глава III. Своеобразие поэтики И. Чиннова .
1. Значение и художественная выразительность пространственно-временных соотношений в поэзии И. Чиннова .
2. Функции иронии при воплощении диссонансов человеческого сознания.
3. Гротеск - форма усиления трагического пафоса.
Заключение.
Библиография.
- Типологические сближения лирики И. Чиннова 50-х - 60-х годов с поэзией «парижской ноты».
- Эволюция трагического мироощущения И. Чиннова (на материале собраний стихов 50 - 90-х годов).
- Чувство прекрасного — стимул постижения катаклизмов мира
- Значение и художественная выразительность пространственно-временных соотношений в поэзии И. Чиннова
Введение к работе
Трагическое мироощущение было присуще подавляющему большинству русских поэтов-эмигрантов первой волны. Не избежал этой участи И.В. Чиннов. Для осмысления его художественного наследия в столь характерном для литературы Русского зарубежья русле, необходимо определить принятую в настоящей работе трактовку категории трагического.
Давно установлено, что следует различать философское истолкование трагического и трагическое как своеобразную жанровую структуру произведений искусства. Трагическое представляет собой одно из существенных проявлений действительности в их отражении человеческим сознанием. Трагедия - жанровое образование, присущее преимущественно драматургии (хотя не только ей), нацеленное на пластичное воплощение истоков, развития, исхода какой-то острой (часто на грани жизни-смерти) конфликтной ситуации. Трагическое в жизни конкретно и разносторонне, индивидуально и многозначно. Как мировоззренческая категория, находящая свое отражение в искусстве, трагическое приобретает широко обобщённый, чаще бытийный смысл, затрагивает всечеловеческие, вечные противоречия, выявляя их через единичное и особенное художественных образов. Именно в этом последнем значении мы и будем использовать понятие «трагического».
С точки зрения Ф.В. Шеллинга, устойчивое существование трагического неизбежно, т. к. оно обусловлено не только внешними, часто случайными обстоятельствами, но «внутренней природой самого гибнущего явления, его неразрешимого саморазвития в процессе его реализации» [207, С. 136]. И поскольку жизнь есть постоянное вытеснение одних её потоков другими, противоборство нарождающегося с отживающим, постольку трагическое постоянно сопутствует её бурному течению. Именно в силу такой устойчивости этой общебытийной закономерности, её трактовка была неоднородной.
Платон не принял трагическое как одно из ведущих начал, потому что считал, что страдание не позволяет людям быть мудрыми и разумными, является преградой к достижению вечного добра и затемняет путь к истине. Следовательно, является преградой на пути к построению идеального государства. В отличие от своего учителя, Аристотель высоко ценил не только эстетическое наслаждение, вызванное яркими образами носителей трагического мироощущения, но их нравственное, воспитательное значение, так как мучительные переживания на грани жизни и смерти ведут к состраданию, к очищению души и мира (катарсису). Однако философ по существу исключал из процесса такого восхождения волю людей. Источником трагедии он видел рок, судьбу, предначертанную богами каждой личности, а отдельного человека (равного множеству себе подобных) воспринимал в качестве пассивного объекта, претерпевающего удары, ниспосланные ему свыше. И хотя каждый житель земли, по Аристотелю, каким-либо поступком оказывал влияние на свою судьбу, тем не менее, он действовал исключительно в русле своего конкретного существования. Отсюда Аристотель делал вывод, что «трагедия есть подражание не людям, но действию и жизни, счастью и злосчастью», а задачей трагического жанра считал «изобразить какое-то действие, а не качество» [128, С. 652].
Формирование искусства, проникнутого трагедийным пафосом, деятели эпохи романтизма справедливо связывают с кризисом античного общества, с так называемым концом «золотого века», воспевшего единство бестрепетных героев и богов-олимпийцев. «Драма уже коренится в более или менее расколовшемся мире... - писал Ф.В.Шеллинг, - Итак, призвать в трагедии богов на помощь, чтобы завершить действие чисто внешним образом,... значило разрушить всю суть трагедии» [207, С. 151].
Без значительного внимания к отдельному человеку, в религиозно-канонических рамках рассматривалось трагическое в Средние века, как следствие мирового грехопадения, всеобщей вины за распятие Сына Человеческого. Отсюда основные черты трагического искусства того времени: мученический характер героя, основанный на христианской идее спасения человечества и подчинения Воле Божией. В трагическом искусстве этого периода отсутствовал героический характер, а изображалась страждущая фигура, которая служит Богу и стремится к достижению вечной жизни в небесном царстве. Французский медиевист Жак Ле Гофф обратил внимание на то, что средневековое искусство насыщено изображениями души, за обладание которой боролись Сатана и архангел Михаил, а человек претерпевал жертвенные муки. «Аскеза же представляет собой путь («интинерарий»), идя по которому человек вновь обретает утраченный вследствие первородного греха образ Божий» [194, С. 231].
В ренессансный и постренессансный период человек постепенно начал осмысливаться как источник и виновник трагедии: он всячески стремится, но не может жить в гармонии с самим собой. Акцент был поставлен на внутренних противоречиях субъекта, чем и определялась проблематика произведений. Например, герои в трагедиях Шекспира приходят к гибели, как правило, по своей собственной вине: страсть к власти («Макбет»), ревность («Отелло»), обострённое чувство долга, справедливости и слабость воли («Гамлет»), неадекватная истинной оценка существующего положения вещей («Король Лир»). Такие виды страданий имели в своей основе, прежде всего, личностный фактор, благодаря чему открывалось несовершенство человеческой природы как таковой и соответственно мечта о её преображении.
Конфликт между чувством и долгом, столкновение между разумом и подсознательной стихией стали основополагающими в искусстве классицизма. Эстетическая окраска этого противопоставления задана стоицизмом, а гносеологическая - христианством. Обратившись к исследованию античности, мыслители этого времени внесли существенно новое истолкование трагедии человека, остановившись на его внутренних, душевных потенциях и трудности их реализации. Человеческая личность снова оказалась в центре авторского внимания, только в ней были выделены: влечение к светлому разуму, стремление к действенной воле (отсюда проистекали героические и нравственные темы) и мучительное несовершенство замыслов.
Пришедшее на смену классицизму, искусство романтизма чаще было сосредоточено на постижении «состояния духа», определяющегося «мировой скорбью». Предпринимались многозначные и яркие попытки разрешить вечные проблемы бытия: сосуществования в нём людского мира и Божественной Вселенной, грешной Земли и вечно прекрасного Неба, столкновения в человеческой душе силы конкретных переживаний со сверхчувственными прозрениями. Чуждые рациональным построениям и логическим объяснениям, романтики открыли неведомые, глубинные струи внутренней жизни личности, где сложно переплелись возвышенное и трагическое.
Немалый вклад в разработку теории трагического внесла немецкая классическая философия. Теории её представителей были разнородны и в чём-то даже противоречили друг другу, но общим было стремление осветить соотношение идеального и реального. Остановимся лишь на наиболее значимых примерах. Трагическое здесь чаще выражается в столкновении противоборствующих сторон конфликта: свободы субъекта и объективной необходимости у - Ф.В. Шеллинга; самораздвоения нравственной субстанции как области воли и свершения - у Г.В. Гегеля. И. Кант будто не проявил интереса к трагическому. Главными критериями его эстетики, представленной в «Критике способности суждения», были прекрасное и возвышенное. Несмотря на это, именно критицизм Канта открыл путь к осмыслению исторических корней трагического. Ф. Шиллер считал себя самым последовательным учеником Канта. Трагическое для него - это противоречие между идеалом и действительностью, сверхчувственной морально-разумной природой человека и стихией его земных переживаний. По существу, это модификация кантовского определения возвышенного, да и сам Шиллер сближал понятия «возвышенного» и «трагического».
Однако уже в первой половине XIX века появляются толкования трагического, не связанные с системой его разных значений. По отношению к такому роду концепций корректнее говорить не об определении в них трагического, а его понимании или чувстве трагического. Здесь нередко трагическое связано с непонятийным (допонятийном) ощущением страдания как глобальной характеристики бытия. Это ощущение можно увидеть уже в XVII веке в «Мыслях» Паскаля, в XIX веке - в философии С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, в поэзии Дж. Леопарди.
На рубеже ХІХ-ХХ веков и позже понятие трагического приобрело новый характер в связи с утратой человеком абсолютного начала мира, что Ф. Ницше выразил словами «Бог умер» [177, Т. 2, С. 89]. Столь опасное ощущение бытия и собственного «Я» личностью привело к устрашающим результатам. Их точно определил В. Иванов, раскрыв предвосхищение и развенчание Ф.М. Достоевским идей, высказанных позже Ф. Ницше: «При утрате Абсолютного всё становится относительным и теряется всякий критерий, способный помочь отделить зло от добра, истинное от ложного, справедливое от несправедливого - понятия, без которых человек буквально не может жить, так как без них он не может ни надеяться, ни желать, ни действовать» [156, С. 172].
У сходных истоков сложилась философия Николая Гартмана, утверждавшего, что «опрометчиво» приписывать мировому единству одну абсолютную идею в форме «Бога», так как вне единства есть ещё нечто -загадочное, непознаваемое, иррациональное [146, С. 102]. Именно так воплощали это «нечто» Ю. Стриндберг, М. Метерлинк, др.. Н. Бердяев нашёл у Метерлинка понимание «внутренней сущности жизни как трагедии», для которой «не нужно чисто внешнего сцепления обстоятельств» [135, С. 192].
Неудивительно, что позже трагическое воспринималось как «абсурд» А. Камю, «тошнота» Ж-П. Сартром, как «пограничная ситуация» и «крушение» К. Ясперсом, «трагическая мудрость» и «онтологическое таинство» Г. Марселем, «проседание бытия» М. Хайдеггером.
Большое влияние на развитие понимания трагического в XX веке оказала концепция М. де Унамуно. Философ, в частности, писал: «Есть нечто такое, что за неимением лучшего названия, мы назовём трагическим чувством жизни, которое несёт в себе всю концепцию самой жизни и вселенной, всю более или менее отчётливо сформулированную, более или менее осознаваемую философию. Трагическое чувство жизни могут иметь не только отдельные люди, но и целые народы. Из этого чувства и вырастают идеи, более того, именно оно определяет их содержание, хотя, конечно, за тем уже и идеи воздействуют на него, в свою очередь, давая ему пищу» [197, С. 40].
Особую остроту проблема трагического приобретает на рубеже XIX-XX столетий. Учёные, художники осмысливали трагическое исходя не из суммы фатальных частностей, а иначе, все частные явления жизни они связывали с трагической подосновой бытия. «Катастрофично целое» - вывод Вячеслава Иванова, но характерный для многих его современников [155, С. 76]. Тем не менее, именно в атмосфере таких настроений родились противоположные им поиски истоков возрождения мира. Его спасение целая когорта талантливых художников видела в постижении подлинного смысла учения Христа.
«Без веры в божественное начало мира, - констатировал Д. Мережковский, - нет на земле красоты, нет справедливости, нет свободы!» [174, С. 342]. Позже, спустя почти десять лет, он раскрыл своё представление об усилении трагического начала в человеческом сознании и перспективу преодоления мучительных противоречий души. Основываясь на откровении «любимого ученика» Господа - Иоанна, «Сына Громов», - Мережковский определил «самое страшное и достоверное для нас пророчество: «Близок всему конец»» (курсив Мережковского) [174, С. 350]. И наметил путь возрождения мира, обретённый в учении Христа: «...тезис - плоть, антитезис - дух, синтез - «духовная плоть» (...). В учении Христа все отдельные радужные цвета жизни, достигая высшей степени яркости, сливаются, наконец, в один белый цвет Воскресения, т. е. высшего утверждения плоти и духа» [174, С. 147]. В содействии этому подъёму видел назначение искусства Мережковский.
Зрелый А. Блок поставил акцент на другом проявлении всеобщей трагедии. В 1908 году он писал: «Человеческая культура становится всё более машинной; всё более походит на гигантскую лабораторию, в которой готовится месть стихии»; «Распалилась месть Культуры, которая вздыбилась «стальной щетиной» штыков и машин. Это - только знак того, что распалилась и другая месть - месть стихийная и земная. Между двух костров распалившейся мести, между двух станов мы и живём» [138, С. 355-356]. Поэтому поэт предположил в статье 1909 года трудный, но необходимый выход из подобного состояния мира: «... надо принять на себя небывалый подвиг: обладать «прекрасной блудницей культуры» так, чтоб союз с ней стал вратами в Новый Иерусалим [138, С.359]. В дневниках Блока находим сходные, окрашенные ещё более острым, личным чувством, раздумья. Болезненно переживал поэт близость возмездия: «Не знаем ни дня, ни часа, а Он же грядёт Сын Человеческий судить живых и мёртвых» [138, С. 99]. Эта запись была сделана 22 декабря 1911 года. А чуть раньше, 14 декабря того же года Блок передал собственное восприятие «небывалого подвига»: «Смысл трагедии - БЕЗНАДЁЖНОСТЬ (выделено Блоком) борьбы; но тут нет отчаяния, вялости, опускания рук. Требуется высокое посвящение. Сегодня пурпуроносная заря» [138, С. 89].
Трагическое мироощущение органично сочетало в себе мучительную зависимость от всеобщего кризисного состояния с осознанным стремлением к высокому деянию, подвижничеству во имя светлых перспектив бытия.
Глубоко болезненное переживание катастрофического состояния мира стало истоком новых философских концепций в России начала XX века, имевших в большинстве своём «неохристианский» характер и основанных на трудах Вл. Соловьева. Среди этих изысканий - книга Н. А. Бердяева «Новое религиозное сознание и общественность» [133]. В ней раскрыты истоки разрушительных процессов, предельно усилившихся в начале XX века в политике, идеологии, культуре, а главное, - во внутреннем бытии человека и человечества. Причину трагического разложения общества и каждой индивидуальности философ видел в непонимании (или сознательном искажении) Учения Христа, который «хотел соединить людей в Боге, - не родовой любовью, а личной (...), не природной, а сверхприродной, не дробящей индивидуальность во времени, а утверждающей её в вечности [133, С. 70]. Исходя из такого понимания Заветов Спасителя, Бердяев предрекал близкий «переворот космического порядка, переход на путь богочеловеческий», когда будет постигнуто, что «сущность зла - в обоготворении природной человеческой стихии, оторванной от Бога; сущность добра - в обожествлении человеческой природы, соединённой с Богом» [133, С. 233]. Идеей приближения этого переворота было проникнуто всё творчество Бердяева. В последней своей книге, вышедшей уже после его смерти, - «Самопознание» (с подзаголовком «Философская автобиография») - автор передал чувство глубокой горечи, вызванной современной ему эпохой: «Человеку не удалось убить Бога. Но я часто ощущал уход Бога из мира, богооставленность мира, богооставленность мира и человека, мою собственную богооставленность» [136, С. 562]. Искренность подобного признания многократно усиливает роль главного убеждения Бердяева в его мужественном противостоянии трагизму своего века. Устойчивым для философа стал взгляд, позволявший наметить перспективу возрождения духовной жизни: «Сущность христианства и величайшая его новизна была в раскрытии человечности Бога, в боговочеловечении, в преодолении пропасти между Богом и человеком» [136, С. 564].
Выделение раздумий и позиций Д. Мережковского, А. Блока, Н. Бердяева отнюдь не означает, что только они проникли в катастрофические процессы времени и обрели достойную сферу противодействия им. Создатели искусства, шире, культуры Серебряного века смысл своего творчества возводили к тем же глобальным запросам - раскрыть трагические противоречия человеческой души и возможности её гармонизации. Именно эту традицию отечественной художественной литературы и философии начала XX столетия восприняли русские писатели-эмигранты. И не только их старшее поколение, продолжившее в изгнании свои искания, определившиеся ещё на родине, но и младшее.
В. Ходасевич выступил в 1933 году со статьёй о «литературной молодёжи в эмиграции», причислив её к силам, способным к «сохранению и преемственности культуры»: «Есть нечто трогательное и достойное всякого уважения в этой приверженности к родному языку и к родной словесности -со стороны людей, которые так, в сущности, мало знают родину и которых сверстники в постыдном числе и с постыдною быстротою утрачивают свою национальность» [204, Т.2, С.262-263]. Сопоставив удел старших и младших, автор статьи с болью сказал: «Иначе окрашена, но не менее мучительна трагедия младшей литературы, которой грозит опасность отцвесть, ещё не расцветши». Обращение к переживаниям А. Блока увенчалось ещё более горьким выводом: «Судьба русских писателей - гибнуть. Гибель подстерегает их и на этой чужбине, где мечтали они укрыться от гибели» [204, Т.2, С. 267]. Ходасевич справедливо оттенил иной, более острый характер трагического состояния и творчества младшего поколения эмигрантов, соответственно чему их стремление найти стимул противостояния этому опыту было ослаблено. Но проведённая в статье параллель с Блоком указала на значимость для молодых литераторов блоковской идеи подвижничества.
Для изучения «послевоенной эмигрантской литературы» Ю. Иваск выдвинул показательный и перспективный подход. Понимая, какую власть на чужбине приобрело мучительное ощущение недостижимости заветных мечтаний и исканий, автор твёрдо сказал: «Сознание невозможности, отчаяние приводит к самоубийству или к творческой победе» [137, С. 397]. В другой работе, на примере творчества Г. Адамовича и Г. Иванова (при упоминании и других авторов), Иваск показал, что это наблюдение позволило обнаружить тесную внутреннюю связь между запросами поэтов-эмигрантов и открытиями А. Блока: «... поэзия Георгия Адамовича, как и поэзия Георгия Иванова, родилась в блоковском мире, в его музыке (курсив Ю.И.). (...) Музыка эта губила, но и обещала Блоку небывалое возрождение после катастрофы - синий, певучий рой» [137, С. 403]. По убеждению критика, рождённые в трагических испытаниях высокие устремления - были восприняты от великого поэта Серебряного века: «Блок говорил: стоит жить, чтобы предъявлять огромные требования к жизни. (...) Тем, кто думает, что всё-таки стоило, будут понятны последние песни Георгия Иванова и Георгия Адамовича» [137, С. 406]. Думается, ясен и другой тезис размышлений Ю. Иваска - о наследовании многими художниками Русского зарубежья блоковского романтического «максимализма», в немалой степени определившего своеобразие их поэтических систем.
Трагическое мироощущение И. Чиннова обладало сходными с найденными Ю. Иваском в поэзии Иванова и Адамовича истоками, ориентацией, направленностью творчества. В настоящей работе сделана попытка рассмотреть художественное наследие Чиннова в этом русле.
Литературное наследие Русского зарубежья, долгое время недоступное советскому читателю, в последние годы всё чаще становится предметом исследований. Однако, появившиеся в 1990-е годы работы о поэзии и прозе эмигрантов первой волны, в большинстве своем посвящены представителям старшего поколения - Д. Мережковскому, 3. Гиппиус, И. Бунину, Б. Зайцеву, И Шмелёву, другим. Творчество младшего поколения несправедливо оставалось «в тени».
Игорь Чиннов, поэт, хорошо знакомый зарубежному читателю, оставался, к сожалению, практически неизвестным на родине вплоть до 1990-х годов. Так сложилось, что большую часть своей жизни Чиннов прожил за рубежом: во Франции, Германии, США. Но писал он всегда о России и для России, не теряя надежды, что его произведения обретут читателей на родине. Мечты поэта начали сбываться только осенью 1991 года, когда ему удалось посетить Россию в составе редколлегии «Нового журнала» -старейшего эмигрантского издания. Чиннов выступал с чтением стихов в Фонде культуры, Доме журналистов и Союзе писателей. В 1994 году на родине было опубликовано собрание избранных стихотворений поэта -«Эмпиреи»; в 1996 году, уже после смерти автора, - книга «Алхимия и Ахинея. Гротескиада»; 1998 году вышел сборник «Загадки бытия», над составлением которого Чиннов работал в последние месяцы жизни. В это издание вошли стихотворения из всех книг, появившихся за рубежом, а также статьи о творчестве поэта, ранее помещённые в эмигрантских газетах и журналах.
В критике Русского зарубежья творчеству Чиннова уделялось очень большой внимание. Достаточно сказать, что среди его почитателей были Г. Адамович, Г Иванов, Г.Струве, В. Вейдле, И. Одоевцева, Ю. Терапиано, 3. Шаховская, А.Бахрах, Ю. Иваск, М. Слоним - в целом, более ста похвальных отзывов и рецензий в печати. Почти все отмечали успешную работу Чиннова со словом, его стилистическое мастерство. Но реакция на поэтические эксперименты не всегда была однозначной. В. Вейдле, всегда высоко ценивший творчество Чиннова, неоднократно выражал своё сожаление по поводу его отхода от аскетичной программы «парижской ноты», в русле которой была создана лирика книг «Монолог» (1950) и «Линии» (1960). Г. Струве, наоборот, зачастую обвинял приверженцев «ноты» в упадничестве и пессимизме. Но в целом, критика была всегда благосклонна к Чиннову, отдавая именно ему после смерти Г.Иванова, пальму первенства в поэзии Русского зарубежья.
Трагическая основа лирики Чиннова многократно подчёркивалась как самим поэтом («О себе», «На вопросы о моей поэтике»), так и критиками (В. Вейдле «О поэтах и поэзии»; И. Одоевцева «Партитура»; В. Перелешин «Многозначительные намёки», 3. Шаховская «Стихи Игоря Чиннова» и др.). В связи с сосредоточенностью художника на теме смерти многие исследователи находили истоки поэзии Чиннова в творчестве Иннокентия Анненского, являвшегося, по сути, наряду с акмеистами предшественником «парижской ноты», что прослежено в статьях А. Адамовича «Новый поэт», А. Пасквинелли «Метафоры и метаморфозы», О. Кузнецовой «Последний парижский поэт». Очень интересной для нас представляется работа М. Крепса «Поэтика гротеска Игоря Чиннова», где гротеск определяется как один из ведущих приёмов в лирике Чиннова, усиливающий её трагическую атмосферу.
В России наиболее полно наследие Чиннова представлено в двухтомном «Собрании сочинений», увидевшем свет в 2000-2002 гг., с комментариями и вступительной статьёй О. Ф. Кузнецовой, которая даёт яркий образ и глубокий системный анализ творчества Игоря Чиннова. Другой крупной работой по изучению его поэзии стала заслуживающая внимания диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук И. И. Колычева «Творческий путь Игоря Чиннова», защищавшаяся в Литературном институте им. М. Горького, где делается акцент на связь художника с «парижской нотой», с этой точки зрения рассматривается его поэтика.
Все исследования, посвященные творчеству и личности Чиннова, освоены и учтены при написании настоящей работы. Но они обращены либо к каким-то конкретным граням таланта поэта, обусловившим те или иные его искания и достижения, либо с отдельными периодами художественной деятельности Чиннова, или носят характер обзора его творческого пути. Изучение этих материалов привело автора данной диссертации к целостному изучению всего наследия Чиннова и к установлению ведущего направления в развитии его мироощущения и соответственно, поэзии.
Материалом исследования избраны: поэтическое наследие Чиннова, его статьи, интервью, письма, воспоминания о нём, исследовательские работы о творчестве поэта.
Методологическую основу диссертации составляют исследования по теории литературы (М. М. Бахтина, В. В. Вейдле, Д. С. Лихачёва, др.), по истории Русского зарубежья («Литературная энциклопедия Русского зарубежья», ред. и составитель А. Н. Николюкин, Г. Адамовича, Г. Иванова, С. Маковского, Н. Оцупа, В. Ходасевича, др.), по эстетике и философии (Б. Вышеславцева, Г. П. Федотова, С. Л. Франка, др.), критические работы русских эмигрантов о поэзии Русского зарубежья и творчестве И. Чиннова; особое значение для автора диссертации приобрели труды русских религиозных мыслителей: Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, И. А. Ильина, П. Флоренского, Г. В. Флоровского, др..
При создании настоящей работы были освоены следующие методы осмысления поэтического наследия Чиннова: содержательно-структурный анализ художественных текстов, историко-функциональный, сравнительно-типологический, системно-обобщающий, аксеологический, т. е. ценностный, - при определении традиций, оказавших влияние на И. Чиннова, и творческих достижений поэта.
Целью диссертации является постижение трагического мироощущения Чиннова, служащего концептуальной основой его лирики и определяющего сферу поэтических взглядов автора. Отсюда вытекают следующие задачи:
• определить истоки трагического мировосприятия поэта;
• рассмотреть творчество Чиннова в контексте поэзии Русского зарубежья;
• проследить эволюцию философско-эстетических взглядов поэта, их образного воплощения в его лирике;
• изучить основные средства художественной выразительности, служащие для воплощения трагического пафоса в поэзии Чиннова;
• выявить пути и формы противодействия трагическому состоянию мира в поэзии художника.
Научная новизна работы обусловлена тем, что впервые наследие И. Чиннова в целом стало предметом специального исследования, для которого установлено новое направление - с точки зрения своеобразия и эволюции трагического мироощущения поэта. Предпринят до сих пор никем не освоенный подход к анализу лирики Чиннова, ярко воплотившей внутренние диссонансы личности и авторские позитивные представления, восходящие к нетленным духовным ценностям. Впервые художественные принципы и мастерство поэта тесно связано с изучением его философско-эстетических поисков.
Структура и содержание работы определены выше указанными целью и задачами. Диссертация состоит из «Введения», 3-х глав, «Заключения», «Библиографии», насчитывающей 212 названий источников, и «Приложения», где на основе разрозненных сведений представлена биография поэта. Логика построения работы обусловлена отражением развития исследования - от места поэта в литературном процессе русского зарубежья 1950-1960-х годов к осмыслению творческих открытий поэта, его художественного мастерства.
Во «Введении» обосновывается актуальность избранной темы, определяется теоретическая основа работы, даётся краткая история изучения вопроса, выдвигаются цели и задачи исследования, характеризуется его методология и методика, освещается степень новизны работы.
Первая глава - «Общие для Русского зарубежья черты и индивидуальные особенности мироощущения И.Чиннова» - включает параграфы: «Типологические сближения лирики И. Чиннова 50-60-х годов с поэзией «парижской ноты»»; «Эволюция трагического мироощущения Чиннова (на материале собраний стихов 50-90-х годов)».
Вторая глава - «Философско-эстетическая основа поэтической системы Чиннова» - разделена на параграфы: «Чувство прекрасного - стимул постижения катаклизмов мира»;
«Мотив бессмертия: открытие духовных ценностей бытия»; «Творчество как противостояние трагическим проявлениям жизни».
Третья глава - «Своеобразие поэтики И. Чиннова» - состоит из частей: «Значение и художественная выразительность пространственно-временных соотношений в поэзии И. Чиннова»; «Функции иронии при воплощении диссонансов человеческого сознания»; «Гротеск - форма усиления трагического пафоса».
В «Заключении» подводятся итоги исследования, устанавливаются перспективы изучения наследия поэта.
В «Приложении» дана биография И. Чиннова.
Апробация работы. Основные положения исследования изложены в докладах на международных научных конференциях, а так же в следующих статьях: Поэзия Игоря Чиннова: вечный поиск красоты. // Словесное искусство Серебряного века и развитие литературы. - М: МПУ, 2001; Игорь Чиннов о торжестве вечных ценностей в трагически искажённом мире. // Духовные начала русского искусства и образования. - Великий Новгород: НовГУ, 2003; Мотив утраченной родины в поэзии И. Чиннова. //
Малоизвестные страницы и новые концепции истории русской литературы XX века. - М.: МГОУ, 2003; Богоискательские мотивы в лирике И- Чиннова (на материале сборников «Монолог» и «Линии») // Духовные начала русского искусства и образования. - Великий Новгород: НовГУ, 2004. Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на кафедре русской литературы XX века МГОУ.
Научно-практическая значимость работы состоит в том, что её результаты могут быть использованы для дальнейшего изучения яркой творческой индивидуальности Чиннова, его роли в освоении оригинальных форм лирики. Наблюдения и выводы диссертанта позволяют обогатить общий курс лекций для студентов-филологов по русской литературе XX века и, конкретнее, раздел о поэзии Русского зарубежья, а также разработать спецкурсы, спецсеминары, факультативны, посвященные этой тематике.
Типологические сближения лирики И. Чиннова 50-х - 60-х годов с поэзией «парижской ноты».
Дебют Игоря Чиннова в «большой литературе» состоялся под знаком «парижской ноты» - известной поэтической школы, возглавляемой Георгием Адамовичем и опирающейся на его литературные взгляды. Точного определения «ноты» не было дано ни самим Адамовичем, ни её приверженцами в то время. Фактически «парижская нота» не являлась собственно поэтической школой в традиционном понимании, тем не менее, нельзя не признать, что она оказала огромное влияние не только на творчество отдельных художников, но и на всю эмигрантскую поэзию в целом. Многие воспринимали её как единственно верное и возможное в тогдашних кризисных условиях направление в поэзии, другие упрекали «ноту» в излишнем пессимизме, но равнодушных не было. Используя как положительные, так и отрицательные мнения о «парижской ноте» её участников и современников, мы попытались восстановить более или менее полную картину, проливающую свет на это сложное культурное явление в литературе Русского Зарубежья.
В своих знаменитых «Комментариях» родоначальник «ноты» Георгий Адамович определил сущность «парижской ноты» следующим образом: «Чем ближе был человек к тому, что называлось «парижской нотой», чем настойчивее ему хотелось бы верить в её осуществление, тем больше у него сомнений при воспоминании о ней. Что это было? Был некий личный литературный аскетизм, а вокруг него или иногда в ответ ему некое коллективное лирическое уныние, едва ли заслуживающее название школы» [27, С. 94-96]. Юрий Иваск отмечал, что это не была школа в обычном смысле, но скорее «лирическая атмосфера», а главную заслугу Адамовича видел в том, что тот сумел создать «литературную атмосферу для зарубежной поэзии» [57, С. 196]. Даже возникновение названия «парижская нота» до сих пор считается спорным: в одних источниках оно приписано её мэтру, в других - Борису Поплавскому.
«Парижская нота» противостояла иным эмигрантским поэтическим объединениям: «Скиту поэтов», возглавляемому А. Бемом; «Перекрёстку», поддерживающему творческие позиции В. Ходасевича; «Кочевью», руководимому М. Слонимом.
Несомненно, предшественником «ноты» следует считать акмеизм, с его стремлением к тому, чтобы слово значило то, что оно значит на самом деле, а не то, чем поэту его смысл хочется подменить. Основополагающий формообразующий принцип стихов «парижской ноты» - выразительный аскетизм во всём - в выборе тем, размеров, синтаксисе, словаре. «Если поэзию нельзя сделать из материала элементарного, из «да» и «нет», из «чёрного» и «белого», из «стола» и «стула», без каких-либо украшений, то Бог с ней, обойдёмся без поэзии!» - писал Адамович [27, С. 78]. Изыск, декор - какое-либо украшение произведений воспринимались его последователями как нечто абсолютно ненужное, лишнее, суета сует. «Стихотворение бывает прекрасно не несмотря на отсутствие блестящих метафор, а только благодаря отсутствию их», - утверждал Адамович [27, С. 101]. Адепты «ноты» склонялись к художественному минимализму. «Внутреннее» должно было соответствовать «внешнему», то есть писать следовало о «главном», выбирая для этого «главные» слова. Для сторонников «ноты» была характерна сосредоточенность на довольно узком круге тем, но тем основных, знаковых. Это были размышления о смысле и цели бытия, бренности сущего, тяготах человеческого удела, смерти. И, как следствие, приветствовалась дневниковость поэзии, её непременная психологичность, искренность.
В «Комментариях» есть следующие строки: «... «Нота» могла бы сложиться иначе...: могли бы, должны были бы найтись друзья, раскиданные по разным странам... - духовные родственники, об одинаковом догадывавшиеся, одинаковое улавливавшие...» [27, С. 96]. Этому предположению суждено было во многом сбыться - «духовные родственники» нашлись и продолжали находиться даже тогда, когда «нота» фактически уже прекратила своё существование. Хотя в строгом смысле к «парижской ноте», кроме самого Адамовича, можно отнести, пожалуй, только Анатолия Штейгера и Лидию Червинскую, как наиболее последовательных её представителей, реальное воздействие «ноты» было гораздо шире. Её «следы» можно найти у таких молодых представителей эмиграции, как В. Смоленский, Д. Кнут.
Эволюция трагического мироощущения И. Чиннова (на материале собраний стихов 50 - 90-х годов).
Трагическое звучание поэзии Игоря Чиннова не вызывает сомнений. Тем не менее, в любом из его сборников, ощущается упоение всеобъемлющей гармонией бытия. Между этими будто противоположными переживаниями и творческими устремлениями существовала тесная внутренняя связь. Прекрасное и вызванные им возвышенные чувства придавали особую остроту неприятию порочного мира. Мучительное его восприятие активизировало поиск нетленных ценностей. Благодаря чему трагические мотивы в лирике поэта обрели глубину и одновременно притяжённость к катарсису (очищению от мрачных раздумий о безысходности человеческой жизни).
В интервью Джону Глэду Игорь Чиннов сказал: «Слово «красота» теперь, конечно, скомпрометировано, и все как-то иначе пытаются определить его сущность. Но по существу красота - это то, о чём мы всё время думаем, когда пишем стихи, или чем мы как-то проникнуты» [53, С. 28]. Поэт обладал способностью и потребностью славословить земное очарование, столь недолговечное, но столь неповторимое в своём многообразии. В первых двух сборниках («Монолог», «Линии»), написанных под эгидой «парижской ноты», Чиннов был довольно скуп в средствах самовыражения, тяготея к «бедному словарю», без «орнаментов» [53, С. 23]. Во всех последующих книгах он, будто компенсируя свою прежнюю сдержанность, буквально обрушивал на читателя лавину всевозможных стилевых изысков, направленных на яркое воплощение светлых впечатлений от созерцания царства природы.
Красота неба и земли стала переполнять лирику Чиннова. Подлунный мир засиял и заискрился всеми мыслимыми и немыслимыми красками. Разнообразие растительного, животного и, шире, земного пластов не могло не ошеломлять читателей. Кого и чего здесь только нет! Можно, пожалуй, составить целые списки под названием «поэтический зоопарк» или «поэтическая оранжерея». Из представителей фауны здесь встречаются, как достаточно привычные для нас: ласточки, аисты, вороны, скворцы, воробьи, соловьи, канарейки, щеглы, утки, коровы, кошки, кролики, собаки, крысы, стрекозы, бабочки и мыши, так и более редкие, экзотические: тигры, зебры, удавы, павлины, хамелеоны, цикады, орлы, пеликаны, шакалы, термиты, скарабеи, ястребы, крокодилы, лемуры, ибисы, медузы, дельфины, лани, цапли, пираньи, гиппопотамы, колибри. А удивительному разнообразию флоры мог бы позавидовать любой коллекционер-биолог: деревья всех видов, цветы всевозможных форм и расцветок - гости со всех континентов. Здесь, словно в ботаническом саду, произрастают агава, пинии, берёзы, ясени, рябины, бузина, можжевельник, вереск, липы, лавры, маслины, распускаются и благоухают тюльпаны, магнолии, хризантемы, орхидеи, астры, гиацинты, нарциссы, камелии, глицинии, пионы, одуванчики, розы, лилии, далии, асфодели, левкои, гортензии, ирисы, рутены, олеандры, орифламмы. Дополняют картину разнообразные драгоценные и полудрагоценные камни: алмаз, сапфир, бирюза, агат, берилл, рубин, хрусталь, хризопраз, хризолит, сердолик... Поэт самозабвенно воспевает красоты Земли:
Был южный сад. И птицы - самоцветы, Как фейерверк, как пышные ракеты, Почти затмив закаты и рассветы, Сияли. Я залюбовался пиром Рубином, изумрудом и сапфиром, Живым, живым, но непонятным миром. [12,Т. 1,310] В этом отрывке, как и в большинстве лирических излияний автора, картина мира предстаёт единой. Все её элементы неразрывно связаны между собой, слиты во всеобщую гармоничную симфонию. Птицы, закаты, самоцветы взаимно определяются друг через друга, друг в друга перевоплощаются и таким образом являют собой неделимое полотно живого, полного загадочного очарования мира.
Кажется, что Чиннову порой не хватает обычных сравнений, чтобы передать обилие неповторимых красочных соотношений, существующих в природе. Поэт прибегал к сложным эпитетам, и его лирику наполняла настоящая цветовая феерия: бледно-оранжевый закат, палево-сиреневые узоры, рубиново-багряный рот, пламенно-янтарное платье, оранжево-розовый фламинго, розовато-голубая птичка, фиолетово-сиреневый нарцисс, багряно-фиолетовый пион, золотисто-зелёная вязь, синевато-лазурные мозаики, нежно-сиреневые складки, перламутрово-переливчатая лазурь, бледно-розовато-сиреневато-сизый узор, сиренево-серенькая пена, лазурно-фиолетовый океан, опалово-нежный дым, сумрачно-жёлтая арена, лилово-тёмный виноград, серо-сизый дым, бледно-желтоватый свет, оранжево-розовато-серый край, розовато-смуглая Зарема, розовато-жёлтые абрикосы, ярко-лазоревое море, лазурно-хризопразовый дворец. Все варианты зрительных впечатлений перечислить невозможно.
Чувство прекрасного — стимул постижения катаклизмов мира
Наиболее полно разработка категорий пространства и времени дана, как известно, в трудах М.М. Бахтина, который первым начал осмысление этой важнейшей проблемы. Учёный, в частности, писал: «Существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе, мы будем называть хронотопом, (что значит в дословном переводе времяпространство). ...В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, становится художественно-зримым, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет характеризуется художественный хронотоп» [131, С. 34].
Необходимо заметить, что свою теорию М.М. Бахтин создал в основном на материале прозаических произведений. Возможно, именно по этой причине категории пространства и времени в поэзии долго и несправедливо расценивались (а порой расцениваются и теперь) как категории второстепенные, хотя именно их рассмотрение во многом содействует углублённому проникновению в лирический мир художника. Интересно высказывание Иосифа Бродского по этому поводу: «Вообще считается, что литература, как бы сказать, - о жизни, что писатель пишет о других людях, о том, что человек делает с другим человеком и т. д. В действительности это совсем не правильно, потому что литература не о жизни, а о двух категориях, более или менее двух: о пространстве и времени» [53, С. 123].
В поэзии Игоря Чиннова пространственно-временные характеристики играют тоже ведущую роль, как в плане воссоздания его целостного мира, так и для раскрытия трагического мироощущения автора. Лирика Чиннова как раз и устремлена к восприятию трагически уходящего времени и трагического одиночества личности в пространстве. Эта двуединая направленность по разному проявлялась в его поэзии.
Уже в первом сборнике, мы находим такие строки:
Петух возвещает чуть свет,
Что ночь позади;
Кукушка - что столько-то лет
Ещё впереди.
Куку или кукареку -Значенье одно: Что сыплется (будь начеку!) Струёю зерно.
Ты знаешь, есть птица одна, Она не поёт:
Лишь время, как семя, она
Неслышно клюёт.[12, Т.1, С.58]. Показательно, что к сравнению времени с зерном, смерти с некой птицей, Чиннов будет возвращаться и в более поздних сборниках. Например, в книге «Композиция» мы читаем следующее:
Дни мои, бедная горсточка риса...
Быстро клюёт их серая птица. [12, Т. 1, С. 262] А в «Антитезе» неведомая птица станет более конкретной, само стихотворение приобретёт несколько шутливый тон, но не вызывает сомнения, что это варианты одной и той же темы:
И смерть запела канареечкой,
Остаток зёрнышек склевав.[12, Т.1, С. 381]. Следует обратить внимание на то, что особое значение Чиннов придавал основному свойству времени - его текучести. Потому так часты сравнения времени с водой (рекой), песком:
Наклонись над рекой, погляди:
Тень твоей головы и груди
Неподвижна, как если бы в пруд
Ты гляделся; а воды текут
Мимо тени, тебя и всего,
Мимо светлого дня твоего.
Значение и художественная выразительность пространственно-временных соотношений в поэзии И. Чиннова
В 60-е годы Чиннов всё больше отходит от традиций «парижской ноты» и всё настойчивее ищет путей обновления русской поэзии, постепенно приобретая славу главного новатора эмиграции середины XX века. Литературные круги Русского Зарубежья с интересом наблюдали за его экспериментами и, необходимо заметить, не всегда положительно реагировали на них, по-прежнему воспринимая автора как приверженца «аскетического» направления в литературе. Но, тем не менее, критики отмечали, что при всей неожиданности некоторых стихотворных образов, способов рифмовки и т.д., ни вкус, ни чувство меры ни разу не изменили поэту1. В одном из писем Роману Гулю, главному редактору «Нового журнала», Чиннов объяснял, что же заставило его искать новых путей в поэзии, и намечал тенденции своих дальнейших нововведений:
«Как-то сложилось мнение (считают, что, в частности, благодаря Кленовскому и Алексеевой) , что эмигрантская поэзия дудит всё в одну, причём очень старомодную, дуду. Я хоть и стараюсь всегда «немного новаторствовать», освежать, но не из-за пристрастия к мелодичности, акварелизму, «ювелирности» и пр. новаторство моё не бьёт в глаза и заметно только читателю очень внимательному и очень искушённому. Вот отчего, думается, стихотворение «Тени войны на замёрзшей дороге» уже своим явным модернизмом должно бы нежелательные для всех нас обвинения в старомодности несколько ослабить... У меня было уже так много «облаков», «закатов» и пр. явных красивостей, что при всей замысловатости, с которой я их подаю, всегда подавал, пользоваться ими уже почти невозможно. И вот нынешний мой приём - сочетание слов явно выспренних, как «порфира», «золотая лилия», «осанна», «фимиам», со словами сугубо будничными, как «рюмка» или «стакан чаю». Ни в «Монологе», ни в «Линиях» этого почти не было. Там было использование до отказа, до конца почти всех «акварельно прелестных» слов. Теперь я не отрицаю своего эстетства, но стараюсь, должен дать что-то новое. Надо бы мне несколько отойти от логики в стихах. Заранее прошу вашей терпимости к некоторым «странным словосочетаниям». Ведь логика - не самодержавная хозяйка в стихах, и не следует полностью (как это делают многие талантливые эмигрантские поэты) игнорировать факт уменьшения логики в современной иностранной поэзии и вообще всё то, что в этой поэзии делается. Не нужно быть рабами моды, но не нужно и костенеть в провинциализме. И уж вовсе не полагается нам, свободным, казаться провинциальнее советских поэтов» [12, Т.1, С. 34-35].
Собственно говоря, в этом письме Чиннов уже наметил основные направления, по которым и развивалась в дальнейшем его поэзия.
Во-первых, сочетание поэтизмов, так называемых «высоких» понятий с элементами разговорной речи, зачастую даже с грубой простонародной лексикой, имеющую порой ярко выраженную негативную окраску («На свадьбе пьянствовали и горланили, как будто в Кане Галилейской» [12, Т. 1, С. 453]; «По аллее магнолий Офелия шляется» [12, Т. 1, С. 190]; «сокруши-ка, Судьба, врата адовы, / Улыбнись ты, Дурёха Ивановна» [12, Т. 1, С. 236]). Но подобные сочетания у Чиннова всегда уместны, его стихи никогда не звучат грубо или пошло. Чувство художественного вкуса нигде не изменяет поэту, он мастерски использует стилевые контрасты, и постепенно этот приём становится одной из главных, узнаваемых деталей его поэтического почерка.
Во-вторых, отказ от логики. Это привело Чиннова не к алогичной бессмысленности, а к гротескности - то есть к усилению смысла за счёт чрезмерных преувеличений, фантасмагорий, слияния, казалось бы, противоположных по сути образов. (Хотя Чиннов не чуждается фантазии и в своих ранних сборниках, позднее эта тенденция многократно усиливается). Созданные им образы то забавны, то откровенно устрашающи, то немного трогательны («...жабе не до сна, / Верно, в прежнем воплощенье / Соловьем была она» [12, Т. 1, С. 85]; «Сердце сожмётся - испуганный ёжик / В жарких ладонях невидимых Божьих» [12, Т. 1, С. 314], а в более поздних стихах-гротесках: «Химеры, великаны-тараканы / На Гулливера квакают квакваны» [12, Т. 1, С. 246], в коробке сардинок «лежал человечек и мирно курил» [12, Т. 1, С. 444] и т.д.). И, тем не менее, в стихах, пусть даже грешащих против логики, должен быть смысл, считал Игорь Чиннов, ведь поэт, прежде всего, что-то хочет сказать своим творением, и поэтому было бы правильно, если бы его можно было понять.