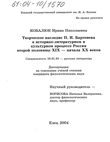Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. В.Набоков и другие: проблема контекстуальных связей его творчества в критике и литературоведении 13
Глава 2. Литература эмиграции первой волны: панорама идей и стилей 53
Глава 3. Роман В.Набокова «Дар» на фоне жанровых и стилевых приоритетов эмигрантской прозы 70
Глава 4. Проблематика воплощения и поэтика «присвоения реальности» в прозе В.Набокова 98
1 «Машенька»: мнимая очевидность быта и творческие притязания памяти 101
2 «Защита Лужина»: тайная партитура судьбы 111
3 «Чужаяречь мне будет оболочкой»: англоязычный дебют Набокова-романиста 134
4 «Географическая» образность в романе «Лолита» 155
Глава 5. Поэтика соперничества: Набоков и писатели-эмигранты среднего и младшего поколений Рассказ «Уста кустам»: стилевое соревнование за право наследования 166
1 Гумилевские подтексты в романах Г.Газданова и В.Набокова 180
2 Метафора «жизнь как сон» в романах Б.Поплавского и Б.Набокова 193
Глава 6. На перекрестье традиций: русские и западноевропейские подтексты в произведениях Набокова От Владимира Дарова - к «Дару» Владимира: В.Брюсов и В.Набоков 211
1 Ритмический «сбой» как маркер агнозии в романе «Лолита» 230
2 Эдгар По в художественном сознании русского Серебряного века и в произведениях В.Набокова (к генеалогии «Лолиты») 240
3 Метафизика перевода и «гибридизация языков» в романе «Под знаком незаконнорожденных» 261
Глава 7. «Ничья меж смыслом и смычком...»: микростилистика Набокова Стихотворение «Вечер русской поэзии» сквозь призму фона- и графосемантики 284
1 Выразительные возможности набоковской пунктуации 288
2 Стилевой эффект «истекаиия» реальности из звука 298
3 Лирические «артикли» в прозе 307
Заключение 320
Библиография 326
- В.Набоков и другие: проблема контекстуальных связей его творчества в критике и литературоведении
- Литература эмиграции первой волны: панорама идей и стилей
- Роман В.Набокова «Дар» на фоне жанровых и стилевых приоритетов эмигрантской прозы
- «Машенька»: мнимая очевидность быта и творческие притязания памяти
Введение к работе
«Реальность - это бесконечная последовательность ступеней, уровней восприятия, двойных донышек, и потому она неиссякаема и недостижима»1.
(Из интервью В.В.Набокова телевидению Би-Би-Си в июле 1962 г.)
Использованная в качестве эпиграфа фраза Набокова была произнесена им в одном из целой серии интервью 60-х годов, которые он дал западным масс-медиа. Это десятилетие стало хронологическим пиком популярности писателя на Западе и началом серьезного, академического изучения его творчества. Обвал читательской признательности и - как следствие - лавинообразный рост набоковедения в послепере-строечной России вряд ли возможно было предвидеть, но, кажется, именно в 60-е годы у Набокова окрепла уверенность в счастливом будущем своих книг на родине. Настроив «свой внутренний телескоп» на эту «точку в отдаленном будущем» , писатель возобновил свой «роман с русской литературой». Самые яркие свидетельства тому - созданные в это десятилетие русская версия «Лолиты» и перевод «Евгения Онегина».
Однако «русская муза» не покидала писателя и в годы его англоязычного творчества, напоминая о себе наплывами лирических стихотворений и, что еще важнее, во многом определяя стилистический тембр его «американской» прозы. Собственно, даже его металитератур-ные суждения, собранные в книге интервью «Твердые мнения», отражают никогда не прерывавшуюся связь писателя с интеллектуальной и художественной атмосферой русского «серебряного века».
1 Nabokov V. Strong opinions. - N.Y., 1990. P. 11. Цит. по: В.В.Набоков: Pro ct Contra. T.l. -
СПб., 1997. С. 140 (пер. М.Маликовой).
2 Формулировки В.Набокова из его интервью Олвину Тоффлеру, опубликованному в
журнале «Плейбой» (январь 1964). Цит. по: Указ. соч. С.162 (пер. М.Маликовой).
Так, комментируя свой тезис о «неисчерпаемости» и «недостижимости» реальности, Набоков в уже упомянутом интервью подкрепляет свое положение характерной иллюстрацией: «Если мы возьмем, например, лилию или какой-нибудь другой природный объект, то лилия более реальна для натуралиста, чем для обычного человека. Но она куда более реальна для ботаника. А еще одного уровня реальности достигает тот ботаник, который специализируется по лилиям»3.
Идея «многоуровневости» реальности и «многоступенчатого» приближения к ней объяснена Набоковым предельно ясно, так что иллюстрирующая ее «лилия» выглядит случайно подвернувшейся частностью. Но если предположить, что адресатом набоковского высказывания будет не зритель британской общеобразовательной телепрограммы, а знакомый с русской литературой начала века читатель, семантическая валентность примера, несомненно, возрастет.
«Лилия» в качестве эстетического аргумента намного больше скажет тому любителю поэзии «серебряного века», который знаком, положим, с поэтической практикой Константина Бальмонта или Игоря Северянина. А еще больше - тому, кто знает не только стихи, но и эстетические декларации начала века. Последний, возможно, сумеет расслышать, как резонирует набоковский пример, скажем, со знаменитым предложением «заумника» Алексея Крученых заменить «затасканное» слово «лилия» сконструированным им словом «еуы» .
'Там же. С. 139.
4 См.: Крученых А. Декларация слова как такового // Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания. / Сост. В.Н.Терёхина, Ф.П.Зименков. М., 1999. С. 44 (пункт 5). Ганс заманчивей будет, оттолкнувшись от признания одного из набоковских персонажей-поэтов в любви к «итальянской музыке аллитераций» (в рассказе «Тяжелый дым»), раскрыть соответствующий словарь и найти там «лилию» в иноязычной звуковой оболочке - nimfe, а потом перечитать «Лолиту», учитывая эту «потустороннюю» латинскую фонетику текста. Какой вариант художественного «инобытия» лилии эстетически продуктивнее - «еуы» или «нимфетка» (по сути, итальянизированная «лилечка») - сегодня уже не требует обсуждения: история литературы все расставила по своим местам. Авангардные тактические придумки Крученых оказались не годящимися в подметки «неоклассическим» стилевым стратегиям Набокова. Хотя, что особенно примечательно, в обоих случаях «перевода» лилии на другой язык использован один и тот же прием - остранения, смещения восприятия, буквенно-звукового «сдвига». Все дело том, что в первом случае автором руководило тщеславие авангардиста, претендующего на «революцию в искусстве», а во втором - набоковском -
Разумеется, почти полувековое расстояние между высказыванием Набокова и российскими внутрилитературными спорами начала XX века снижает доказательную силу использованного примера. Однако он, этот пример, позволяет схематично обозначить главную для настоящей работы историко-литературную проблему и одновременно указать на хронологические границы исследовательского обзора. Речь пойдет главным образом о преломлении худоэ/сествепных традиций русского «серебряного века» в творчестве В.В.Набокова 1920-1950-х годов.
Конечно же, представления о сути любой писательской индивидуальности зависимы от того культурно-эстетического фона, на который соответствующие произведения писателя проецируются исследователем или рядовым читателем. Так что историко-литературная реальность «феномена Набокова» в еще большей мере являет собой «последовательность ступеней, уровней восприятия», чем «реальность» «какого-нибудь... природного объекта» из приведенной выше цитаты.
В этом смысле имманентный, сугубо «формоориентированный», так сказать, «микроскопический» анализ набоковских текстов, как и противоположная филологическая тактика - «телескопический» взгляд на Набокова в контексте «мировой литературы» , - дают в качестве исследовательского результата иной уровень «реальности», чем «специализированное» изучение компонентов его стиля на фоне современных Набокову художественных тенденций.
Общее направление набоковедения за сорок лет своего существования существенно менялось и итоге (на сегодняшний день) радикально изменилось: от преимущественно мотивно-тематического, «изолированного» анализа его произведений - к выявлению контактных связей и ти-
забота о сохранении классической иерархии эстетических вкусов, настрой на художественную эволюцию, но никак не революцию.
5 Отсутствие какого бы то ни было контекста («нулевая» степень историко-литературною фона) приводит к тем же результатам, что и его безграничное расширение, потому что в последнем случае любая историко-культурная аналогия оказывается сугубо произвольной, внеиерархичной и служит не конкретизации, а, напротив, размыванию историко-литературного статуса изучаемою автора.
7 пологических пересечений набоковской прозы с широким кругом художественных явлений. Более того, сам вектор сопоставительных исследований тоже постоянно уточнялся: доминировавший поначалу фон западноевропейского и американского модернизма и постмодернизма к началу 1990-х годов перестал быть единственной «контекстуальной призмой». Весомые результаты были достигнуты в изучении связей Набокова с русской художественной традицией6; наконец, стали появляться работы о взаимодействии Набокова с современными ему писателями русской эмиграции. Однако тематический размах подобных работ был и остается настолько широким , что представлениям о Набокове-писателе по-прежнему недостает историко-литературной системности.
Во многих набоковедческих штудиях, особенно посвященных интерпретации его конкретных произведений, писатель все еще выглядит «надмирным», исключенным из литературного процесса первой половины XX века. Его взаимодействие с вершинными явлениями русской и мировой литератур (например, с наследием Пушкина, Тютчева, Данте, Шекспира) нередко описывается без учета рецепции этих явлений в современной Набокову литературной среде.
Разумеется, почти любая историко-литературная параллель потенциально способна быть эвристически продуктивной. Так, не вызывает сомнений, например, перспективность изучения «диалогов» писателя с русскими классиками XIX века или его взаимоотношений с классиками европейского модернизма М.Прустом, Дж. Джойсом, Ф.Кафкой и др. Однако стилевая тональность этих взаимодействий и тем более их смысловая направленность во многом определялись творческими импуль-
6 Такова, в частности, монография и соответствующее диссертационное исследование
А.В.Злочевской (см. библиографию).
7 Например, С.Конова видит в набоковских произведениях диалог с философскими
текстами Платона; П.Мейер интерпретирует «Лолиту» как пародийную перелицовку «Евгения
Онегина», а в «Бледном огне» находит отражения «Слова о полку Игореве»; С.Шуман сопоставляет
«Лолиту» с «Кентерберийскими рассказами» Д.Чосера и «Путешествиями Гулливера» Дж.Свифта //
Pro et Contra. Т. 1-2 (см. библиографию).
8 сами, рожденными ближайшей Набокову художественной эпохой. Вот почему одно из привилегированных, если не главное место в лестнице контекстов, ведущих к «истинному» Набокову, на наш взгляд, должно принадлежать русской литературе конца XIX - начала XX века.
Главной целью нашей работы и является системное описание контактных связей и типологических соответствий творчества Владимира Набокова - и художественного наследия сформировавшей его как писателя эпохи рубежа XIX и XX веков. На наш взгляд, подобная систематизация необходима прежде всего для того, чтобы в конечном счете ответить на главный вопрос, встающий перед любым исследователем, имеющим дело с наследием автора набоковского калибра (из всех русских прозаиков второй трети XX века по масштабу дарования с Набоковым сопоставим, на наш взгляд, разве что Андрей Платонов).
Это вопрос о смысле творчества Набокова и его, творчества, результатах. Подчеркнем: дело не столько в том, чтобы уточнить направ-ленческую «прописку» Набокова (на сегодняшний день, увы, все еще влиятельно представление о нем как о «постмодернисте»). Речь идет о самых важных для художника вещах: о понимании Набоковым миссии писателя и о его работе с языком - работе, целью которой было эту миссию исполнить. Набоков, в отличие от А.С.Пушкина, не написал своего «Памятника», в котором бы дал ясные ответы на эти вопросы. Вероятно, на то у автора «Лолиты» были веские причины; мы же попытаемся хотя бы отчасти прояснить их.
Но чтобы приблизиться к пониманию Набокова, необходимо сочетание макро- и микроскопического путей анализа, единение литературоведческого и языковедческого способов описания (хотя бы потому, что, как мы надеемся показать, главный герой набоковского творчества есть русский язык, творящий великую литературу - иногда в иноязычной, английской или французской оболочке). Отсюда неизбежность синтетической описательной модели, которая используется в на-
9 стоящей работе: изначально ориентированная на конкретную историко-литературную проблему, она посвящена пограничной (одновременно литературоведческой и лингвостилистической) сфере «содержания и формы», той зоне взаимопроникновения «духа» и «материи», в которую не проникнуть иначе, как через филологический анализ8.
Потому отдельные главы работы написаны в методологическом ключе, близком традиционному, академическому литературоведению, но есть в ней фрагменты, в которых автор книги сознательно приближается к условной границе, одновременно разделяющей (в сознании филологов-специалистов) и объединяющей (в восприятии по-набоковски «хороших» читателей) разные отрасли филологического знания.
Вероятно, нашу методологическую позицию можно было бы проиллюстрировать указанием на прецеденты подобных подходов (их немало как в отечественной, так и в мировой филологии). Для жанра вступления, вероятно, довольно будет одной, но принципиальной отсылки: мы сознательно ориентировались на труды Е.Г.Эткинда как на образцы «высокого» филологического стиля. «Форма как содержание» - вот одновременно название его академического шедевра и предельно краткое обозначение той отечественной филологической традиции, которой мы пытались следовать в настоящей работе.
«Материя стиха» - вновь и название капитального труда Е.Г.Эткинда, и указание на стержневую идею диссертации: прозаическое наследие В.Набокова мы видим как поэзию, «притворяющуюся» прозой, как искусство «перевода» высших поэтических свершений начала XX века - через опыты поэтической драматургии - в иное жан-рово-родовое пространство - в «неоклассическую» прозу В.Сирина-На-бокова.
8 «Любой крупный поэт образует школу не только благодаря непосредственному воздействию, но и потому, что его рабочая комната является кафедрой стилистики», - писал один из литературных учителей Набокова (А.Белый «Символизм». М., 1910. С.241; курсив наш).
Необходимо сделать еще несколько предварительных оговорок. Типологическое сопоставление поэтики и стиля Набокова с индивидуальными поэтиками и стилями (или стилевыми манерами) других мастеров слова представляется нам более предпочтительным, чем изучение его персональных контактов с «другими», хотя последнее не исключается. При этом нас интересует серия сопоставлений не только по историко-литературной «вертикали» (с русской классикой начала XX века), но и в «горизонтальной» плоскости взаимодействия Набокова с другими «младоэмигрантами» - Гайто Газдановым и Борисом Поплавским.
Мы отдаем себе ясный отчет в том, что работа носит весьма предварительный, «черновиковый» характер: она пестрит неизбежными лакунами, ее композиция мозаична. Она стремится к систематизации, но заполняет лишь часть позиций намечаемой типологической классификации. При этом мы учитывали степень историко-литературной разработанности тех или иных аспектов сопоставительного изучения творчества Набокова и творчества мастеров предшествующей эпохи.
Так, важное в контексте нашей темы сопоставление творческих практик В.Набокова и И.Бунина стало сравнительно недавно предметом детального исследования М.Д.Шраера , поэтому в настоящей диссертации «бунинский контекст» восприятия набоковской поэтики представлен минимально. Подобными же соображениями обусловлено приоритетное внимание к сопоставлению Набокова с теми из русских символистов, кто до сих пор почти не привлекал внимания исследователей и комментаторов его наследия - В.Брюсова и И.Анненского10 (темы
9 Этой теме посвящена объемная глава «Набоков и Бунин» в его монографии «Набоков:
Темы и вариации» (СПб.: Академический проект, 2000. С. 128 - 192).
10 Один из самых филологически чутких современных поэтов А.С.Кушнер полагает, что,
вероятно, В.Набоков оказался равнодушным к поэзии И.Анненского. Вот как он говорит о
воображаемых спорах с писателем в период его, А.С.Кушнера, знакомства с набоковскими
произведениями: «...Допустим, Аннеиский, которого я так люблю, и кажется, ну вот кою бы и
Набокову любить. А выясняется, что ...вроде бы пет». См.: Кушнер А.С. Выступление на вечере
памяти В.В.Набокова // Набоковский вестник. Вып. 1. Петербургские чтения. Спб.: «Дорн», 1998.
С.256.
«Набоков и Блок» и «Набоков и Белый» к настоящему времени изучены существенно глубже).
Большая часть фрагментов, из которых составлена эта историко-литературная мозаика, изначально публиковались как самостоятельные статьи или разделы учебных пособий. Мы посчитали возможным сохранить этот формат и в диссертации, так чтобы потенциальный читатель мог познакомиться с ней, самостоятельно формируя «маршрут чтения»: не обязательно читать работу целиком, довольно будет знакомства с избранными главами, каждая из которых представляет собой законченную миниатюру. Издержки подобной композиционной манеры очевидны (они в том, что отдельные формулировки, примеры или даже литературоведческие метафоры повторяются в разных главах диссертации).
В этом смысле структура работы определяется не только методологическими, но и методическими соображениями: диссертация адресована не только «профессиональным» набоковедам, но и более широкому кругу филологов, интересующихся, в частности, литературой русской эмиграции первой волны. Потому первая глава диссертации посвящена обзору современного состояния набоковедения, вторая - общей зарисовке стилевой панорамы русского литературного «зарубежья»; и только потом следуют фрагменты общей картины взаимодействий Набокова с Серебряным веком.
Особо стоит сказать о той главе работы, в которой речь идет о западноевропейском контексте творчества Набокова: нам представляется, что это не инородная, а органичная часть исследования, потому что в ней говорится об усвоенной и колоссально развитой Набоковым традиции прямых диалогов русской поэзии (в особенности «золотого» и «серебряного» ее веков) с западным культурным наследием.
И последнее: диссертация не состоялась бы без щедрой помощи и поддержки, в разные годы оказанной автору его коллегами. Особую
12
благодарность хотелось бы выразить А.П.Авраменко (Москва),
Л.Г.Андрееву (Москва), В.В.Агеносову (Москва), А.Г.Баунову (Афины-
Москва), Е.М.Болдыревой (Ярославль), Б.С.Бугрову (Москва),
Н.Ю.Буровцевой (Тайвань), Маринэ Галстян (Ереван), Ж.В.Грачевой
(Воронеж), Д.С.Грачевой (Воронеж), Томасу и Вирджинии Грегг
(США), Т.Д.Дажиной (Москва), Э.С.Даниелян (Ереван), О.А.Демидовой
(Санкт-Петербург), О.В.Дефье (Москва), О.А.Джумайло (Ростов-на-
Дону), М.А.Дмитровской (Калининград), Д.Б.Джонсону (США),
Е.Г.Домогацкой (Москва), И.М.Дубровиной (Москва), Е.А.Ермолину
(Ярославль), В.А.Зайцеву (Москва), Д.В.Казакову (Ярославль),
М.Д.Казаковой (Москва), А.В.Кеба (Каменец-Подольский), Л.Г.Кихней
(Нерюнгри - Москва), Н.В.Климовой (Елец), Л.А.Колобаевой (Москва),
Н.З.Кольцовой (Москва), Б.В.Кондакову (Пермь), С.И.Кормилову (Мо
сква), Т.В.Кортава (Москва), В.Е.Красовскому (Москва),
Т.В.Кулешовой (Днепропетровск), Т.Г.Кучиной (Ярославль),
Г.А.Левинтону (Санкт-Петербург), Л.С.Логахиной (Москва),
К.А.Медведевой (Владивосток), И.Г.Милославскому (Москва),
М.В.Михайловой (Москва), М.В.Немцеву (Курск), Т.А.Никоновой
(Воронеж), М.В.Новикову (Ярославль), Е.Н.Ольшанской (Москва),
О.М.Орловой (Москва), М.Г.Павловцу (Москва), С.Я.Паркеру (США),
Т.А.Пахаревой (Киев), Е.А.Певак (Москва), Я.В.Погребной
(Ставрополь), Н.Н.Позднякову (Винница), А.Г.Покровскому
(Ярославль), М.Л.Ремневой (Москва), С.Ю.Родоновой (Ярославль),
Л.Н.Рягузовой (Краснодар), О.Ю.Сконечной (Москва),
Е.Б.Скороспеловой (Москва), Т.Смородинской (США), А.Г.Соколову (Москва), Б.М.Соколову (Москва), Н.М.Солнцевой (Москва), И.Ф.Удянской (Москва), В.И.Фатющенко (Москва), Д.М.Фельдману (Москва), Л.Чернейко (Москва), Т.Г.Шеметовой (Улан-Удэ), Г.А.Шпилевой (Воронеж), В.Л.Шуникову (Ярославль), А.Г.Шешкен (Москва), Н.М.Щедриной (Москва), И.В.Юговой (Москва).
В.Набоков и другие: проблема контекстуальных связей его творчества в критике и литературоведении
Тема творческих связей Набокова с «серебряным веком» - не новость в набоковедении. Обсуждение этого аспекта эстетической родословной писателя восходит к тем оценкам отношения Набокова к русской художественной традиции, которые были высказаны эмигрантской критикой. Диссонансом преобладавшему мнению о «нерусскости» молодого писателя, о его чужеродности отечественным традициям и принципиальном «западничестве»11 прозвучало утверждение Г.Струве, который еще в 1930 году указал на преемственность Набокова по отношению к наследию Андрея Белого, а позднее повторил эту оценку в книге «Русская литература в изгнании».
Вслед за Г.Струве на тематические или стилистические переклички прозы Набокова с произведениями его русских предшественников или старших по возрасту современников стали эпизодически указывать и другие критики-эмигранты. Чаще других Набокова ставили рядом с Иваном Буниным, однако проводились и другие параллели, например, с Леонидом Андреевым или Федором Сологубом, а иногда даже с В.Брюсовым.
Сам писатель почти не вмешивался в споры о стилевых истоках его творчества. Впрочем, отвечая в 1932 г. на прямой вопрос Андрея Седых об отношении к обвинениям в «нерусскости», Набоков не стал отрицать своей близости «западной культуре»16. Правда, он уточнил, что речь может идти о «французском», но никак не «немецком» влиянии, и назвал в числе своих любимых писателей Флобера и Пруста. Одновременно самыми близкими себе русскими писателями Набоков признал в этом интервью Гоголя и Чехова, ни словом не обмолвившись о художниках начала XX века.
Говорить о своих литературных «учителях» было не в характере Набокова, предпочитавшего, как это вообще свойственно первоклассным мастерам, имидж самодостаточного и независимого художника17. Кроме того, в писательских автокомментариях, проливавших свет на его отношение к ближайшим по времени «предтечам», в пору расцвета литературы русского зарубежья (начало тридцатых годов) не было особой необходимости: эта культура непосредственно продолжала традиции «серебряного века».
Как относительно целостная художественная система литература русского зарубежья сформировалась на эстетическом фундаменте, заложенном в первые два десятилетия века, а главный «повелительный на- каз», полученный эмиграцией от нации, виделся художникам диаспоры именно в сохранении культурного наследия, завещанного «серебряным веком».
Разумеется, смысл этого «наказа» интерпретировался разными писателями зарубежья по-разному, но его источник был очевиден. Впрочем, в самом начале своего эмигрантского писательского пути, в начале 20-х годов, еще будучи «подмастерьем», Набоков мог открыто декларировать свою преемственность по отношению к «серебряному веку». В ранней поэзии Набокова проявлением этой связи было откровенное ученичество у таких разных поэтов предшествующего поколения, как А.Блок и И.Бунин, имена которых фигурируют в заголовках или посвящениях его лирических стихотворений.
Да и первые образцы набоковской прозы, созданной на английском языке19, кажутся вольным переводом фрагментов «серебряновечного» художественного дискурса, хотя уже юношеская проза Набокова намного сложнее «устроена», чем его ювенильная поэзия. Вот, например, фраза из эссе «Расписное дерево», будто выписанная из «Условностей» М.Кузмина: «Искусство сопрягается с природой столь удивительным путем, что трудно сказать — то ли закаты создали Клода Лоррена, то ли Клод Лоррен создал закаты» .
Сравним набоковскую фирмулировку с высказыванием М.Кузмина: «Конечно, парадокс Уайльда, что "природа подражает искусству", и остается парадоксом, и лондонские закаты не учились у Тернера, но мы то выучились видеть их глазами этого фантаста. Современность (столкновение мировоззрений, настроений, желаний, ненавистей, увлечений, мод) более доступна влиянию, и неизвестно еще, влияла ли среда и современность на Достоевского, или наоборот. Я именно думаю, что наоборот»21.
Книга статей М.Кузмина вышла в свет в Петрограде (в издательстве «Полярная звезда) в том же 1923 г., что и англоязычное эссе В.Набокова. Процитированный выше фрагмент этой книги в первый раз появился в составе статьи-фельетона М.Кузмина «Скачущая современность», опубликованной в газете «Биржевые ведомости» . В явной перекличке идей только что завершившего к тому моменту обучение в Кембридже В.Набокова и одного из признанных мэтров русского искусства начала XX века М.Кузмина помимо общей близости их эстетических установок показательно сходство более специального, стилевого порядка: оба автора апеллируют к примерам из живописи, но при этом подразумевают (Набоков) или тут же прямо высказывают (Кузмин) мысль о непосредственной соотнесенности литературы и жизни.
Литература эмиграции первой волны: панорама идей и стилей
Несовпадение культурно-языковых и национально-политических единств - нередкое в истории цивилизаций явление. Переселение, миграция, рассеяние этнокультурных общностей были не менее влиятельными факторами эволюции человечества, чем возникновение и укрепление народов и государств. В XX веке взаимосвязанные геополитические процессы консолидации и энтропии, стабилизации и перекройки карты мира ускорились и приобрели особый драматизм.
В геополитическом смысле массовая русская эмиграция, вызванная событиями 1917 - 1920 годов, не выглядит событием исключительным, не знающим прецедентов: очевидные исторические параллели можно, например, обнаружить в отъезде за рубеж значительной части немецкой культурной элиты в 30-е годы или в чилийской политической эмиграции начала 70-х годов XX века. Не является чем-то уникальным и кратковременное существование в иноязычной среде творчески активных «культурных центров»: «русский Берлин» 20-х годов вызывает ассоциации с «немецкой Прагой» первой четверти века, давшей как минимум двух писателей общеевропейского уровня — Ф.Кафку и Г.Мейринка.
Тем не менее историко-культурная значимость «русского рассеяния» 20-30 годов беспрецедентно весома. И дело не столько во впечатляющих количественных параметрах русской диаспоры (эмигрантская печать начала 20-х годов оценивала численность русских за рубежом в 2-3 млн. человек; странами проживания для русских стали около 30 государств), сколько в качественных характеристиках культуры русского зарубежья.
Культурная элита эмиграции воспринимала «исход» из России не как способ выживания, но как исполнение особой духовной миссии. Идее строительства «нового мира», возобладавшей в Советской России, была противопоставлена идея хранения извечных основ человечности, стоического приятия испытаний как посланных Богом, нравственного сопротивления планетарному злу. В качестве ближайшей, наиболее актуальной, была воспринята задача сохранения ценностей русской культуры — с тем, чтобы передать эти ценности следующим поколениям. Видный мыслитель зарубежья Г.П.Федотов говорил о «повелительном наказе», полученном эмиграцией от нации, — «нести наследие культуры».
В понимании многих философов и художников эмиграции, однако, их «священная служба» не ограничивалась «музейно-рес-тавраторской» деятельностью, и адресат их «миссионерства» был шире любых национальных и конфессиональных границ. «Мы некий грозный знак миру и посильные борцы за вечные, божественные основы человеческого существования, ныне не только в России, но и всюду пошатнувшиеся», — писал И.А.Бунин в статье «Миссия русской эмиграции». Именно понимание судьбоносности переживаемых «роковых минут» давало культурному ядру зарубежья тот заряд творческой энергии, которая позволяла преодолевать чувства покинутости, отчаяния и бессильного гнева. Уверенность в нравственной авторитетности своего «слова» — в полном соответствии с национальной духовной традицией — подкреплялась вполне реальными фактами «мученичества», жизненными лишениями, выпавшими на долю экспатриантов.
Интеллектуальная и общественно-политическая атмосфера послевоенной Европы, давшей приют русской диаспоре, была во многих отношениях неблагоприятной для беженцев, и в этом — еще одно заметное отличие русской эмиграции от сходных исторических явлений последних двух веков. Польская эмиграция в XIX веке (последовавшая за подавлением восстания в 1831 году) или немецкая эмиграция в XX веке (после прихода к власти Гитлера) приводили к сравнительно быстрой интеграции пришельцев в культуру приютившей страны: эмигранты воспринимались как «политические беглецы» и пользовались сочувственной поддержкой правящих кругов. Напротив, русские эмигранты XX века в большинстве случаев надолго оставались для Европы «чужаками»60 (исключение в этом отношении составляли Чехословакия и Королевство сербов, хорватов и словенцев — будущая Югославия: отношение к русским там было сочувственным).
Отчасти повинны в этом были сами русские переселенцы, не спешившие переходить на языки своего нового окружения. Показательно, что известный своим многоязычием В.Набоков, проживший в Берлине пятнадцать лет, всегда подчеркивал, что немецкого языка не знал и не желал знать и что близкое к совершенному владение английским и французским языками было «вывезено» им из России.
Роман В.Набокова «Дар» на фоне жанровых и стилевых приоритетов эмигрантской прозы
Как относительно целостная эстетическая система литература русского зарубежья формируется в первой половине 1920-х годов. Первые шаги ее становления связаны с осознанием уникальности самого феномена русской эмиграции и с решительным размежеванием литераторов-эмигрантов с политикой и культурной практикой Советской России. Прежде всего это сказалось на жанровом репертуаре эмигрантской прозы: высокая степень политической ангажированности писателей привела к безусловному господству публицистики в литературной жизни зарубежья 1921 - 1924 г.
Дань публицистическим жанрам в той или иной мере отдали почти все известные литераторы старшего и среднего поколений. Открытое письмо европейской общественности, воззвание, программная статья, актуальный публицистический комментарий, живые свидетельства очевидцев революции и гражданской войны (часто в форме дневниковых записей или фрагментов записных книжек), политически ангажированный некролог - вот наиболее распространенные жанровые формы публицистики , к которым обращались Д.Мережковский и З.Гиппиус, И.Бунин и А.Куприн, Н.Бердяев и И.Ильин.
К середине 20-х эмигрантская проза постепенно преодолевает жанрово-стилевые диспропорции, связанные с уклоном в публицистику, и восстанавливает традиционный баланс эпических жанров - рассказов, повестей, романов. При этом складывается новая, на этот раз тематическая диспропорция: материалом для художественной разработки гораздо чаще оказывается дореволюционное российское прошлое, чем современная жизнь диаспоры. Главным объектом творческого осмысления и преображения для писателей-эмигрантов стал материал прошедшей жизни.
Важна и ведущая стилевая закономерность: единство крупного эпического произведения, как правило, обеспечивалось не столько последовательным развитием сюжетных схем и стабильностью ансамбля персонажей, сколько композиционными ресурсами иной - лирической -природы (единством эмоционального тона, повторами тематических мотивов, сокращением или даже устранением дистанции между автором и героем). Эти стилевые тенденции особенно ярко проявились в мемуарно-автобиографической прозе эмиграции.
Различные виды мемуаристики заняли одно из центральных мест в общей жанрово-родовой системе литературы диаспоры и во многом определили специфику литературного процесса зарубежья. Бурный интерес к мемуарным жанрам проявился и в литературе метрополии. В ряду самых ярких образцов «литературы воспоминаний» 20-30-х годов - мемуарная трилогия Андрея Белого («На рубеже столетий», «Начало века», «Между двух революций»), «Шум времени» О.Мандельштама, «Охранная грамота» Б.Пастернака, «Полутораглазый стрелец» Б.Лившица, «Встречи» В.Пяста. Однако именно в эмиграции количественный рост мемуарной и автобиографической прозы приобрел лавинообразный характер.
Сохранение национальной памяти стало не только индивидуальной писательской потребностью, но было осознано как важнейшая общая миссия диаспоры, как коллективно-историческая задача эмиграции. Деятельность Русского Заграничного исторического архива в Праге, устойчивая традиция празднования юбилеев писателей-классиков, циклы конференций по русской истории и литературе, а также возникновение специальных «мемуарных» рубрик в литературной периодике зарубежья («Из литературных дневников», «Записки писателя» и т.п.) - все эти социокультурные формы хранения «исторической памяти» создавали благоприятный контекст для развития мемуаристики и в «высокой» литературе. Именно мемуарно-автобиографическая проза зарубежья стала той жанрово-стилевой сферой, в которой быстрее всего происходило сближение и взаимообогащение неореалистических и модернистских принципов письма, а былые творческие расхождения между «реалистами» и «модернистами» существенно уменьшались.
Временное дистанцирование превратилось для многих писателей эмиграции в дистанцирование экзистенциальное - чувство завершенности целой эпохи и осознание абсолютной невозвратимости прошлого. Сам феномен эмиграции зачастую получал в мемуарах крупнейших мастеров русской прозы не столько конкретно-историческое, сколько метафизическое истолкование: рубеж, отделявший вынужденных переселенцев от России, осмыслялся не в терминах пространства и времени, но в категориях метаисторического философствования (жизнь и смерть, экзистенциальный выбор, волевое «освобождение» от истории во имя вечности). Заметно в мемуарно-автобиографической прозе писателей диаспоры и стремление семиотизировать свою жизнь - выстроить в стройный логический ряд разрозненные факты своей биографии, подчинив ее некоей «верховной идее», придав прошлой жизни статус «потерянного рая».
«Машенька»: мнимая очевидность быта и творческие притязания памяти
Дебютный для Набокова роман «Машенька» был воспринят русскими берлинцами и парижанами как роман об их собственной жизни с ее унылым настоящим и невосстановимым прошлым, овеянным летучей поэзией воспоминаний. Сюжетное время романа — одна из апрельских недель 1924 года — приходится на первое в истории русской эмиграции массовое кочевье — переезд большей части русской колонии из Германии во Францию. Само место действия — скромный берлинский пансион по соседству с городской железной дорогой — напоминало о неустроенности полувокзального быта эмигрантов, о призрачности их «теневого»109 существования на чужбине.
Лишь один из семи персонажей, по-драматургически компактно собранных автором в этом пансионе, доволен берлинской жизнью и, видимо, способен укорениться в ней. Это Алексей Алферов — мелкий служащий, называющий себя математиком и внешне напоминающий провинциального учителя той своеобразной породы, что была выведена на страницах прозы Ф.Сологуба. Алферов лишь недавно приехал в пансион и намерен остаться там надолго: вскоре к нему должна присоединиться его жена Мария, приезда которой из России он с нетерпением ждет.
Впрочем, своему ожиданию Алферов уже в момент своего первого появления в романе склонен придавать более широкий, хотя поначалу и неясный собеседнику смысл. Он провоцирует главного героя романа Ганина на «символистскую» интерпретацию того житейского недоразумения, которое на первой странице романа свело их вместе в застрявшем лифте: предлагает видеть «нечто символическое» в их «встрече», в «неподвижности», в «великом ожидании» (РП;11,46-47)П0.
Если последовать этим интертекстуальным подсказкам, явно вложенным в уста Алферова автором романа, то выяснится, что загадочная для читателя Мария подозрительно напоминает пародийный вариант младосимволистской мифологемы Вечной Жены в ее наиболее характерном «блоковском» варианте. Ожидание ее «воплощения», т.е. приезда в Берлин, и встречи с ней определяет эмоциональное состояние Ганина и Алферова. Со слов последнего читатель узнает, что Машенька обожает загородные прогулки и что воссоздать ее облик способен только поэт. Именно поэту Подтягину — еще одному временному обитателю пансиона — предлагает Алферов описать «такую штуку, как женственность, прекрасная русская женственность...» (РП;11,56).
Сразу же оговоримся: сравнительная внешняя простота первого набоковского романа, его драматургическая компактность и ясность композиции не настраивают читателя на поиск какого бы то ни было «второго плана» повествования. Неуместное умничанье Алферова воспринимается поначалу как одна из граней его вездесущей пошлости - наряду с хамоватой навязчивостью, бестактностью и бытовой неряшливостью. Лишь в общем контексте набоковской прозы в «Машеньке» проступают пока еще осторожные экскурсы автора в сферу пародийной интертекстуальности, обыгрывания излюбленных тем и мотивов поэзии начала XX века.
В романе сравнительно немного словесной игры и того тонкого плетения «тематических узоров», которое позднее станет отличительной чертой набоковского стиля и позволит исследователям говорить о «семантическом тоталитаризме» Набокова — всеохватном авторском контроле над своим текстом.
Привлекательной для первых читателей романа была выразительность описаний городского пейзажа111, меткость портретных характеристик обитателей пансиона и, конечно же, чувственная фактура воспоминаний героя. Большая часть повествования ориентирована на точку зрения Ганина, с которым автор поделился остротой и сложностью своего восприятия, а также своей памятью о России.
С момента, когда благодаря плохонькой фотографии Ганин узнает в алферовской жене свою первую возлюбленную (Машеньку), он в течение четырех дней воссоздает в своей памяти полнокровный образ России, который стремительно замещает в его сознании берлинскую явь и становится подлинной и навсегда сохраненной для героя реальностью. Сюжетная завязка, таким образом, одновременно знаменует переворот в восприятии Ганина: от инерционного бездействия он переходит к созиданию, к интенсивной работе воображения, которая и позволяет ему в итоге вновь обрести контакт с реальностью, точнее говоря, «присвоить» эту реальность.
Интересно, что завязке непосредственно предшествует еще одно «установочное» высказывание любителя «символов» Алферова: «Пора нам всем открыто заявить, что России капут, ... что наша родина, стало быть, навсегда погибла» (РП;11,63) .